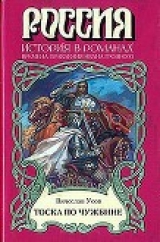
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц)
7
Сосны гудели над красным обрывом речки Пачковки близ устья Каменца. Одна из них покряхтывала дробно, будто дятел бил по стволу. Жаловалась на верховой ветер, и в старости не оставлявший её в покое. Арсений любил уходить сюда через малые воротца у Нижних решёток, сам с собою играя в тайный побег из монастыря, хотя никто не приглядывал за ним. Долго ещё по возвращении из Пскова преследовал его скрипучий, въедливый голос Еразма. Какая-то настырная, навязчивая сила сохранялась в старце, его воспоминания и неожиданные мысли опутывали разум и зацеплялись, как рыболовные крючки, вынуждая думать и спорить даже тех, кто не хотел. Неупокой – хотел. Еразм сумел увлечь его в бездну вечного спора о судьбе и праве русского крестьянина. Общение с Арсением что-то молодое всколыхнуло в нём, он признавался: «Временами мнится мне, что земная жизнь моя кончилась много лет назад, в Москве. Там я негодовал и творил жаром сердца, ныне же я, по Писанию, не холоден и не горяч».
Поскуливание сосны стало совсем тоскливым, между ознобленными до красноты стволами запорхали сухие снежинки. Арсений спустился в долину Пачковки, потом вниз по её течению, мимо безработной мельнички и деревни Нави. Туда он заходить не стал, а, углубившись в прибрежный лесок, отыскал тропу. Она вела ко двору Вакоры, стоявшему на отшибе, за монастырской пашней. Её пахали наездом монастырские детёныши, а две избы возле неё были заброшены. Сегодня, к удивлению Неупокоя, над припорошённой озимью стлался дымок.
В покинутые избы вселились новые жильцы: над крестьянской Россией сиротливым ноябрьским ветром вольно отшумел, а для кого отплакал, Юрьев день, многие семьи побросали старые дома, наскрёбши рубль с алтыном пожилого, чтобы рассчитаться с помещиком, и побрели к новым хозяевам. Монастыри охотнее других давали льготы.
Двор и сад Вакоры располагались дальше, в глухой части долины, у устья одного из многочисленных ручьёв-оврагов, впадавших в Пачковку справа. У устья образовался голый взлобок с пологим выходом на водораздел. На нём начиналась пашня-кормилица, простиравшаяся выше, за перегиб склона. Нижняя часть её была уже пущена под пар, мёрзлая травка пробивалась сквозь заиндевелую щётку жнивья. На нём, похрупывая стебельками, паслась стреноженная кобыла-двухлетка, часто поворачивая простодушную морду к дому, на запах дыма.
Дом стоял ниже, на речной терраске. К реке, как водится, тянулся длинный огородец, над самым руслом – банька. Но крепче и внушительнее дома выглядел хлев или конюшня, сработанная некогда хозяином-чухонцем из валунов. К избе, топившейся по-чёрному, была пристроена холодная клеть, где хозяева спали до поздней осени, укрываясь овчинами и согревая друг друга остатками любви. Всю её вытеснили, заместили заботы о подраставших детях да домовитая, такая человеческая жадность. Кто не скитался, не терял, не голодал, тот может осуждать её.
Чем больше узнавал Неупокой Вакору, тем глубже убеждался в животворной прочности его гнезда. Войдя в избу, ещё не выдохнувшую остатки дыма, он увидел зыбку, подвешенную к матице[17]17
...подвешенную к матице... – Матица – балка, брус поперёк всей избы, на который настлан потолок.
[Закрыть] на крепких вервиях, а дальше – выскобленный стол и лавки, чёрные с исподу полати с наваленными на них зипунами, наконец – саму печь с громадным жерлом и бережливым подтопком, в случае надобности только согревавшим избу.
Жена Вакоры, прищурив красноватые глаза, задвигала в жерло горшки. На замазанном глиной поду печи она помнила каждую выбоинку и точно обводила мимо неё горшок, чтобы не опрокинуть. Вряд ли у пушкаря, задумавшего вбить ядро в бойницу башни, бывал более прицельный, заострённый взгляд.
Ребёнок в зыбке таращился спокойно, понимая, что престарелой матери не до него. Да и наслушалась она за жизнь детских воплей и зудений, ими её не прошибёшь. В зыбку было щедро подстелено свежее сено. Чистая тряпица так обматывала малыша, что угревала только плечи и животик, а всё, что текло и выпрастывало из него, проходило сквозь сено и дырки плетёного дна – на глинобитный пол. Расшитые узорочьем пелёнки да подгузники – для бар, крестьянам возиться с ними недосуг.
Малыш взглянул на Неупокоя любопытным бычком. Тряпица-пелена мало-помалу ослабла от постоянных шевелений и усилий, озябшие оголившиеся локотки непрерывно подрагивали, дёргались, используя всю отвоёванную свободу. «Крестьянская природа, – смутно подумалось Неупокою. – Не терпит пелён... Развяжется». Он спросил женщину:
– Где осударь твой?
– В лесу. И дочерь со старшим там. Заготовляют...
Она оставила горшки и почтительно повернулась к Арсению. Он изумился, как эта иссохшая женщина, без единой жиринки под тёмной, прокалённой кожей, сумела родить и выкормить грудью крепкого мальчишку.
– Далеко ли его делянка?
– На неё, батюшка, колея ведёт. С лета трудилися, заготовляли, после Николы зимнего вывезут. – Она склонилась к зыбке и с едва намеченной улыбкой подтвердила сыну: – Никола с гвоздём придёт, ни веточки не пропадёт!
День Николая Мирликийского, изображавшегося с острым посохом, отмечался шестого декабря. В сознании русского человека «гвоздь» его сочетался с первыми колючими морозами.
Намятая по мёрзлой травке колея повела Неупокоя в глубину бора, просторно и глухо разросшегося по коренным берегам Пачковки до самого Чудского озера. В лесном затишье над ранним снегом стыли лишь бронзовые перья папоротника да спутанный можжевельник. Монашеские сапоги, сшитые из тяжёлой, но долговечной кожи, проваливались в моховые мочажины, по снегу расплывалась ржавая водица. Около часа шёл Арсений по лесу, в просвете каждой полянки ожидая увидеть дровосека, а колея всё не кончалась, то трудно переползая овражные отвершки, то простираясь отдохновенно по чистому верховому бору. Подмороженная рябина справа и слева была обобрана – хозяйственная дочь Вакоры времени даром не теряла.
Неупокой грелся на ходу, лакомился рябинкой, жадно всасывая горько-сладкую льдистость ягод и непонятно отчего испытывая ликование. В небе разволокло снежную мглу, солнышко скупо подмаслило облачную кашу, лес всякой хвоинкой и даже омертвевшими кленовыми листами тянулся к обманному теплу. А на одну сосну Неупокой залюбовался – так умело сбирала она небесный свет: веточка из-под веточки простиралась, выгибаясь и хитро прорастая, чтобы ни лучика не пропустить зря, а если где-то жучком точило или вихрем ломало сук, в просвет тут же устремлялась жадная поросль. Этот природный труд не нужно было направлять и понуждать, а только не мешать ему излишней рубкой и воровской добычей живицы-смолы у корня... Вот она – суть крестьянская, угадывал Неупокой: всё в государстве требует досмотра и принуждения – суд, войско, дорожное и градское строительство, одна крестьянская работа движется как бы сама собой, вечной природной необходимостью и очевидной пользой. Мы с неё только живицу сбираем, корье да дрова, а беспредельные стяжатели ещё и корни подрубают... Тут он услышал удары топора.
Вакора рубил сушняк. Во всяком старом лесу вдоволь сухих стволов, заблудших среди живых. Их хорошо валить, пока не выпали глубокие снега, чтобы не оставлять пеньков, засоряющих деляну. Дочка и сын Вакоры собирали сучья, укладывали их в высокие плотные кучи. Рядом росла поленница нарубленного долготья. В углу деляны горел костёр, создавая такое нужное трудящемуся человеку впечатление обжитости. В чёрном котелке томились листья мяты, иван-чая и брусники – лесной сбитень на мёду.
– Сладок да запашист, – оценил его Неупокой, испив из деревянной чашки. – Не страшна тебе зима, Вакора, как иноку не престрашна смерть, всегда готов...
Посмеиваясь без угодливости, Вакора тоже подошёл к костру. Глядя, как он пьёт, Арсений заново оценил выражение «пришлось по нутру». И самому ему так хорошо, тепло сиделось возле Вакориного костерка, что даже возмечталось не о монашеской, а о крестьянской доле. И говорилось с Вакорой легко – о важном и простом: зиме, кормах, январской вывозке назьма на паровое поле и о печи, которая теперь уже не остынет до весны.
Возвращались домой в сумерках с нетяжёлым грузом – лошадка тоже не железная по бездорожью-то. Дочка, одним терпеливо-робким взглядом испросив разрешения отца, взгромоздила поверх дров корзину с подмороженной рябиной. Умаявшийся сын безропотно тащился рядом, не позволяя себе цепляться за санные обводы. Словами, как и лаской, Вакора не баловал детей, не развлекал. Только у поворота на Пачковку, когда колея окончательно пошла под уклон, а лошадь оживила шаг, он произнёс в чернеющее небо:
– Разгрузим, станем воду в колодце слушать.
По радостно притихшим детям Арсений догадался, что предстояла некая таинственная игра – обычай, связанный с Юрьевым днём. Вакора намеренно упомянул о ней при иноке-приставе, косвенно испрашивая у него разрешения, – обычай слушать воду пришёл из языческих времён. Неупокой не знал его, Вакора объяснил:
– По воде в колодце узнаем, какая предстоит зима. Шумна, метельна али морозна.
– Сбывается?
– Люди толкуют, что сбывается. Детишкам радость. Нам, я чаю, не соблазн?
– Послушаем, – разрешил Неупокой, растроганно улыбаясь в темноте.
Никогда он не испытывал к посторонним людям такого тихого доброжелательства и бескорыстной любви. Это было счастливое и оживляющее чувство, его ведь и искали, о нём толковали святые подвижники – по большей части тщетно. Эта любовь была укромной, как огонёк в косящатом окошке.
Скоро оно и засветилось – под самой крышей Вакориной избы.
Воду в колодце слушали до ужина – общение с природными силами возможно только натощак. Как и причастие, заметил про себя Арсений. Колодец был старый, вырытый одновременно с возведением каменной конюшни, но поновлённый и вычищенный Вакорой. Два свежих венца на срубе белели в загустевшей тьме.
Таким же белым казался новый платок жены Вакоры, вышедшей к колодцу. Все тихо встали возле сруба, склонив к невидимой воде невидимые лица. Кто ведает, подумалось Арсению, только в небесной или ещё в подземной глубине родятся, прозябают вьюги и вкрадчиво-жестокие морозы грядущих зим? Где их начала и причины? Может быть, воды, перетекающие под землёй, в слепой несуетности своей так же предчувствуют погоду, как птицы или змеи. Человек слишком мало знает, чтобы отвергать древние языческие догадки, он больше забывает, чем узнает... Провал колодца казался бездонным, лишь запах сырого дерева и камня убеждал в близости воды.
Она была тиха, как небо со звёздными обсевками (так мелки были звёзды, так терялись в сквозном туманце). Но каждый слышал шум своей крови, биение сердца и сдержанное дыхание других. И каждый что-то тревожное знал о будущем. И вот теперь все их потаённые знания, сплетясь, устремились во тьму колодца подобно вервию с пустой бадьёй. Оттуда послышался гулкий удар и, будто слитный стук цепов на неведомом гумне, смягчённые удары деревянных колотушек по снопам.
– Озимые богато уродят, – истолковал Вакора.
– То пушки да пищали, – бездумным вещим голосом откликнулась жена.
ГЛАВА 2
1
Зима начала 1577 года была озарена каким-то серебристым морозным ожиданием, обыкновенно сопровождающим всякую перемену власти. Нелепое правление Симеона Бекбулатовича кончилось. Его сплавили в Тверь, и деятельность земщины и государева двора восстановилась в привычном образе. Единство возродилось не только в государстве, но и в растерянных и оскорблённых душах подданных.
Что делалось в душе царя, затеявшего эту глумливую игру в удельные порядки или новую опричнину, никто не тщился угадать. Даже хитроумный Афанасий Фёдорович Нагой, достигший доверительной и опасной близости к государю, не дерзал заглядывать в её клубящуюся мглу, рождавшую то грозных ангелов, то жестоких уродов. Афанасию Фёдоровичу хватало чина дворового воеводы, полученного по наследству от Скуратова и Умного-Колычева. Их тайные дела перешли в его руки с ловкими и нежными пальцами, украшенными восточными перстнями. Годы жизни в Крыму оставили на лике, повадках и воззрениях Нагого неизгладимый след, чем-то привлёкший государя: «А ныне ни в земском, ни в опричном никому не верю; послужи ты нашей милости».
Опричное безвременье Нагой провёл в Бахчисарае, в интригах и переговорах с алчными, вероломными людьми, рискуя жизнью не меньше, чем на поле боя. По возвращении в Россию он не сразу осознал, что изменилось в русских дворянах, запуганных взаимным доносительством. Не слишком ловко он устроил для государя действо – допрос вернувшихся из Крыма пленных, якобы знавших об измене московских воевод... Что они слышали и знали, бедные!
Он вовремя понял, что государю нужно дело. Умелая и искренняя служба. Он ни в чём не стал соперничать с Годуновыми, принявшими его с холодноватой доброжелательностью. Дмитрий Иванович недавно стал боярином, Борис – кравчим. Они, не отвлекаясь, берегли домашний государев обиход, отношения с царевичами казались им важнее тайных дел. А у Нагого не было желания разбираться в семейных пристрастиях царя.
Афанасию Фёдоровичу нетрудно было усвоить новый взгляд на самодержца, чья непререкаемая власть символизировала силу государства. Страх визирей перед султаном, карачиев перед ханом казался ему естественным. Помня о хищном своеволии наместников, тугой неисполнительности приказных и своенравии народа, слишком просторно жившего в своей стране, он верил, что самодержавство внесёт порядок в русскую жизнь. Дела военные, посольские и судебные Нагой считал главными, хозяйство – второстепенным. Иван Васильевич нашёл в нём единомышленника, подобного Скуратову, только умнее и мягче нравом.
Он тоже искал верных слуг. Подобно государю, он их искал «ни в земском, ни в опричнине», присматриваясь к тем, кто не был повязан старыми обязательствами и в то же время принадлежал к хорошим родам. Семейные связи по-прежнему имели в России первостепенное значение. И как государь после двадцатилетней опалы приблизил Шуйских, а за ними князей пожиже, вроде Трубецких, так и Нагой перебирал княжат, прижившихся в затишье дворов царевичей. Так он набрёл на Михайлу Монастырёва – не без подсказки царевича Ивана, с которым Афанасий Фёдорович поторопился установить тёплые отношения, помня о будущем.
Во время допросов и казни Елисея Бомеля, а позже – Протасия Юрьева Монастырёв едва не попал в пыточный подклет. Бог весть, почему Бомель не назвал его в числе других доверенных царевича, он в беспамятстве выбалтывал все имена подряд... Вторично повезло Михайле, как и во время казни новгородцев на Поганой луже. А ныне и со службой повезло. Монастырёв понравился Нагому характерными дворянскими повадками и взглядами. Михайло был из простодушных, смелых и незломысленных людей, умеющих прощать и забывать изжитую опасность. Но он чувствовал, что засиделся на последних местах, неприличных потомку князей Белозерских. К Нагому пошёл с охотой и надеждой.
Напомнив Монастырёву о его службе у Умного-Колычева, Афанасий Фёдорович на пробу назвал имена Рудака, Козлихи и Неупокоя. Михайло подтвердил – были такие люди, да вряд ли живы. Он догадался, что Годунов передал Нагому всё, что принял как предсмертную исповедь от Умного. О Неупокое они побеседовали особо, и тут Михайло ничего не скрыл. Проверки убедили Афанасия Фёдоровича, что новый служилый не станет держать запазушного кистенька. Нагой назначил Михайле хорошее жалованье и добился, чтобы ему прирезали земли к именьицу в Порховском уезде.
На просьбу отпустить его для досмотра владений и смены приказчика Нагой ответил: «Не спеши, поедешь скоро на государевом овсе». Едущие по казённой надобности снабжались сменными лошадьми, кормом для них и прогонными деньгами. Михайле оставалось ждать.
Меж тем в Москву пришли дурные вести: принц Магнус, неудачливый король Ливонии, ходил с московским и немецким войском под Ревель, но, кроме опустошения окрестностей, ничего не добился, сжёг лагерь и снял осаду. Зима в Ливонии выдалась необычно снежной, дороги переметало за ночь, люди замерзали даже по дороге в кирхи, неся крестить детей, – так неожиданно налетели на побережье снежные бури. Во время урагана в Ревеле сорвало колокола, погибло много зазимовавших кораблей... После ухода Магнуса ревельцы бросились грабить мызы под Дерптом – Юрьевом, где обосновались русские помещики. Скот уводили, русских убивали, на ревельском торгу за счёт награбленного подешевели товары. Случалось, немцы и чухонцы, склочничая из-за добычи, грабили своих. Их летучие отряды дошли до самого Пернау, взятого год назад Никитой Романовичем Юрьевым... Проклятый Ревель так же не давался русским, как Рига – литовцам.
Близилась Пасха. В Москве открыто толковали о войне. Было известно, что избранный недавно король Литвы и Польши Стефан Баторий – Обатура – ушёл под Гданьск приводить к верности забунтовавших горожан. В Южной Ливонии остались немногочисленные литовские войска Ходкевича и Полубенского. Люди Нагого переправили в Ревель письма, угрожавшие осадой – на сей раз всем государевым войском. Шведы и ревельцы спешно поновляли укрепления, из Риги им послали запасы ржи и пороха.
Светлое воскресенье пришлось в том году на седьмое апреля. Известно, что солнышко в Пасху играет на восходе... Михайле Монастырёву оно воистину играло и сияло, он никогда не чувствовал такой заботы и доброжелательности со стороны начальников. По службе он числился теперь при князе Тимофее Романовиче Трубецком – стараниями Нагого, разумеется. Князь Трубецкой и Черемисинов готовились к какому-то важному предприятию, для чего подбирали решительных людей. Но даже Монастырёву они не открывались. «Жди Боярской думы», – посмеиваясь, осаживал его Нагой.
Кое-что прояснилось из одного застольного разговора на Святой седмице у Трубецких. Хмельные гости расхвастались, как водится, о своих предках, и сам Михайло не утерпел, пошёл считать колена от князей Белосельских-Белозерских, пока хозяин Тимофей Романович не перебил его своим резким, неприятным тенорком:
– Слава не в том, чей род древнее, бо все мы от Адама; кто твоим предкам служил, вот в чём честь! Моим – князи Полубенские...
Нагой, сидевший на почётном месте, сжал тонкие губы, звякнул ложкой. Хозяин не заметил, пел себе:
– Наш род – от князя Брянского-Трубчевского, сына Ольгерда, ему и предки Полубенского служили!
Афанасий Фёдорович не выдержал:
– Князь Тимофей! За столом бы не фабулами гостей потчевать, а горячим вином! Знать, угощать не хочешь...
Известно было, что Афанасий Фёдорович вина не жалует, пьёт квас да кислое молоко. Михайло вовремя вспомнил завет Умного: «Догадался, прикинься уродливым, от тебя не убудет». Князь Полубенский был «вицерентом рыцарства литовского» в Ливонии, первым товарищем Ходкевича. Не с ним ли предстояло дело Трубецкому? Тимофей Романович спохватился, забил в ладоши, чтобы внесли и фряжского, и нашего, горячего.
Несколько знатных свадеб отзвенело на Красную горку, вторую неделю после Пасхи. Но Дума, открывшаяся на третьей седмице, вряд ли порадовала юных жён. Царь и бояре приговорили: быть войне!
Михайло, впрочем, никого не огорчил своим внезапным и тайным отъездом в Псков. Только одна молодка из посадских, чья прелесть заключалась в почти бескорыстной покорности, сказала ему в тёмной баньке заговор на путь: «Еду я из поля в поле, во зелёные луга, по утренним и вечерним зорям. Умываюсь ледяной росою, облекаюсь облаками, опоясываюсь звёздным поясом. Одолень-трава! Не я тебя поливал, не я саживал...»
2
Борис Годунов, даже на мартовское солнце выходя, чувствовал на лице зеленоватую тень Постельного крыльца. Он при всякой возможности охотно уходил в неё не только по совету дяди, но и по собственному природному чутью. Даже отказался от тайных дел, попавших в его руки после гибели Умного. На то была своя причина, свой расчёт.
После смещения Симеона Бекбулатовича и неудачного похода Магнуса под Ревель государь снова ощущал провальную душевную пустоту, усугублявшуюся домашним одиночеством. Дети не радовали, раздражали и тревожили его, особенно Иван, к которому отец испытывал то бессознательную злость, то трепетную заботливость, будто царевич с годами не мужал, а становился всё беспомощнее, уязвимее. Домашние терзания государя никого не занимали, кроме Годуновых, но уж от них-то требовали полной отдачи и самоотверженности. Так получилось недавно при избиении царевича Ивана, когда Борис едва не поплатился жизнью.
Иван дерзил отцу. Чем хуже шли дела, тем откровенней и высокомерней была его ухмылка за обеденным столом, упорнее молчание, недавно разрешившееся воплем: «Ты мне жизнь заедаешь, не тебе жить с Еленой, мне!» Царь, разведя сына с двумя жёнами, не сумел воспротивиться новому сватовству к Елене Шереметевой, племяннице известных воевод Ивана и Фёдора. Он не обманывался в их скрытой недоброжелательности, проявившейся и на последнем Земском соборе. Брак сына со «змеёй из вражьего гнезда» представлялся далеко идущим заговором... Тут ещё Ревель: сын упрекнул – просил-де он послать его с войском вместо Магнуса! Иван Васильевич не терпел напоминаний о неудачах, тем более упрёков; кинулся к сыну с воплем о курице и яйцах, с брызганьем слюны сквозь жёлтые зубы... Случившийся рядом Борис только руки протянул, прося опомниться, помиловать родную плоть, и государь, в чьём сердце окончательно запутались любовь и злоба, выместил злобу на Годунове. После второго удара железной свайкой с костяной рукоятью Борис упал, надеясь, что лежачего не бьют. Его ещё побили мягким сапогом по рёбрам, свайкой – по затылку. Царевич выбежал из комнаты с криком: «Зверь, зверь!» Борис не помнил, кто унёс его в чулан.
Очнулся он уже не на Арбате, а на Ильинке, в доме Строгановых. По прежним гостеваниям он помнил этот тесноватый, с низкими потолками покой, обитый плотной тканью с ёлочками. В углу стоял резной раскрашенный мужик из дерева – художество пермских умельцев. Над изголовьем – иконка тонкого письма, будто не кистью, а пером рисована. И лёгкий запах то ли хвои, то ли свежей воды... Борис пошевелился, шея заболела, в голове поднялось гудение.
В горницу заглянул слуга, за ним – хозяин Яков Аникиевич. Спокойный, грустный, худощавый человек с бородкой, сильно припорошённой сединой. Слуга внёс бадейку с тёплыми примочками, сам Яков Аникиевич – стеклянный достаканчик с целебной травяной настойкой. Строгановы считались знатоками травного лечения и, между прочим, по заветам деда щедро использовали самую целебную траву свороборину, она же – зверобой, растущую в Сибири. Бориса охватило тёплое и горькое чувство: о нём, всецело посвятившем себя заботе о государевой семье, заботился не дядя, а посторонний человек.
Правда, со Строгановыми у Годуновых ещё при жизни старика Аники сложились и приятельские, и деловые отношения. То приходилось добывать особых соболей «про государев обиход», то красную соль или грязь-валу, полезные при государевой подагре, – на всё у Строгановых находилось умение и возможности. Годуновы приложили руку к записи Строгановых в опричнину, обезопасив от правежей. Через Щелкаловых и Годуновых Семён и Яков Аникиевичи получали разрешение на очередной захват уральской землицы, вооружение своих людей и возведение городков. Из русских промышленников только они и могли соперничать с англичанами.
Борис, облегчённый примочками, утешенный настойкой, откинулся на жёсткий подголовник. Слуга ушёл, Яков Аникиевич молча похаживал по горнице. Скрипнула половица. Хозяин приостановился, но Годунов сказал:
– Ништо! У тебя, Яков, и половицы не скрипят – поют.
Дом Строгановых нравился не одному Борису. Всё было здесь устроено удобно и пригоже, но без излишеств.
– Не дядюшка ли отвёз меня к тебе? – спросил Борис.
– Вестимо. Подальше от Арбата... Впрочем, государь уже справлялся о твоём здоровье.
– А царевич?
Яков Аникиевич не ответил, не желая врать. Между Борисом и царевичем Иваном не было теплоты, доверия, будто Иван раз навсегда приревновал его к брату Фёдору и, по отцовской подозрительности, предвидел в нём соперника. Предположение нелепое, но ни Борисовы потачки, ни подлаживания, ни даже нынешний подвиг не вызвали у Ивана ответного чувства. Лежала на Борисе и грязная тень палача-тестя; царевич относился к опричнине с тем большим омерзением, что государь насильно втягивал его в тогдашние зверства.
– От государей мы ждём не благодарности, а только прихотливой милости, – задумчиво сказал Яков Аникиевич. – Счастлив, кто нужен государю. Ты нужен. Стало быть, лежи спокойно, выздоравливай. Да головой не шевели, не поднимайся, сильно тебя ударили по голове.
– Мыслить-то можно?
– В меру.
Борис закрыл глаза. Как много печальной правды в словах многоопытного Якова. И как укромен, невзирая на все богатства, русский торговый дом... У англичан сама королева – пайщица Московской компании. Слово торговых мужиков, как именует их государь, властно звучит в парламенте на всю страну. У нас таких, как Строгановы, единицы, и те не знают, под чьё крыло забиться, чтобы не грабили, не обижали. Разве так можно торговать и промышлять, не ведая, когда тебя ограбят? Прав Еремей Горсей: незыблемая, обеспеченная законом собственность – единственная основа промышленности и торговли. Но она останется тщетной мечтой всякого русского, от боярина до последнего посадского, чьи собственность, и жизнь, и честь – в государевых руках...
Вряд ли Борису пришли бы такие раздражённые и свободные мысли, если бы его не побили. Не разум – кости возмущались. Холодным разумом он постигал, что прижимать торговых мужиков не столько государю выгодно, сколько дворянам: дай волю таким, как Яков Аникиевич, они самих Годуновых закупят с потрохами. Их надобно держать в пределах... Но в каких? Кто угадает полезные для нашей страны пределы, кроме боговдохновенного разума царя?
Борис уходил в сон, как в убежище.
Он прожил в доме Строгановых недели две, с ними говел на Страстной и встретил Пасху. У государя, когда Борис явился с расписным яичком, ждала его нечаянная, но, как всё в жизни Годуновых, исподволь подготовленная радость.
Царь похристосовался с ним и объявил:
– Время оженить Феденьку.
У малоумного царевича была одна невеста – Ирина Годунова. Борис очень любил сестру. Тихая умница Ирина была ему ближе жены и дяди, он только с нею утешался в редких неудачах своей дворовой жизни, с ней откровеннее, чем с дядей, делился радостями. Брак её с Фёдором заранее вызывал у Бориса естественную, протестующую брезгливость, жестоко подавляемую ради высокой цели: хоть Фёдору и не наследовать престола, одна причастность рода Годуновых к царскому прославит его в веках, даже если оставить в стороне нынешние выгоды. Да и темна вода: однажды государь уже лишал Ивана права наследования в пользу Магнуса. Пусть гневная прихоть его была так же вздорна, как постановление Симеона Бекбулатовича, сама невероятная возможность подмены Ивана Фёдором кружила голову... Вдруг замелькали дни подобно столбам замета на полном скаку – не упустить бы свадебной Фоминой недели. При соблюдении обычаев всё совершается легко, удачно и супротивники молчат. Спешно готовили приданое, Ирину заперли в светёлке – вышивать убрусы жемчугом.
Ирина вышивала и пела песни. Вот до чего она была охотница – петь да играть лебединым пёрышком, что вовсе не в девическом обычае. Однажды, заслушавшись её несильным серебряным голоском, Борис обнаружил, как оказались чудесно переиначены слова одной знакомой с детства песенки. Позже он убедился, что Ирина не просто распевает с девушками, а сочиняет песни и их охотно поют другие. До сей поры он с восхищением наблюдал, как сочиняет духовные стихиры государь... И вдруг – сестра! То, что она писала на бумаге, ему просесть не довелось, Ирина надёжно прятала написанное.
Царевич Фёдор относился к невесте с покорным обожанием. Когда же после скромной свадьбы ему сказали, что отныне он её господин, в его несильном умишке произошла сумятица, он будто ещё светлее обезумел. И прежде его поступки было трудно предсказать, у Годуновых уходило немало сил на обуздание безобидного юродивого, а тут ангел-хранитель и вовсе отворотился от него. Фёдор стал рваться на свободу, вершить по-своему, и получалось неловко, неприлично... В день, когда Дума приговорила – быть войне, Фёдор забрался на колокольню и начал дёргать за все верёвки. Неурочный звон вызвал на Арбате суеверный переполох.
– Почто звонил? – грозно спросил его отец.
– Приказано, – темно объяснил царевич.
В беседе с Годуновым Иван Васильевич высказал такое неожиданное, почти кощунственное сомнение: если о детях так печалится родительское сердце, то кто они – Божье благословение или наказание до смерти? Да и за гробом душа не успокоится, всё будет взывать, как в новгородском завещании: «Ты, сын Иван, не обижай брата Фёдора...»
Иван Васильевич снова был одинок. Последняя жена, подсунутая покойным Колычевым, сгинула в Тихвинском монастыре. Освящённый Собор уже не мог разрешить государю шестой брак. Он же был глубоко семейным человеком, ему необходим был и близкий друг, и Божье благословение на совместную жизнь. Он любил отдохновение в домашнем кругу, его нестойкий норов нуждался в тесноте семейного обихода, в женском приветливом присмотре. Что делать, если жёны, кроме Анастасии и Марфы Собакиной, обманывали его ожидания! Борис, наученный неудачным опытом дяди, не пытался подыскивать государю подругу, положился на судьбу.
Свято место не бывает пусто. Многие ненароком являли государю своих едва расцветших дочерей. Иван Васильевич смотрел на них любопытным, оценивающим, но не горящим взором. На свадьбе сына пошутил: «Мне бы вдовицу, куда мне девок по моему старческому возрасту!»
Бог или бес услышал – подослал вдовицу.
Василиса Мелентьева достигла тех зрелых лет, когда от женщины исходит прощальное, жадное и сладостное беспокойство, подобное запаху ранней осени. Вдова приказного, убитого в опричнину, она была взята во дворец для присмотра за государевым питием. Дмитрий Иванович Годунов принял её без задней мысли, пленившись её умением сытать меды и чистотой. Встречаются такие женщины – с врождённым, почти болезненным неприятием всякой грязи, ставшим частью характера. За Василисой присмотра не требовалось, она сама нагоняла страху на сытников. Государь её увидел и пленился... Бог знает чем. Ну, правда, неизвестный современник отозвался о ней: «Зело урядна и красна».
Борис заметил, что отношение государя к Василисе было увереннее и здоровее, чем к юной Васильчиковой. Что-то в их встрече было естественное и – долгожданное. Будь государь обыкновенным дворянином, всякий сказал бы, что он наконец нашёл себе хозяйку по душе. Но, разумеется, вокруг внезапной государевой любви задолго до свадьбы и молитвы на сожитие, отложенных на осень, закружился обычный хоровод вкрадчивых пройдох и родичей. Кто-то из спальников полез в гору, были попытки вмешаться даже в высокие дела, решительно обрезанные Нагим. Борис устранился ото всех этих исканий и хлопот – не только угадывая временность царского увлечения, но и потому, что чувствовал себя выше их. Даже царедворец имеет право на нравственный отдых. В костромской семье Годуновых не было ничего похожего на путаные метания государя между любовью и злобным самодурством. Ирина тоже способствовала выработке у Бориса чистого и уважительного взгляда на женщин, что создавало некоторую неловкость, непонимание между ним и государем... Впрочем, подготовка к летнему походу вскоре так заняла Ивана Васильевича и ближних людей, что даже Василиса была отставлена на время, тихонько затерялась в закоулках арбатского дворца.







