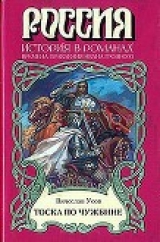
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 42 страниц)
Игнатий последним подошёл под благословение игумена. Отец Антоний был уже стар, лицо его болезненно опало, истощилось, как бывает с беспокойными людьми подвижной жизни, не накопившими запаса на случай недуга. Зато запас какой-то мрачной требовательности Антоний прикопил с избытком. Смотреть ему в глаза было и тяжко и боязно, даже немного стыдно, будто бы он постоянно уличал тебя в сокрытом умысле. Игнатий обратил внимание, что иноки старались не задерживаться перед игуменом, торопливо и неплотно прикладываясь к его руке, скорее отстранявшей и указующей, чем благословлявшей.
И всё же руки Антония понравились Игнатию. Их застарелые мозоли были окружены мельчайшими бороздками той несмываемой черноты, какую дают земля и копоть, пашенный труд и разжигание костров. Антоний уже не работал в поле и по таёжным тропам отходил своё, но подвиг его жизни был несмываемо запечатлён на ладонях его. Рассказы об этой жизни-подвиге ходили даже по Москве, тем более по Северу; Игнатий с доверчивой жадностью собирал и впитывал их. Они казались готовыми кусками будущего жития святого, и многие были уверены, что оно будет во благовремении составлено.
Крестьянский сын, детство и юность Антоний провёл в одном из самых северных станов Двинской волости, на Кяхте. В Новгородской земле, включавшей и Поморье, грамотность считалась необходимой не только боярским и посадским детям, но и крестьянам. Мальчика отдали учиться. Дьячок скоро заметил в нём сильный ум и тягу к иконному писанию. Сверстники, овладев началами письма и счёта, взялись за сохи и капканы, Антоний же – тогда он был ещё Андреем – продолжал изучать Писание. Отец его разорился, продал свой надел. Между тем, как позже записал человек, хорошо знавший Андрея, он к двадцати годам был «мощен и крепок зело, в трудех велми мужествен, яко за двоих моцно ему трудиться и за три...». Он мог поднять расшатанное отцовское хозяйство, но вместо этого продался в холопы к новгородскому боярину. Странническая тяга тогда впервые проснулась в нём, Новгород исстари славился такими беспокойными землепроходцами.
Возможно, этот уход от собственного хозяйства был самоиспытанием. Андрею нужно было пройти через «рабское состояние», через унижение холопства и выйти из него своими силами. Во всяком случае, он никогда не бегал от работы, его тянуло к вполне земным, хозяйственным делам – и у боярина, и в Пахомиевой пустыни, куда он удалился, выкупившись на свободу. Там его постригли под именем Антония. Было ему тридцать лет. В Москве правил великий князь Василий, а сын его Иван ещё не родился.
Вскоре Антоний принял и священнический сан. Устойчивая, сытая, наполненная любимыми делами жизнь ждала его на четвёртом десятке лет. Но, видно, даль и Север неизлечимо отравили душу Антония. Уговорив двоих монахов – в лесу одному не выжить, – он бросил Пахомиеву пустынь и за лето спустился на долблёнке по реке Онеге до Шелексы. Зимой они перебрались через лесной водораздел в долину реки Емец, к порогу Тёмному.
Путь был нешуточный. Когда Игнатий думал о нём, воображая трёх иноков, в поисках пущего уединения пробиравшихся через северные леса и скудную лесотундру, одна соблазнительная мысль поразила его: Антоний, сильный человек с ярким воображением скитальца, живописца, книжника, до пострига, до тридцати лет, не женился и, судя по устремлённости в северную глушь, не испытывал тоски по женщине. А может быть, не только испытывал, но поражён был в молодости чьей-то недостижимой красотой, больно и безутешно, после чего осталось либо руки на себя наложить, либо... уйти в пустыню? И чем пустее, тем утешнее. Хотелось думать, что некая красавица боярской крови преобразила и поломала жизнь холопа, едва вошедшего в мужественный возраст, и обрекла на вечный поиск недостижимого покоя. Но эту тайну Антоний унесёт с собой...
Семь лет он прожил у порога Тёмного. Иноков стало семеро, они построили часовенку. Стали осваивать землю вокруг обители... Но тут впервые в рассказах об Антонии являются как бы ниоткуда местные жители, крестьяне, возроптавшие: «Яко великий сей старец меж нас вселися, по мале времени овладеет нами и деревнями нашими». В глуши, казавшейся безлюдной, были, оказывается, деревни, пашни, сенокосы. Между пришельцами и местными людьми началась война за землю, принадлежавшую крестьянам. В России воевали не за целину – её хватало, а за освоенную пашню.
Антоний был вынужден уйти. Но поражение своё запомнил, сделал выводы.
Снова скитания по лесам, по труднопроходимым низовьям Северной Двины, «по мхам и блатам непостоянным…». Скитались примерно год, зазимовали в охотничьей избушке – их разбросали по тайге местные жители. С одним охотником-сокольником иноки подружились, когда их вместе прижало таяние снегов.
Он рассказал им о речке Сии, богатой рыбой, травными угодьями, ягодами и зверем. Для промыслового охотника Сия, впадавшая в Двину с востока, была заповедным местом. Ловцу птиц она не поглянулась, он с лёгким сердцем выдал бродячим инокам тайну Михайловского острова, принадлежавшую, впрочем, не ему одному. Островок этот в верховьях Сии был расположен так хитро, что миновать его не мог ни рыбный косячок, ни олений гон. Озёра вокруг тоже были богаты рыбой, привлекали птицу, а земли родили изобильно и разнообразно, словно их с исподу грело второе солнышко. Так, верно, оно и было: хотя монахи и не исследовали путей подземных вод, но «вапу», горячую целебную грязь, в одной болотине нашли.
В начале лета на острове Михайловском выросли две избушки-кельи и церковка. Питались монахи рыбой и оленьим мясом, по-дорожному. Они всё ещё чувствовали себя в дороге, бесприютно, один Антоний цепким глазом уже прикинул, что тут им жить.
Гости явились к ним через неделю после освящения церкви во имя Святой Троицы. На лодке приплыли трое рыбаков из деревеньки, находившейся, как оказалось, в пяти вёрстах от острова Михайловского. Оборванные монахи не вызвали у них ни подозрения, ни неприязни: как раз в то время в городах искоренялась ересь жидовствующих, крестьяне жалели беглецов. Иноки попросили масла и хлеба, обещали править службы и требы, зная, что по глухим деревням новорождённые по году остаются некрещёными, покойники уходят в землю неотпетыми. Крестьяне поделились хлебом и раз и два, но от услуг пришельцев отказались: у них-де в Емце построена своя церковь Иоанна Предтечи, отец Харитон исправляет всё, что надо. Монахов они подкармливали год... Потом перестали.
Всякому новоселу знакомо это неожиданное отчуждение вчерашних доброжелателей, особенно если он селится возле деревни, не будучи по положению ровней местным жителям. К нему относятся как к загостившемуся страннику: вчера его кормили и жадно слушали, потом с сомнением уложили спать, а утром стали тяготиться, что он всё не уходит и не уходит, оттягивая встречу с холодом и далью, и повторяется в своих мечтаниях о Святой земле. И шёл бы он туда... Игнатий, намыкавшийся по чужим углам, задним числом сочувствовал Антонию.
Шёл 1520 год. Великий князь Василий тщетно мечтал о сыне. Мысли о замене бесплодной Соломонии уже туманили его сны, но будущая мать Ивана Васильевича ещё играла в куклы в Вильно. Во всех монастырях России возносились молитвы о наследнике. Молитвы оставались тщетными. Великий князь расспрашивал о праведниках, как неисцельный больной мечется по травницам и немецким лекарям – вдруг кто поможет? «Слезница» Антония с далёкой Сии пришла ко времени: «Пожаловал бы государь, повелел богомоление своё, монастырь строити на пустынном месте, на диком лесу...» В ней были ещё слова: «...пашню пахати». Великий князь поверил, что Антоний взялся за освоение всерьёз. Он дал обители деньги на первое обзаведение, оговорив, что главная забота иноков – «молитися о здравии и о плоду чрева нашего».
«Мы прилагали рвение ко рвению и огнь к огню», – рассказывали старые товарищи Антония, вспоминая закладку новой церкви и жилых строений. Ограда, расширенные кельи, хозяйственные навесы и клети поднялись на острове за два-три года. Антоний не щадил ни себя, ни иноков. На великокняжеские деньги были наняты детёныши из местных крестьян, среди которых не все умели сводить концы с концами.
В тех стародавних трудах Антония и братии Игнатий видел воплощение собственных представлений о справедливой иноческой жизни – не на чужом горбу. Его даже то умиляло, что Антоний не принимал звания игумена, покуда из Москвы ему не указали, что это уже вредит обители. А так – строитель и строитель... Хороша была и история с Бебрем.
Случилась она уже после смерти великого князя Василия, в правление его молодой вдовы Елены Глинской. Ей все молитвы о плодородии чрева пошли впрок... Зато с деньгами в Большом приходе стало трудно. Бебрь был одним из сборщиков по Двинской волости. Здесь подати собирать было особенно выгодно, всегда можно сослаться на уклонение, на то, что облагаемый «дворец пуст», а уж коли лишнее соберёшь, оно заведомо твоё. Помощники у Бебря были такими же отпетыми разбойниками, душу из крестьян выбивали вместе с деньгами.
Антоний податей не платил, ссылаясь на грамоту покойного великого князя. Бебрь задумал силой содрать с монастыря положенное. Собрав ватажку, он однажды вечером явился к Михайловскому острову.
Но за протокой, в зыбком туман це, они увидели целую рать с огненным боем и дрекольем. А было точно известно, что монахов в обители десятка два. Вооружённые стояли в странном молчании, будто неживые, зато из церкви за частоколом доносилось такое многогласное пение, как если бы и там собралось воинство – ангельское...
Бебрь убежал и больше к Антонию не цеплялся.
Когда великому князю Ивану Васильевичу исполнилось тринадцать лет, Антоний послал в Москву новое челобитье, по коему обители и были отведены те самые три версты на север, юг и восток и пять вёрст – на запад, к Каргополю. Число монахов выросло уже до пятидесяти, они с детёнышами живо освоили дарение – подсекли лес, сожгли и выкорчевали пни, завели пашни. Антонию оставалось почивать в довольстве, почёте и сознании исполненной работы... Но шестидесятилетний старец не изжил природного зуда в ногах и руках: оставив обитель на иеромонаха Феогноста, Антоний с двумя учениками ушёл вверх по Сии, к озеру Дуднице, границе новых монастырских владений. Они достроили хижину с часовней Николая Чудотворца, завели пашенку и звериные ловли и год-другой жили в уединении, питаясь от трудов своих.
И тут Антоний не нашёл успокоения. Ещё в пяти вёрстах выше по Сии, где она уже с трудом точила каменные глыбы, образовалось озеро Падун. Вода летела в него с уступа, сначала как бы застывая выгнутой полосатой льдиной, а в озёрной чаше вскипала и разлеталась дымом; лес воздымался по горным склонам к самому небу; на ближнем зелёном берегу несытые глаза Антония ослепили двенадцать берёз, «аки снег белеют» (его слова). Недаром в нём умер живописец – да умер ли? То было последнее уединение Антония. Годам к семидесяти, незадолго до прихода Игнатия на Сию, братия уговорила ослабевшего игумена вернуться в монастырь. По устроении последней пустыни он сразу сдал, – наверно, ангел-хранитель шепнул ему, что те берёзы – предел его скитаний и ничего прекрасней он уже не увидит в жизни.
В ночь на пятницу Игнатию приснился снежный козырёк над щебёнчатым берегом Сии.
В северных краях снежные залежи часто задерживаются до середины лета, радуя глаз измученного жарой и комарами путника. Снежник отсвечивал мечтательной голубизной, кромка его была прозрачна, как скол голландского стекла, и, как разбитого стекла, было его почему-то жаль до слёз. В мучительных подробностях привиделся и ручеёк, точивший снежник, и капельки, стекавшие с тёмно-зелёных листиков брусники, как с жёстких язычков. По ручейку заметно было, что снежнику недолго осталось жить – скоро обрушится, ломая смородиновые кусты, уже набухшие ягодными почками.
В мучительном пути между сном и явью кто-то Игнатию сказал, что снежник – это его любовь к Антонию. Проснувшись, он спросил, что означает ручеёк...
Игнатий в обители прижился. На полевые работы ходил охотно, с каждым днём насыщаясь лесным здоровьем и прочным чувством радости. Иноки жили дружно, тайга объединяла их, как редко выпадает в городских монастырях. Антоний не терпел ни сплетен, ни подсиживаний. Монашеских разрядов-устроений он тоже не признавал, все ели и одевались одинаково, он сам годами носил выгоревшую скуфейку. Когда Игнатий проговорился о Косом, Антоний даже не осердился, отмахнулся: «То городская блажь. Веруй, как отцы заповедали, а наперво – работай. Это одно угодно Господу паче молитв». Не замечая, он повторил одно из положений Лютеровой ереси. Игнатий, разумеется, смолчал, проникшись к игумену новым тёплым чувством.
Смутила его лишь тёмная история со «слезами Богородицы».
В тот год яровое жито – ячмень, северный хлебушек, – взошло поздно. Начало лета было холодным, дожди и град горстями сыпались на непрогретую землю, снежники залежались по распадкам, еловым зарослям, под моховыми навесами речных обрывов. Холод держался в земле до начала июля. Потом тёплые лучи повалили с запада, меж ними заиграло окрепшее солнышко, и яровые полезли дружно, густо. Местные злаки помнят о кратком лете, торопятся прозябнуть, отцвести и отплодоносить... Так бы и людям – помнить о быстротечности земного бытия. Они не помнят.
После основания пустыньки у двенадцати берёз границы монастырских пашен стали путаться с межами деревни Михайловки, откуда жители когда-то приносили новопришельцам-инокам масло и хлеб. В деревне среди семи дворов самым богатым и семьянистым, многолюдным был двор Юфима Заварзы. Старик Заварза был почти ровесником Антония, его сыновья давно вошли в зрелый возраст, но не отделялись, пристраивая новые тёплые клети к главной избе. С ними-то у посельского старца, позарившегося на свежий пашенный клин, и приключилась свара. Честно сказать, посельский был не прав. Клин тяготел к земле Заварзы, Юфим его в своё время подсек и выжег, но в земле оказалось многовато торфа, Заварзины её не торопились распахивать, и клин зарос болезненным тонкоствольным березняком. Подсечь его и снова выжечь, как собирались Заварзины, не составляло особого труда. Двое монахов это прошедшей осенью и проделали втихую, аж низовой пал добрался до засеянного поля Заварзы, ожёг жнитво. Юфим явился в монастырь и заявил, что иноки залезли на чужое, а потому он сам засеет пашню чем похочет. Антоний кротко выслушал его, развёл руками: сей!
Теперь на клине, обогащённом древесной и торфяной золой, упруго лезла зелёная щетинка. Иноки, делавшие пожог, ходили и завидовали, почасту поминая имя, коего им произносить не полагалось. Особенно возмущён был келарь, принимавший близко к сердцу монастырские убытки... Да у него вскоре начались свои неприятности, – кажется, он с солью прогорел. Иноки стали замечать, что каша несолона, щи пресные. Келарю попеняли, он отмолчался. Братия верно рассудила, что это дело старца-казначея и игумена, тем более что келарь, кажется, не проявлял особого беспокойства – наверно, сговорился о доставке соли с морского берега, а самым нетерпеливым инокам советовал: «Слезами досолите!» Перетерпели.
Так вот, взошёл ячмень... Однажды утром на остров явился крестьянин из Михайловки – проситься в монастырские детёныши. Он, между прочим, рассказал, что на ячменном поле Заварзы явились «печати».
– Не диавольские ли? – предположили иноки.
Мужик мучительно задумался. Пришлось вести его к игумену.
Отец Антоний не доверял чужим глазам. Он велел спустить на воду лодки. Игнатий оказался гребцом в передней. За три часа езды он нагляделся на сумрачное лицо игумена, не проявлявшего ни нетерпения, ни любопытства, поскольку все чудеса таёжные он видел-перевидел... В семьдесят лет ноги его ещё носили, он первым вонзил свой посох в затравевшую тропу, бежавшую через берёзовую рощу к пашням. Возле последней из двенадцати берёзок он остановился, привалился плечом. Иноки замерли. Дыхание Антония было слышнее ветра в высоких лиственницах. Побрели дальше, вверх по склону.
Да, здесь природа не охапками разбрасывала свои дары. Подобно старцу-казначею захудалого монастыря, нехотя запускала в калиту с деньгами скрюченную от холода и скупости щепотку, нащупывая монетку поглаже, стёртую... Для отыскания пашенного угодья требовалось и время и искусство. Существовали особые приметы, по коим участок леса стоило подсекать и жечь, чтобы в течение нескольких лет собирать на нём сносный урожай сам-три. Иначе не стоило и затеваться, лучше соболя гонять. Лесной земли вокруг было как будто много, но ведь и нужно было много: по счёту сотника Бачурина, в Емецком стане насчитывалось пять десятков деревень, к землям же Сийского монастыря тянуло до двух десятков. Волей-неволей монастырь теснил старожильцев, ломал давно установившиеся отношения.
Вот сразу за уступом матерого берега ласкает глаз сухой прогретый взлобок, заросший по краям соснами с тяжёлыми, как медью обитыми, стволами. Сама неизмеримая сила земли вознесла их в мощном порыве к свету, к небу... А посей тут рожь? Ни былинки не взойдёт, не выберется из-под хвойного войлока, из серой почвы, пропитанной не тем, что нужно злаку, а только диким смолистым соком. Рядом клин Заварзы лежал зелёным, косо обрезанным платком. Только приметливый Юфим и мог решиться забраться сюда, где ничья соха, ни топор не ходили. На краю пашни переговаривались, посматривая на монахов, десятка два крестьян из разных деревень – вести по тайге разлетаются быстро, их белки носят. И было на что посмотреть, от чего прийти в сомнение.
По зелёному плату были разбросаны кресты: проплешины в ячмене как раскалёнными крестами выжжены. Но и следа горения не было на них – хоть смотри, хоть нюхай. Так чудесно проросло.
«Чудо и есть», – согласно приговорили крестьяне и иноки.
И сразу к пашне Заварзы стало страшно подходить. Люди ведь только на словах мечтают о чудесном, а коснись близко, полыхни им чудо в очи – они зажмурятся. Стало понятно, что удачливая семья Заварзиных получила знак: не зарывайтеся! Крестьянам победнее это предупреждение пришлось по сердцу. Впрочем, решающее слово принадлежало отцу Антонию – ему одному небесные знамения по плечу.
Антоний долго смотрел на поле, испятнанное крестами, шевелил губой. Минутами казалось, что он, опершись на посох, дремлет. Все понимали, что это пророческая дремота, вещее забытье. Ветер притих, сырая тишина опустилась на тайгу до самого Студёного моря. Люди едва дышали.
Вдруг заскрипело, заскрежетало в вышине, переходя в резкий и жалобный писк. То сокол закричал, а у людей внизу от неосознанного ужаса сотни иголок вонзились в темя или в живот – что у кого слабее. В слитном, взаимно усиленном ознобе монахи и крестьяне слушали приговор игумена, лесного старца, произнесённый таким зычным голосом, каким он уже давно даже «Христос воскресе!» не возглашал:
– Богородицыны слёзы испятнали твою пашню, Заварза!
Юфим Заварза стоял на краю клина. Седая, густовласая голова его была обнажена, жёсткая борода упрямо утыкалась в распахнутый зипун. Руки подрагивали окостенело, будто вцепились в вёрткие держала сохи, ковыляющей по кочковатой, пронизанной корнями пашне. Он даже не взглянул на Антония. Тот осенил его и пашню широким крестом, повернулся и пошёл к реке.
Юфим остался в лесу один, как окаянный. Никто не задержался возле него, не посочувствовал.
Ночью Игнатий раздумывал о происшедшем. Он лишь на краткое время испытал на себе действие сильной воли игумена и хоровое давление толпы, поверившей в то, во что последователь Феодосия Косого не мог поверить. Но и объяснить этого чуда с крестами он не мог, отчего испытывал неутолимый зуд. У него хватило ума не соваться со своими сомнениями ни к старцу-исповеднику, ни к самому Антонию. Когда монахи доказывали, что слёзы Богородицы и должны выжигать кресты в память о казни Сына, Игнатий отмалчивался.
Ободрённые небесной поддержкой, монахи стали смелее раздвигать границы своих владений. К пустыни «у двенадцати берёз» и к дальнему «приюту у Николы Чудотворца» примыкали другие спорные земли. Деревья для пожога обычно подсекали в начале лета, к осени они высыхали. Антоний распорядился начать подсеку в трёх местах... Молодые иноки вооружились длинными топорами, спустили лодки. Игнатий тоже был послан с ними.
Работа спорилась, слабые берёзки и осинки падали от первого удара. Банный дух, запах пота и свежего листа стояли над деляной. Было весело сознавать, что наконец-то ты своими руками осваиваешь дикую землю. Сели обедать. Только достали ложки из-за голенищ, как на деляну явились пятеро крестьян со снаряженными пищалями.
Северные крестьяне наполовину жили охотой. Пищали и луки были им не менее привычны, чем коса и соха. Молодые иноки побросали ложки, но к топорам не потянулись – у мужиков уже дымились фитили. Впереди выступал Костя Заварзин, старший сын Юфима.
– Пошли прочь, – сказал он инокам. – По государевой грамоте и обмеру Бачурина сии земли не ваши.
– Что ж вы их до сей поры не распахали? – нашёлся смелый. – Земля добрая, а зря лежит.
– Твоё ли дело учить нас в лесу хозяйствовать? Беритя свои топоры и котёл, пока мы их не отняли.
Иноки похватали монастырское имущество и удалились.
Антоний, выслушав их, не устыдил и не разгневался. После обедни он призвал к себе чёрного попа Феогноста. На следующий день перед крестьянами, явившимися в монастырскую церковь причаститься и справить некоторые требы, ворота не открылись.
Ближайшая церковь Иоанна Предтечи, где служил белый поп Харитон, стояла от деревни в пятнадцати вёрстах. Крестьяне, жалея времени и поршней, повадились ходить в обитель, к Троице. Им дали понять, что от этого храма они отлучены.
Как обсуждалось новое осложнение на мирской сходке, какие предлагались решения и раздавались укоризны, Игнатий знать не мог. Видимо, было решено мириться, не поддаваясь, однако, в главном: праве на исконную землю. Ходатаем-миротворцем был послан священник Харитон.
Он исстари враждовал с Антонием, а тот, не найдя в нём поддержки своим духовным и, главное, земельным притязаниям, возненавидел священника всей сильной, деятельной душой.
Закрыть ворота перед священником даже Антоний не решился. Следом за Харитоном просочились четверо крестьян, среди них – Костя Заварзин. Небольшая притихшая толпа осталась за оградой. Отец Харитон подгадал к обедне – церковные двери были распахнуты, заглатывая вперемежку иноков и монастырских детёнышей. Сдержанный шум, исходивший из церкви, напоминал осторожное дыхание ловца, скравшего дичь.
Даже детёныши не расступились перед Харитоном у дверей, а иноки и вовсе затеснили, обдавая впитавшимся в свитки и рясы запахом ладана, давно не мытых тел и дыма братских келий, топившихся по-чёрному. У Харитона хватало выдержки не воротить носа от чесночного духа черемши – она как раз поспела, монахи ели её охапками. Едва протолкавшись в церковь, священник неожиданно узрел перед собой свободное пространство до самого алтаря.
Две плотные толпы стояли по сторонам, а в конце прохода ждал игумен Антоний, прожигая Харитона диковатыми глазами таёжного бродяги. Игнатий, вошедший следом за Харитоном, удивился, как игумен оказался в церкви раньше всех. Обычно он приходил последним и с нарочитой расслабленностью шествовал мимо расступавшихся монахов, блёклой улыбкой благословляя их... Непостижимой была способность его дублёного лица преображаться от злобы к благолепию.
При входе в храм естественно перекреститься. Отец Харитон уже и руку выпростал из-под своей хламидки, как вдруг от алтаря, а показалось – из-за царских врат, пророкотало: «Знамения не сотворишь!»
Поп Харитон не верил в новые чудеса, оставив древние на совести писателей. Знакомый с ухищрениями своих собратьев, с обкатанными способами воздействия на верующих в ходе церковной службы, он только улыбнулся, пытаясь разглядеть губы Антония сквозь его клочкастую бороду. Они как будто не шевельнулись, хотя утробный голос явно принадлежал ему. Храня улыбку, Харитон хотел поднести двуперстие ко лбу – и не сумел.
Рука оледенела на взлёте, подобно птице, мгновенно схваченной морозом. Вниз – падала, вверх – не поднималась. Улыбка Харитона искривилась, что-то паралитическое явилось в ней, в глазах, в отражённом пламени свечей, заметался ужас. Попятившись, он упал на руки Кости Заварзина, схватил воздуху, уже иссосанного, истраченного другими. Костя выволок священника на паперть.
Там они постояли в нищем образе и медленно побрели к воротам.
Крестьянский мир разбился на три доли.
Самые бедные, ценя возможность подработать в монастыре – «за серебро» – или совсем уйти в детёныши, превозносили свершившиеся чудеса и мудрость игумена Антония. Другие – большинство, – державшиеся за своё хозяйство, хотя и признавали оба чуда, не понимали, почему надо поступаться исконными землями. Заварза и его сторонники просто не верили в Антониевы чудеса, крестьянским умом угадывая обман. Для Заварзиных полная победа монастыря означала крушение всей старинной, то есть свободной жизни. Им было разорительно верить в чудеса, и они не верили.
Они легко доказывали, что беда не только в потере пашенных угодий. Крестьяне были и промышленниками, то есть охотниками, рыболовами. С расширением монастырского хозяйства из ближних лесов уходил зверь, от частых палов горела тайга, в помутневшей воде возле распаханных берегов Сии перестала водиться добрая рыба. Антониев монастырь нарушил тонкое равновесие не только между деревнями, выборными сотниками, сборщиками податей, скупщиками соколов – он ломал более сложное содружество крестьян с прихотливой северной природой. На таком тесном куске подзолистой земли, как гористые верховья Сии, не могли прокормиться все – и чёрные крестьяне, и монастырские детёныши, и иноки, число которых вместе с послушниками уже тянуло к сотне...
Всё это Игнатий осознал не вдруг, а в течение тех летних месяцев, когда он ближе сошёлся с жителями Михайловки. В монастырском книгохранилище один из старцев показал Игнатию государеву грамоту, данную монастырю в 1543 году. По ней Бачурин отмерял Антонию новые земли. Но кроме «жалованья» в грамоте, как было принято у приказных, пересказывалось челобитье самого Антония. Оно-то и поразило Игнатия, всё ещё пребывавшего в подслеповатом восхищении игуменом.
Места вокруг обители Антоний представил как пустые – «леса непашенные, озёра и болота неписьменные и нетяглые, а приходят деи на те пустые места люди из иных волостей, свои старые угодья пометав, рыбу ловят и ловушки ставят, и всякие угодья ходят безоброчно, и монастырю деи чинят великую обиду, и пожары деи от них бывают не по один год, а сожгли деи у них в монастыре четыре церкви...».
Мало того, что челобитная лгала про «безоброчность»: Бебрь собирал с крестьян немало, деревни были переписаны, земские порядки блюлись, сотники избирались и церковь отца Харитона содержалась на крестьянские деньги; но ведь не по причине случайных палов церковь монастырская горела четыре раза! Она в обители была одна... До какого же накала дошла вражда крестьян к монастырю – на храм руку подняли! Изучив грамоту, Игнатий ощутил, как что-то дорогое в нём замутняется и «тратится».
По-видимому, Антоний имел на грамотного и начитанного новопришельца свои виды. Вскоре он доставил Игнатию возможность поближе узнать крестьян ближних деревень. Отвергнутые монастырём и отделённые от собственной церкви пятнадцатью вёрстами таёжных троп, они, по мнению игумена, готовы были «уклониться в язычество». Кстати, близилось Рождество Иоанна Предтечи, престольный праздник церкви в Малом Емце и одновременно языческий Иван Купала. Антоний призвал иноков, чаще других работавших в лесу, и приказал «досматривать», что станут делать крестьяне. В числе досмотрщиков оказался и Игнатий. Он относился к древним обрядам без сочувствия, они не сочетались с ясными заповедями Косого. В язычестве Игнатий видел ту же болезненную погружённость в животный мрак человека, какая заставляла его верить в чудеса и исполнять обряды. В вечер Ивана Купалы Игнатий оказался гостем праздника, в то время как битые его братья только выслеживали мужиков да прятались от них.
Отец Харитон, отслужив в своём храме, приволокся к озеру Падуну, чтобы свершить вечерню. Крестьяне обустроили молебен благолепно – украсили берёзки венками таёжных лилий – жарков, застелили чистым полотном полевой алтарь. Свечки на нём горели в белой ночи бледней оранжевых цветов. Поздняя заря неподвижно лежала на озере, водопад издали сиял своей льдистой струёй. Слабый шум его да неожиданные вопли одинокой птицы почти не нарушали тишину. Эта живая тишина придавала всей службе углублённый смысл единствования с природой – кормильцем-лесом и родительницей-почвой, началами жизни. Ею были полны и лес, и воды озера с внезапно всплёскивавшей рыбёшкой, и сами переливчатые, перламутровые небеса – твёрдая раковина, оберегавшая земную жизнь от холода безжизненных пространств. Христос ответил на вопрос о рае: «У моего отца миров много». Но в этот вечер особенно тепло и ясно осознавалось, что во Вселенной нет мира краше родной Земли.
После службы отец Харитон обошёл с крестом ближние пашенки, освятил колодцы и источник с целебной грязью-вапой. Он сделал вид, что не заметил, как парни с девушками удалились в лес – палить костры и играть, как принято на Купалу, а старухи побрели за целебными травами. Хозяева дворов позвали Харитона перекусить на воле, на полянке. Длинный стол был вкопан под старой сосной для угощений-братчин с незапамятных времён. Игнатий хотел уйти, но его вернули, усадили рядом со старым Заварзой. Видимо, у того был умысел, чтобы Игнатий послушал застольную беседу.
Для братчин крестьяне ставили на голубике и морошке лёгкую бражку. Хмельное пили редко, и потому оно легко развязывало языки. Мужикам хотелось высказаться при свежем человеке, они угадывали доброжелательность Игнатия, но, кроме того, надеялись, что их упрёки будут донесены до игумена. В воспоминания пустился старый Заварза.
Он рассказал о первых своих встречах с Антонием. Три кротких странника не вызвали у него ни подозрений, ни неприязни. Антоний ловко притворился нестяжателем, да он и был трудягой, одержимым, казалось, одним стремлением к безлюдному житию. Он подкупил крестьян и лекарским искусством: не хуже знахарок пользовал их мельханами и травами, подтвердил целебность грязей возле источника, умело вскрывал опухоли-вереды... Крестьяне разрешили инокам ловить рыбу в протоке у острова, где они возвели первую келью. Кто ведал, что пришельцы через десять лет добьются признания этих ловель собственностью обители! Крестьяне издавна считали их Божьими, то есть общественными.







