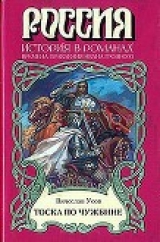
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 42 страниц)
11
Победоносный поход в Ливонию закончился. Тринадцатого сентября русское войско повернуло на Дерпт. Хотя до Риги не дошли, многие земли архиепископства были захвачены, как и пути подвоза в Ригу. Оставалось надеяться, что шведы и поляки примирятся с новым положением. А населению Лифляндской земли, считал Иван Васильевич, всё одно, на кого работать, кому платить подати.
Впрочем, он не хотел, чтобы у латышей и немцев осталась о нём злая память. По лютеранским церквам были развешаны листы с немецкими стихами. Рассказывали, и иные верили, что написал их сам Иван Васильевич, быстрым своим умом освоивший не только немецкий язык, но и законы рифмованного стихосложения, почти неведомого русским книжникам.
Всё может быть. Во всяком случае, стихи сочинены не без его участия. Хотя бы рифма «blutt» и «gutt», противоестественно сочетавшая «кровь» и «добро». Сама попытка завоевания сердец с помощью незатейливой поэзии показывает, как ему хотелось мира. Немногие латыши владели немецкой грамотой, но все могли услышать и понять чтение пастора:
Ivan Wasilivitsch bin ich genant
Und hab inter mir so manches Landt...
«Иван Васильевич меня зовут, и я владею по своему титулу многими землями. Я хороший христианин (ein gutter Christ)».
В другом, более длинном, стихотворении («Ich bin der Reussen Herre gutt») он так характеризовал себя: «Я русский государь, рождённый от крови моих родителей; я не выпросил и не выкупил себе никакого титула; я не подчинён никакому государю, а царь мой – Иисус Христос».
Намёк на выбранного, «неприродного» короля Стефана Батория звучал обидно. Нельзя сказать, что он смягчался в письме к Яну Ходкевичу, отправленному двенадцатого сентября: «В Лифляндской земле нет того места, где б не токмо коня нашего ноги, и наши ноги не были, и воды в котором месте из рек и из озёр не пили мы... Скажи, чтобы государь ваш послов своих слал к нам не мешкаючи, а мы с ним миру и доброго дожития хотим. А он бы нас почтил, чем пригожее, занеже без почестивости (благодарности, подарка) братству нашему статися с ним невозможно».
ГЛАВА 4
1
По возвращении из похода Иван Васильевич три дня прожил в Печорском монастыре под Псковом. Не пожелав остановиться у игумена Сильвестра, он уединился в одной из братских келий, примеривая на себя клобук и утешительно-однообразную иноческую жизнь. «И мнится мне, окаянному, что я исполу уже чернец...» Афанасий Фёдорович Нагой спокойно ждал, покуда государь расслабится закосневшей душой, избудет кровавые воспоминания и вновь займётся делом. Сам он времени на лишние молитвы не терял, часов и нефимона не выстаивал, только обедню и вечернюю.
Беседа его с Неупокоем была прямой и жёсткой, как немецкая уздечка.
– Тебя сюда не для прохладу затворили, живот сохранив тебе. Никто тебя злодейством, как покойник Колычев, не понуждает заниматься, ты инок, тебе чин не велит. Но есть труды, их же никто, кроме тебя, не исполнит. Главная наша забота ныне – мир!
– После того как вы реку крови в Инфлянтах излили?
– Она там не лилась, а капала. Могло быть хуже. Да та кровь не твоя печаль.
– Моей печали в твоём приказе, боярин, нет.
– Не дорожись! – Афанасий Фёдорович заставил себя сдержаться. – Не твоя ли забота – Божьи заповеди исполнять?
– Или я желаю жены ближнего своего? – ухмыльнулся Неупокой.
– Глумишься? А заповедь «не убий» запамятовал?
– Я-то помню, да помните ли вы?
Наглость его Нагого больше не сердила, наоборот – он клюнул острым носом, будто зёрнышко нашёл, и заговорил ровно и настырно:
– Без твоей службы, Арсений, под одним Трикатом море кровавое могло разлиться. Захоти Полубенский укрепиться там с немцами, стакнись Ходкевич с Арцымагнусом, какая война разгорелась бы в Инфлянтах! Толкуют, тайная служба зла; она добра, ибо тихим словом да бумагой оберегает множество людей от кровопролития. Тебя, Арсений, старцы нижегородские послали, а Бог привёл в Приказ посольских и тайных дел, тебе нельзя иначе, ты от природы к нашим делам способен, тебе от них уклоняться – грех...
Речь Афанасия Нагого лилась тугим потоком, захватывая и увлекая Неупокоя в опасный, но соблазнительный простор. Что его тянет, что отрывает от прогретой солнцем отмели, куда отбросил его такой же безжалостный поток? Устала его нетерпеливая душа от монастырской тихости или изгладывает её сознание, что кто-то ждёт его работы, как погорельцы ждут древоделей, загостившихся в соседней деревне? Кто эти погорельцы?
– Люди истомились по тишине, – внушал Нагой. – Государству нашему нужнее мира ныне нет ничего. Сколько земли у нас лежит впусте, помещикам недосуг свои имения обустроить, крестьяне на посохе руки оборвали, таская пушки по чужим дорогам. Главизна же всему, Арсений, та... – Афанасий Фёдорович приостановился, словно сомневаясь, открыться ли Неупокою. – Страшна нам, Арсений, война с Обатурой. Людей в Литве и Польше более, нежели в России, и деньги у шляхты есть войско в империи нанять. Пойдут на нас двунадесять языков, ибо многим мы поперёк горла – и свейским, и имперским немцам, и Дании, и Франции. Они помогут Обатуре. Рим встанет за него.
Афанасий Фёдорович замолчал, уставившись в тёмный угол кельи. Кажется, он ужаснул себя больше, чем Арсения. Тот буркнул:
– Кабы государь Инфлянты не воевал, можно было о мире говорить. Чего ж теперь.
– Теперь – самое время...
И Афанасий Фёдорович заговорил о том, в каком тяжёлом положении оказался король Стефан, пообещав Литве победоносную войну с Москвой. Первыми не пожелали её торговые мужики Гданьска. Положим, он их заставит раскошелиться, но Гданьск не единственный город в Речи Посполитой, а горожане все против войны. В посполитое рушение – шляхетское ополчение – Баторий сам не верит, надеется на наёмников. Для них нужны большие деньги. Платить же шляхта и магнаты не хотят. Силу русского войска государь им в Инфлянтах показал, теперь они задумаются... Надежды и опасения шляхты мечутся между миром и войной.
– В Речи Посполитой, – высказал наконец Нагой самую опасную мысль, – мнение людское выше хотений короля. Если оно качнётся к миру, трудно будет магнатам поворотить на войну. Да и среди панов радных немало миролюбцев.
– Кто ж поворотит к миру мнение людское? – возразил Неупокой. – Кто, кроме Бога?
– Коли не Бог, то те, кто говорит именем Его.
– Кто?
– Многие. И наши еретики, что, по словам Зиновия Отенского, Литву развратили. Тебе по чину больше знать положено.
Всё знал и предусматривал Нагой... Как раз в то лето в Печорский монастырь пришло, как и в иные обители, «Слово о вопрошающих» Зиновия Отенского, опровергавшее учение Феодосия Косого – еретика, задолго до князя Курбского бежавшего в Литву. Терпимость к разным верам давала там возможность проповедовать своё учение, ересь Косого распространилась в приграничных поветах, захватив многих смолян и псковичей своей холодноватой логикой. Только при чём тут мир с Баторием?
– Федос Косой сказал: «Не подобает воевати!»
«Вот для чего я ему нужен, – невольно восхитился Неупокой цинической расчётливостью Нагого. – Но как сей змей мои духовные сомнения угадал, я их одному Сильвестру поведал, и то намёком. Ужели старец нарушил тайну исповеди? Или сокрытое еретичество проступает, яко порок, на лице моём?»
– Один Косой не мог бы совратить Литву, – продолжал Нагой. – С ним в голос поют социниане, тоже отвергающие троичность Бога. Сказывают, даже лекарь у Обатуры – социнианин, сиречь жидовствующий. Ныне их ересь едва ли не сильнее Лютеровой. Прикинь, что станется, коли все они о мире завопят!
– Откуда тебе-то всё это ведомо, государь?
– Ты у Умного-Колычева служил, почто спрашиваешь?
– Спрашиваю потому, что не знаю, как тебе ответить.
– А ты подумай. Тебе впервые не душегубское – доброе дело предлагают в Приказе тайных дел... Слышь, к обедне звонят. Красный у вас в Печорах звон. Чей ныне день-то?
– Святого Вячеслава, князя Сербского.
– То-то государь велел из припасов своих отобрать лучшее для корма братии да созвать беседу. Ты тоже зван... Святого Вячеслава, помнится, двоюродный брат убил?
Они взглянули в глаза друг другу – Нагой с усмешкой, Неупокой – в смятении оттого, что Афанасий Фёдорович вновь угадал его опасную мысль. Зачем, зачем государю, отравившему своего двоюродного брата, отмечать трапезой именно двадцать восьмое сентября? Случайно ли он оказался в сей день в Печорах? Какая тёмная душа...
На короткой дороге в пещерную церковь Неупокой пытался вспомнить поучение из макарьевских Миней на день блаженного Вячеслава, но всплыло только: «Страшна бо есть смерть от чужой руки, да её не хотяще претерпети».
Возле пещерной церкви стояли назиратели из иноков, чтобы при государе не случилось толчеи. Ради торжественного дня литургисал Сильвестр. Минеи читал иеродиакон Фома с особенно отчётливым и звучным произношением – всякое слово было слышно отдельно, отчего смысл читаемого обретал и глубину, и опасную соотнесённость со днями нынешними. Государь стоял перед алтарём у кирпичного столпа, подпиравшего в своде пещеры срединную глыбу грубо отёсанного красноватого песчаника. Стоял твёрдо, не делая попытки опереться о столп крупным, немного вздёрнутым плечом, обтянутым коричневой камкой[24]24
...коричневой камкой. – Камка – шёлковая китайская ткань с разводами.
[Закрыть]. Арсению был чётко виден пригорбленный, оплывший книзу нос и клочья рыжей бороды, выбивавшейся поверх стоячего козыря-воротника.
Ключевыми словами сегодняшнего чтения были: «Сбывается пророчество: встанет бо брат на брата своего и сын на отца своего, и враги человеку домашние его, сами себе не милы будут, и воздаст им Бог по делам их...»
В проповеди Сильвестра настойчиво звучал призыв ко внутреннему миру и любви между православными, высшими и низшими. Можно подумать, в России уже точили рогатины для братоубийственной войны. Неупокой не сомневался, что тема задана царём, но не понимал, отчего у Ивана Васильевича могли проснуться опасения относительно подданных. Война была победоносной, служилые нахватали земли в Инфлянтах, недовольные давно примолкли, если остались живы... Правда, у входа в храм, на последних местах, толпились те, кому, быть может, и назначалось сегодняшнее поучение, – «лучшие люди из крестьян», по праздникам допускавшиеся в монастырские церкви. Недовольных среди них хватало. Не их ли остерегал Сильвестр от душегубства?
В истекшее десятилетие не было слышно о больших разбойничьих ватагах, губные старосты из уездных детей боярских крепко держали оборону. Но с возобновлением войны, когда тысячи посошных срывались с мест, а разорённые деревни выбрасывали меж двор множество семей, старостам стало трудней следить за поведением людей. В псковских приграничных землях ожили ереси, заглохшие в опричнину. Робкое недовольство выражалось то в уклонении от работы, то в исполнении полуязыческих обрядов. И взгляд мужичий ускользал недобро, неоткровенно, отмечали посельские старцы.
Приходилось отдать должное Сильвестру, сумевшему от убиения двоюродного брата перекинуться на сословные несогласия. Иеродиакон вынужден был читать о том, как Болеслав устроил Вячеславу ловушку: «Како же хочеши отъехать, брате? Вино и мёд всецело имею у себе!» Вячеслав, видно, падок был до веселья и вина, он тут же согласился, стал в ожидании пира «на коне играти со слугами своими.
Те же ему: хочет тебя убить Болеслав! Он не дал веры тем словам и всю надежду возложил на Бога, и тот день всё пил и веселился у Болеслава».
В утро смерти он возликовал: «Слава те, Господи мой, яко дал еси свет и достигнута утра сего!» Тогда ещё не ведал Вячеслав, что слуги брата зарежут его у церковных дверей и три дня кровь от стен не смогут отмыть.
Сколько дней и ночей отмывал государь память о Владимире Старинном?
Иван Васильевич слушал чтение придирчиво и осуждающе. Вероломство Болеслава возмущало его, как и всех. Только Неупокою лицо царя представилось не строгим и величественным, а уродливым, грехи и больная злоба выступили на нём желваками и бороздами, сугубым искривлением носа и воспалённостью века, наплывшего на слезливо опущенный уголок глаза. Явилась святотатственная мысль, что убить Ивана Васильевича здесь, в церкви, совсем нетрудно, покуда телохранители заслушались, забылись...
Арсений закрестился, больно ударяя себя двумя перстами в лоб. «Избави мя от лукавого!» Но кто избавит его от знания, что всё дурное, пробудившееся в русском народе в последние десятилетия, воплощено именно в этом сильном, хитром, но смертном человеке, застившем людям алтарный свет? Умер бы он...
Трапезовал государь наверху, у игумена, куда были приглашены монахи «первого устроения» и, как обещал Нагой, Арсений. Его присутствие Иван Васильевич отметил одним мрачно-улыбчивым взглядом, от которого Неупокою стало нехорошо.
За красным мёдом Иван Васильевич так увлечённо разговорился, что Неупокой заслушался его пространной и насыщенной речи. В ней чувствовалась продуманная убеждённость в собственном праве говорить от имени народа и страны. И то, о чём говорил государь, не могло не вызывать сочувствия, почти восторга у Неупокоя.
Царь говорил о вечном мире.
Ради вечного мира Иван Васильевич готов был даже выскочку Батория назвать братом. Но и тот должен был пойти на справедливые уступки. Правда, уступки эти возрастали по мере того, как государь, разговорившись, горячился и со слезой припоминал разные дедовские вотчины, особенно Киев с городками. Но ведь главное – мир между народами, ради него «достойно», как выразился государь, идти на жертвы, «да мы и сами готовы уступить, что пригоже...». Тут он примолк, задумался и не сказал, что же ему пригоже уступить. Не Полоцк ли?
– Взятое кровью не отдадим! – внезапно воскликнул он, нарушая ощущение логической плавности, и вновь заговорил о мире вообще – о том, какая жизнь начнётся тогда в России.
Неупокой то восторгался его всеохватными умыслами, то снова мучился сомнениями, вспоминая прошлое. И тут же новые сомнения вцеплялись в него – что, если он, ничтожный книжник, далёкий от государственного управления, не прав в своём осуждении этого удивительного человека, правившего Россией столько лет? Ведь всё в конечном счёте выходит, как он задумал. Не отвечают ли его, первого русского царя, ужасные дела и замыслы неким глубоким, неосознанным чаяниям именно этого народа? Не строится ли в Москве, в арбатском опричном доме и в душных комнатках кремлёвских приказов нечто такое мощное, что недоступно покуда слабому, недальновидному рассудку инока из бедных детей боярских? Кто побеждает, за того Бог... То, что Неупокой, вслед за другими несогласными, считал болезнью государства, было, возможно, тяготами роста, стыдным отроческим мучением. И вот оно венчается самым необходимым для России – вечным миром! Ведь мир нужнее всего крестьянам, самому праведному сословию.
Даже посадский нет-нет да и заглянет в чужой огород, схлестнётся с соперниками на торговых путях. Крестьянину же ничего не нужно, абы работать не мешали. Стало быть, государь, готовый построить вечный мир, станет и для крестьян, и для всего народа первым благодетелем.
Какая простая, облегчающая мысль... Как же Неупокой пытался уклониться от благого дела?
В каком-то светлом забытьи он не заметил, как игумен Сильвестр поднялся для благодарственной молитвы: «Исполни нас духа святого, да обрящемся перед тобою благоугодни и непостыдни...» До самой кельи Арсений повторял последние слова, открывая в них всё более глубокий смысл.
2
Тридцатого сентября, в последний день пребывания государя в Печорском монастыре, туда неожиданно явился старец Еразм. Многие истолковали его приход как трогательную попытку напомнить о себе, покрасоваться рядом с сильными людьми. Одному Неупокою известно было, что пригласить в обитель полузабытого мыслителя и сочинителя надоумил государя Афанасий Фёдорович, преследуя, как обычно, далёкую от духовных вопросов цель.
Но государь беседовал с Еразмом о духовном. Тема – бессмертие души, её зависимость от тела – обоих, похоже, занимала одинаково. Еразм, переваливший на седьмой десяток, и сорокапятилетний Иван Васильевич с одинаковым знобящим любопытством заглядывали по ту сторону бытия.
Что подразумевал Еразм, спрашивал государь, когда писал в последнем сочинении против еретиков: «Ум, и слово, и душа расходительны. Когда бы не заключены были, как в ковчеге, в телесном сосуде, расстались бы ум со словом и с душою и ветер развеял бы их. Если изыдут ум, слово и душа из телесного сосуда, то не имеют самовластия, но в Божьей власти есть»?
Иван Васильевич любил блеснуть перед боярами головоломной постановкой вечных вопросов, показать начитанность и память. Казалось, что может быть понятнее: душа, божественная искра, заключённая в теле, покидает его как единая субстанция и пускается в странствие в ожидании суда. Но Еразм пишет: «Человеческое существо божественной силы не имеет», всё духовное в нём «расходительно», то есть не едино и подлежит рассеянию. О каком же единстве души после смерти можно говорить? Или душа не то, что мы отождествляем с нашим сознанием и памятью, а нечто бессознательное, воспринимающее внешний мир лишь через тело? А как же ад и рай?
Не заразился ли Еразм высокоумием от тех еретиков, с которыми вступил в борьбу?
Арсений слушал их несколько нарочитый, рассчитанный на посторонних разговор и вспоминал, как сам мучился подобными вопросами. Потом он убедил себя, что все наши догадки о запредельном не больше чем игра воображения. Если принять, что Бог непостижим, как же дерзаем мы гадать о главной тайне смерти, нерасторжимо и странно слитой с природой Бога? Чем тщетно устремляться в недоступное, не лучше ли разобрать свои завалы на земле, покуда наши души самовластны?
Афанасий Фёдорович был, видимо, того же мнения. Он посоветовал Неупокою по окончании беседы пригласить старца на отдых в свою келью.
Еразм радовался беседе не меньше государя: внимания и чести за последние годы немного выпало ему. Лишь оказавшись наедине с Неупокоем, он позволил себе одно пренебрежительное замечание, оборванное, едва в келью явился Афанасий Фёдорович.
Старец быстро уяснил, чего хочет от него увёртливый и хитророжий ближний боярин.
– Верно, захаживают ко мне паломнички из-за бугра. Спорим по малости. Троицу они отвергают по недомыслию, не замечая, что в мире всё троично: свет, сумрак, тьма; небо, воздух, земля; ветер, гром, молния. Иные говорят – четыре-де страны у света, четыре угла у клети. Стороны света суть полночь, полдень и зенит. А избы человек строит четвероугольные по дурости, ибо даже скаврада на трёх подставах держится.
– Что говорят о Феодосии Косом? – притушил старческую болтовню Нагой. – Верно ли, что социниане в Литве большую силу взяли и отчего?
– Все недовольные на ересь, яко на мёд, кидаются. Соблазн в италианской жидовствующей ереси тот, что возглашает самовластие, сиречь свободу всякому человеку мыслить и жить по-своему, без догматов. Косой, расстрига, попал, аки лис в курятник, только перья летят от православных. – Неисправимый сочинитель и искусник словесного плетения, Еразм с минуту полюбовался нечаянным образом. – Ну и мира, конечно, хотят чёрные люди, им война – разорение, а шляхте – возвышение.
– Скоро ли ждёшь гостей?
Еразм помолчал, пронизывая Нагого старчески откровенным и зорким взглядом.
– Мне, сыне, келью свою в вертеп лазуческий превращать негоже. Да и битый я уже, не верю никому. Возьмут в моём дому прохожего человека, на меня хула... А человек, которого жду, не простой.
– Сводил бы он Арсения в Литву с мирным словом.
– Арсению я верю. Но надобно, чтобы тот человек поверил, что не шпега ведёт, а миротворца. Как вы из Пскова на Москву уйдёте, он сам Арсения найдёт, а моё дело сторона.
– До чего крепок! – одобрил Нагой Еразма, когда тот, опираясь на посох, один пошёл к Никольским воротам по круто восходящему Кровавому пути. – И самовластен... Ежели он тебя одобрит литовскому гостю, иди не опасаясь.
Вечером они попрощались: Нагой уезжал во Псков «сторожей дозирать» перед приездом государя.
– За службу твою, Арсений, я тебе денег и имений не обещаю – что они тебе, калугеру, отрёкшемуся благ земных?
Неупокой ответно улыбнулся:
– Да, иноческий чин совлечь и ты с меня не в силах, государь. Но за одну весть я бы во всякой молитве поминал тебя. Ты, верно, помнишь семейство Венедикта Борисовича Колычева, погибшее... сам ведаешь как. Были у него дети – Филипка да Ксюша. Филипка жив, я знаю. Может, и Ксюша где горе мыкает. Сведать бы да помочь.
– Узнаю, что смогу.
Обещание Нагого весило много. Неупокой поклонился и перекрестил его.
После отъезда государя у монастырских посельских старцев началась обычная осенняя страда. Пришёл Покров, время расчётов и сбора податей, завершение денежного года, на месяц отстававшего от календарного. Старец-казначей, позволявший себе опасные шутки, объяснял, что после сотворения мира – первого сентября – Господу пришлось ещё расплачиваться с ангелами-строителями, по каковой причине и нам приходится расчётный срок затягивать до октября. Арсений много ходил по деревням Пачковки, присматривая не только старожильцев деревни Нави, но и новоприходцев. Вновь, как и год назад, дивился необъяснимому стремлению старца Трифона ослаблять самые крепкие крестьянские дворы и не давать разоряться беднейшим, к хозяйству явно не способным. Особенно давил посельский старец Лапу Иванова. Вакору пока не трогал.
Конечно, Трифон отвечал перед соборными старцами не столько за благополучие крестьян, сколько за их число. Последнее его недоразумение с Лапой случилось из-за сыновей: младшие Ивановы входили в возраст, когда могли жениться и отделяться от отца. Трифон настаивал, чтобы ребят женили. Отцы – и Лапа и Прощелыка – не желали расстаться с работниками, да и оброки с меньшего числа дворов, или «дымов», были заметно меньше. Лапа предпочитал взять у обители ещё земли «на посилье». Если бы Трифон разрешил, у Ивановых собралось бы поле, соизмеримое с малым помещичьим наделом... Но Трифон ни земли не давал, ни леса, чтобы пристроить к Лапиной избе клеть для женатого сына. Ходатайство Арсения успеха не имело. Когда же Трифон узнал, что игумен отпускает Неупокоя на богомолье в Киев (так было сказано соборным старцам), он вовсе перестал советоваться с ним: ты-де отрезанный ломоть!
Дела Вакоры шли хорошо, близость к Пскову пошла ему на пользу, он скоро освоился на городском торгу, уяснив свои небольшие, но твёрдые права. Вот только в последний месяц он начал таиться от Неупокоя, поугрюмел и даже неохотно приглашал в избу, когда посельский пристав заглядывал в его глухой починок. Даже под благословение подходил не с прежним умилением. Неупокоя мучило это незаслуженное отчуждение, но он помалкивал до времени, догадываясь о его причине.
Двор Вакоры, затерянный среди лесных урочищ среднего течения Пачковки, издавна был примечен странниками, предпочитавшими поголодать, нежели мозолить глаза монастырским подкеларникам. Нетрудно было догадаться, что эти богомольцы «метались» через порубежные земли подобно ночным бесшумным птицам. Весть о надёжном приюте быстро расходится среди бездомных. Вакора, видимо, не тяготился гостями, кормившимися у него отнюдь не даром, но опасался Неупокоя.
Незадолго до Покрова один из странников вышел к Неупокою на завалинку, где лядащая жена Вакоры потчевала посельского пристава своим целебным «синим мёдом» на черничном соке.
Странник производил впечатление больного человека, сердито боровшегося со своей болезнью. Действительно, как выяснилось позже, он у Вакоры отлёживался в лихорадке, перемежавшейся с приступами беспамятства. Узнав об этом, Неупокой внутренне поёжился – заразные поветрия, от чумы до разных венгерских и немецких лихорадок или тифа, издавна шли в Россию с тесного Запада... Пришелец успокоил, что его болезнь живёт в нём смолоду. Назвался он Игнатием.
Щёки и скулы у него после припадков втянулись, вдавились в черепной костяк, отчего лоб казался обширным и тяжёлым. Бородка была почти седой, но глаза с коричневыми полукружиями под ними – жгуче-чёрными и беспокойными, с какой-то неутолимой далью в глубине. Истинный странник, и умереть ему в дороге.
Вопрос – куда дорога?
– Нам по пути, – сказал Арсению Игнатий и улыбнулся горько. – Старец Еразм говорил мне про тебя.
– Так это ты... должен был меня найти?
– Альбо ты меня.
Игнатий пробирался не из Литвы, а с Севера, с Печоры, куда ходил «со словом». Подробнее Неупокой выспрашивать не стал, догадываясь, что теперь Игнатий станет испытывать его, а не наоборот. Одно было понятно: этот угрюмый и бесстрашный человек близок к Феодосию Косому, может быть – прямой посланец его, «ловец человеков» и проповедник его учения. Неупокою предстояло доказать Игнатию свою искренность и полезность в будущем. Для этого нужно было оставаться самим собой.
Они помногу беседовали о крестьянах и монастырских старцах. Возмущённые недоумения Неупокоя, как оказалось, были близки Игнатию, только он уже знал ответы на многие вопросы. О старцах он сказал с устоявшейся ненавистью:
– Сии стяжатели больше всего страшатся обогащения крестьян. Им спать не дают доходы, что мают паны у Литве со своих фольварков[25]25
...со своих фольварков. – Фольварк – небольшая усадьба, хутор в Польше, Литве, Белоруссии.
[Закрыть]. Паны назло дробят мужицкие наделы ради возрастания толоки и чинша. (Толока – это общинные работы на господских землях, а чинш – денежный оброк со двора). А найглавнейше и найслаще для панов, як и для старцев монастырских, заставить крестьян работать на барском поле. У нас до девяноста дней в году крестьянин робит на пана. Чего и ваши добиваются – коли не по закону, так разорением да кабалой. Спробуй заставь Вакору трудиться на монастырской пашне три дня в седмицу, як у Литве: уплатит пожилое, тольки его и видели. А у Мокрени вашего грошей немае, он всё едино паробок... холоп по-вашему.
Несколько раз Неупокой приступал к разговору о Феодосии Косом, о новом вероучении, отрицавшем Троицу и обряды. Игнатий от ответов уходил. Создавалось впечатление, что с Вакорой он был более откровенен, чем с Неупокоем, хотя кто, кроме Неупокоя, мог бы понять его здесь в полной мере? Видимо, бдительный Еразм сказал ему больше, чем обещал Нагому.
Однажды Арсений поделился сокровенным замыслом:
– Открылось мне, что всякое сословие имеет свою веру. Возьми Литву, где совесть верующих свободна и проявляется без опаски и гонений. Паны – католики, посадские – лютеране, а крестьяне кто? По старой памяти многие остаются православными, но стоило явиться Феодосию Косому, крестьяне потянулись к нему за утешением, оставив своих попов. Так ли?
– Не токмо крестьяне, – уточнил Игнатий. – Первыми минские посадские пошли за нами церкви громить.
– Дай договорить, я к тому веду. Отчего паны за католичество держатся, а наши власти – за православие? Это веры господствующие и – господские. В Лютеровой ереси посадские что-то своё нашли. Одни крестьяне собственной веры не имеют, оттого и прав своих добиваются врозь, сказать точнее – ничего не добиваются. А родилась бы у них своя вера, крестьянская, и стали бы вероучители их яко игумены, что означает по-гречески «предводители». Круто повернулось бы дело для господ, как было лет тридцать назад в империи. Вот я и мыслю: нет ли в учении Феодосия зерна крестьянской веры?
Игнатий смотрел в глаза Неупокою каким-то новым, жгучим, но подобревшим взглядом. Впервые ухватил Неупокой улыбку в его седеющей бородке, острым клинышком закрывавшей горло и будто сердитым ветерком распатланной у вдавленных скул. Подумав, Игнатий отвечал:
– Мысли, яко грачи, сегодня на моём поле кормятся, через неделю – у тебе... Ужели за долгие скитания встретил я наконец истинного брата по духу и есть мне кому свою ношу передать?
– Ты тоже о крестьянской вере мыслил?
– Я только о ней и мыслю, мне всё иное – хворост для этого костра!
Они разом отвели глаза друг от друга. Люди, привычно одинокие, внезапно повстречав родную душу, испытывают что-то вроде стыда от переполненности чувств. Так вспыхивает мальчишка, впервые встретив девичий взгляд... Игнатий первым нашёл на что отвлечься, покуда новорождённое чувство отстоится и окрепнет:
– О вере... ещё поговорим! Только у панов кроме веры есть воинская служба. Она оправдывает всё зло и несвободу, которую они несут другим сословиям. Если бы государства наши пожили в мире хоть десять лет, сильно усох бы воинский чин, а землепашцы и посадские возвысились. Я потому и согласился встретиться с тобой, что подослали тебя люди недобрые, но – так бывает в господарских делах – с добром.
– Что ж, возьмёшь меня с собой?
– Мы не в последний раз беседуем, Арсений. Мне время нужно, чтобы задуманное довершить, да и тебе поверить до дна душевного. Иначе не возьму. Я должен так тебе поверить, чтобы и Феодосий тебе поверил.
– Вы с ним заодин мыслите, тебе виднее. И в Литву, верно, вместе бежали.
– Вместе, да не совсем. Мой путь особый...
В усмешке Игнатия Неупокою почудилось отчуждение, даже пренебрежение к далёкому вероучителю и другу. У него вырвалось:
– Я про вас с Косым всего и знаю, что Зиновий Отенский наклепал, злобствуя.
– Зима в России долгая, – ответил Игнатий. – Мало-помалу откроются тебе и наши тайные пути. Мы с тобой ранее Великого поста не тронемся. А в путь я вышел тридесять лет назад...
Путь Игнатия
«Бе бо тогда засуха велика», – писал свидетель о весне 1547 года.
И засуха взаимной ненависти изгладывала москвичей, только что переживших венчание на царство первого царя.
Шестнадцатилетний государь Иван Васильевич, в начале февраля женившийся на Анастасии Романовой Юрьевой, казнил бояр. В народе толковали, что казни – сажание на кол и «ссекание на льду» – производились по наущению дяди и бабки государя, Глинских. Так завершилась многолетняя борьба меж ними и Шуйскими – единственными князьями, добившимися смутной любви посада. В истоках этой любви Игнатий не разбирался – что ему до посадских? Отданного из вымиравшей от голода деревни в «детёныши» Андроньева монастыря на Яузе, его скоблила своя, крестьянская обида. С молодой силой жаждал он посчитаться с теми, кто виноват в его бездомье. Иноки говорили, что виноваты боярские междоусобицы, не утихавшие всё время малолетства государя. Игнатий перетолковывал для себя, что виноваты вообще сильные люди, в их числе – владелец его родной деревни и дьяки, разорившие крестьян особой податью – двенадцать рублей с сохи! – на царское венчание.
В монастыре Игнатий жил с постоянным чувством голода и охотничьей мечтой о добыче более сильной, чем заповедь «не укради». В апреле, когда от ранней невиданной жары начали подсыхать озимые и предусмотрительные люди попрятали хлеб, голод стал общим бедствием. Игнатий, тщетно промышляя рыбёшку в отравленной кожевниками Яузе, повстречал беглого холопа Федьку Косого.







