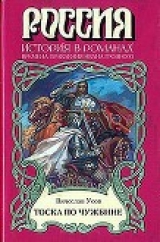
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 42 страниц)
3
Игумен Сильвестр был плох. Сказал Арсению, трогая щёки, просвечивавшие сквозь бороду гнилостной желтизной:
– Видишь?.. Не лицемерь. Я же тебя не к исповеди принуждаю. А и принудил бы, немного услышал – замкнулся ты. Тяжко тебе, а душу облегчить не хочешь. Да и какой я ныне духовник, сила истекает из меня.
Игумен говорил, лишь понуждаемый сознанием, что надо говорить, как надо исполнять ежедневные дела и обещания, глаза же его, уставленные на образ Богоматери, жили, догорали иным, единственно важным: что его ждёт, насколько это будет трудно – и когда? Ответный взгляд заступницы, написанный другим, давно отмучившимся страдальцем, обещал помощь в самом таинственном и горьком труде человека – отодрании души от тела.
Сильвестр глотнул своего чёрного настоя, очистил горло.
– Отец Савелий, служа в храме Жён-Мироносиц в Завеличье, правит службы и в Иоанно-Предтеченской обители. Ты знаешь, что белые попы, служа в женских монастырях, дают обет молчания... Но я по старой дружбе умолил его. Он обещал проведать, что можно, о послушнице Ксении, заутра жду его... Что это, будто звонят не вовремя? А, то иноков по лист сбирают. Иди и ты.
По лист – за ветками берёзы для украшения церкви – иноки ходили в Троицкое воскресенье после торжественной обедни. Для многих это была одна из немногих возможностей выйти за дубовые, обитые железом, тройные монастырские ворота. Сильвестру оставалось только воздыхать о временах, когда он шествовал во главе братии в ближнюю рощу, первым надламывал низко свисавшую ветку, унизанную свежими, пряно пахнущими и клейкими листами. А иногда листы были уже и зрелы и сухи, в зависимости от ранней или поздней Пасхи...
Неупокой увидел слёзы на его лице и отказался:
– Побуду с тобой, отец святый.
Он с неловкостью ожидал, что Сильвестр станет благодарить его или ещё пуще растрогается, но тот, обрадовавшись, безвозмездно принял малую жертву Неупокоя. Он ненароком заговорил о многообразном грехе прелюбодейства.
Арсений не удивился странному ходу мысли своего духовного отца. Ему известен был древний способ исповедников – раскрыться перед испытуемым и вызвать его на откровенность. Редко, но тот же способ применялся и в подклетах Приказа тайных дел, если за испытуемого брался мастер вроде Умного-Колычева. Игумен, видно, не оставил надежды узнать, что гложет духовного сына с Троицкой субботы. Впервые у Неупокоя заклинило язык на исповеди.
– В минуту слабости поведал я тебе о грехе своей молодости, сломавшем мою жизнь: презрев священнический сан, забыв о долге перед женой, увлёк я во грех свою духовную дочь. Правда, теперь уже не скажешь, поломал я тогда свою жизнь или обогатил скитаниями, наконец – принятием иночества, вознёсшего меня... Но близким людям, несомненно, принёс несчастье, коего они не заслужили.
Игумен, отдыхая, замолчал. Руки его лежали на собольем одеяле. Неупокой смотрел на растопыренные пальцы, похожие на жёлтые негнущиеся косточки. Ими уже ничего не схватишь, не удержишь, не приласкаешь... Но ведь хватал же в молодости и ласкал! Правда, несильно и всегда с оглядкой, с мучением совести. «Подобно мне», – подумалось Неупокою.
– Ныне ты встречи с давней своей подругой ищешь, – внезапно проговорил Сильвестр.
– Святый отец! Да я ни сном ни духом...
– Ручаться ты можешь за свой рассудок, но не за сон и дух. Они обширней и опасней рассудка. Я не обвиняю, а остерегаю тебя, ибо по умолчанию угадываю то, что ты прячешь от самого себя. Не вопрошаю, что приключилось с тобою в прошедшую субботу, но, зная, какие странные видения случаются в наших лесах, хочу припомнить некоторые заповеди: «Аще и мысленно согреших – согреших!» И ещё: «Всяк, воззревший на жену с похотию, уже согрешил с нею».
– Я помню их, отец святый. Но это... сильней меня!
– Вот и добро и добро... Поплачь.
С изумлением ощутив слёзы на своих ресницах, в горле, Неупокой вдруг догадался, что остался возле Сильвестра не ради страждущего, а ради самого себя. Не мог он уйти отсюда, хотя бы частично не покаявшись. Слишком тяжек был его новый тайный груз, слишком многое придётся ему сломать или перестроить в себе, чтобы жить с ним дальше. Нарушение иноческого обета поразило его больнее, чем он ожидал. Видимо, нравственные начала тоже были и сильнее и глубже в нём, чем у его знакомцев расстриг. «Могий вместити да вместит...» Он, видно, не мог.
– Отпусти меня, отче.
– Благослови, Господь.
Иноки возвращались с берёзовыми ветками, обильно устилая ими Кровавый путь. И черноризцы и послушники выглядели свежо и весело, кричали Неупокою, потряхивая ветками: «Мы яко козы!» Он, тоже яко козёл, только привязанный к своему колу, подумал, что веселы они, вкусив вина причастия, ибо чисты, он же сегодня даже от просфоры отказался, чувствуя свою грязь и нераскаянность.
Впрочем, после короткой вечерни, прошедшей в берёзовом и травном благоухании, когда от дорогих окладов и паникадил, увитых ветками, исходил не золотой и тускло-железный, а зелёный свет, молодой голод и его погнал в трапезную. Она тоже была украшена, озеленена.
– Чим станешь потчевать? – шутливо приставал посельский Трифон к келарю. – Чим развеешь уныние наше, оно же главный грех?
И тот, обычно строгий, перечислил, невольно испытывая удовольствие от братского предвкушения:
– Перепеча сдобная, привозная из города, ко штям по два яйца, каша пшённая с гроздовой ягодой-изумом, с маслом, да квас медвян.
– Без хмеля?
– Ты его клал туды?.. А може, кто и заложил, за всеми же не усмотришь. Ин за ним грех.
Кого другого, а келаря, по праздникам умевшего втихую побаловать братию хмельным, за руку никому поймать не удавалось. Однажды некий дурак-уставник возопил: «Кто-то хмельного взвару в квас добавил! Кто у нас кроме келаря да подкеларника в погреб заглядыват?» Келарь не задержался с ответом: «Случается, и ангелы...»
Шли медленные, солнечные дни первой недели после Троицы. Отец Савелий, служивший по особым дням в Ивановском монастыре, не появлялся. Видно, всё было недосуг ему узнать про Ксюшу. Арсений не заходил к игумену без вызова – и не тянуло, и старцы по своим соображениям неохотно пускали к болящему рядовых иноков. Готовясь к перемене власти, они перебирали возможных претендентов, подсылали соглядатаев и советчиков в епархию, даже одного – в Москву, но понимали по прошлому опыту, что преемником Сильвестра окажется человек неожиданный и Непременно одобренный государем. А до приезда этого чужого человека надобно привести дела в порядок.
По окончании нефимона Арсений затворялся в келье, но ни свечи не зажигал, ни молитвы не творил на сон. Лежал на грубом суконном одеяле, уставясь на серую заплатку оконца, а видел только соломенные волосы, упавшие на выжидательно-покорное и строгое лицо, и очи – васильки во ржи. Руки слепо и несыто блуждали в горячем раздолье девичьего тела, губы впивались в губы, не отдавая и не получая последней сладости.
Так было каждый вечер. Марфуша не отпускала его. Он запретил себе ходить в деревню Нави. Рубил воображение у корня. Днём это удавалось. Ночь припасала своё мучение, изощряясь в бесстыдном разнообразии.
«Рождение страсти слагается из четырёх частей: прилог – упоминание, соблазн; сочетание – когда мы поддаёмся помыслу, оно же – прорастание прилога; сложение – приемля помыслы или образы и с ними глаголя, сложит грешник в мысли своей: тако быть! Их завершает пленение: страсть, временем долгим в душе гнездяся, утверждается от собеседования частого и мечтания».
Всё это изучал Арсений, как и любой монах в начале искуса, понимая, как тяжек пожизненный обет безбрачия. Многие ли соблюдали его – другой вопрос. Большинство соблюдало. Неупокой не ожидал, что он, прилежный читатель Нила Сорского, окажется слабее большинства.
«Постави ум глух и нем во время молитвы и имети сердце безмолвствующе от всякого помысла, – учил Нил Сорский страстного человека. – Понеже бесстрастным помыслам страстные последуют, и первых вход вторым вина бывает». Заволжский старец ведал и силу страсти, и тёмные ходы её и умел перехватывать их, как дыхание во вражьем горле.
Ветлужский старец Власий уточнил: уничтожить все помыслы под силу одним угодникам. Легче иное – вытеснить опасный помысел полезным, грязный – чистым. Неупокой заметил с недавних пор, что два мечтания, вытесняя стыдные, помогают ему заснуть под утро: о маленьком Филипке, заталкивавшем в онемевший рот краюшку хлеба, когда ворам случалось добыть её; и о молитве Ксюши, которую он представлял уже под чёрным платом, заменявшим инокиням куколь, и с таким прекрасным, тонким и чистым ликом, что вожделение плотское уничтожалось... Молилась Ксюша в воображении Неупокоя перед распятием, какое он видел у княгини Курбской.
Может быть, в Ксюше, сестре его духовной, его спасение и прощение? Сперва он думал о ней, чтобы не думать о Марфуше; чем далее, тем помыслы его становились и возвышеннее и настойчивее, он уже мог бы нарисовать её милый и чистый облик на стене кельи, да Бог не дал ему иконописного таланта. Он слышал, что имперские рыцари носили на щитах знаки любимых, к которым по обету не вожделели. Такой хранительницей его в пустынножительстве и странствиях будет инокиня Ксюша... Впрочем, у неё теперь иное имя.
За неделю до престольного праздника Ивановского монастыря, дня Иоанна Предтечи, к Сильвестру явился наконец отец Савелий. Неупокой был зван к игумену. Сильвестр сказал:
– Сей сын мой духовный, отец Савелий. У него от меня тайн нет. Такоже и у меня от него. Молви при нём, об чём я просил узнать, не сомневаясь. Мне так нужно.
Отец Савелий отучился удивляться и вопрошать лишнее, служа и принимая исповеди в женском монастыре. Тайны черниц его, однако, не слишком тяготили, он выглядел до неприличия здоровым, сочным, густогласым рядом с Сильвестром. Одна у него была слабость – любил поражать людей, удивлять и даже конфузить их, для чего щедро использовал как раз те происшествия в женской обители, в молчании о которых давал обет. Это через него в позапрошлое Крещение, когда Неупокой только готовился в Литву, пошла гулять по Пскову байка о явлении беса одной монахине. Игумен, заражённый исходящим от Савелия здоровым духом, возвеселился, его потянуло на простые, скоромные разговоры, так что они не сразу перешли к тому, о чём хотел узнать Неупокой. Вдруг оказалось, что уже давно перешли, ибо инокиня Калерия, увидевшая беса в образе своего любимого, в миру звалась Ксений Колычевой.
Путь Ксюши Колычевой
Что за дело белочке до содранной и вывернутой шкурки, хоть бы и на заборе распяленной на общее позорище, если свободная душа её умчалась в лес! Тело, сказала мать игуменья, яко одежда наша: сбросив, не плачем, а испачканное моём – были бы руки да охота. С тела смоется всё, страшно лишь душу загрязнить. И Ксюша стала относиться к своему поруганному телу как к рубахе, отстиранной не добела, но по мере носки всё ветшающей и выгорающей, так что скоро и пятнышка не разглядишь. Да незачем и всматриваться, если есть иное: Господь, предвечное добро и бескрайний мир, нуждающийся в посеве этого добра. Кому же его и сеять, как не тем, кто от иных забот избавлен самой судьбой, – невестам Христовым!
Молиться просто, говаривала мать игуменья, а ещё проще откупиться от нищих подаянием. Ты испытай себя на деле. Вот в рыбацких деревеньках севернее Гдова, где у Ивановского монастыря были ловли на Чудском озере, дети неведомой болезнью изнемогают – то ли от рыбы-малосолки, то ли от местных вод. Жители тех болотистых равнин привыкли относиться к гибели детей с покорностью отчаяния, в их запустелой жизни многое воспринималось проще, чем в псковском празднолюбивом благополучии. Гдов был далёк; кроме приказчиков-наймитов туда мало кто и заглядывал. Покуда Ксюша была послушницей, ей было приличнее, чем инокиням, сопровождать в поездки старика приказчика. И она бесстрашно отправилась в Гдов под охраной одного вооружённого возницы да игуменского благословения, веря, что ей в крестьянских избах откроются такие двери и напогребицы, какие ни приказчику, ни матери игуменье недоступны.
Гдов был её испытанием перед постригом, как было принято не только в Ивановском монастыре: если ты не дал вклада, докажи свою полезность обители, умение работать. Дунюшка Колычева незаметно передала дочери многие навыки домашнего обихода, в том числе пристальную заботу о чистоте и лекарское, травное искусство. Игуменья всё это вызнала, сообразила и, не смущаясь возрастом послушницы, отправила её туда, где этих начал и навыков не хватало.
На Ксюшу места под Гдовом, плоские берега Чудского озера, переходящие в такие же бескрайние лесистые болота, произвели одновременно и тусклое, тягучее, и возбуждающее впечатление. Здесь ей впервые открылось, как велика и неприветлива земля, как трудно добыть на ней даже простое пропитание, как трудно просто жить, а значит, у неё, Ксюши, есть бесконечное поле приложения сил. Её пашня, её маленькая, но острая соха...
В сопровождении приказчика, уже надеявшегося на посох больше, чем на собственные ноги, «истоптанные во владычных поручениях» (так говорил он, подразумевая игуменью и потаённым светом подслеповатых глаз невольно намекая на давние и непростые отношения между ними, намертво рассечённые железной калиткой монастыря), они поехали по деревенькам в каптане, запряжённой парой лошадей. Ксюша теряла счёт настилам, мосткам на хлябях и поворотам едва намеченных дорог, ведущих к рыбачьим избам, сколоченным из плавника так наскоро, непрочно, будто их обитатели не в третьем-четвёртом поколении ловят здесь рыбу, а мимоходом остановились и завтра покочуют дальше. Некая вялость, уничижительное пренебрежение к себе истощали этих прибрежных жителей не меньше, чем сборщики оброка. Ивановскому монастырю они давали, впрочем, только «пятую рыбу», так что и сами без рыбы не сидели, её на озере хватало.
Приказчик, оставляя посохом глубокие дыры в торфянистой земле, заглядывал в коптильни, сушила, ледники, подсчитывал улов, а Ксюша шла в избу – такую чёрную, словно и в ней коптили рыбу. Если свои несчастья сделали её взрослее, то созерцание чужих внушило не свойственные молодости терпимость и ненавязчивое милосердие. И это сразу улавливали рыбацкие жёнки и особенно больные дети, тянувшиеся к доброй, неулыбчивой послушнице, умевшей одним прикосновением или горячим, горьковатым отваром утишить привычную боль в раздутом животе и резь в глазах. «Полежи, – велела она ребёнку, накладывая на воспалённые веки прохладную тряпочку с мельханом. – Полежи, пройдёт». И долго сидела с матерью, внушая веру в выздоровление одним убедительным, негромким говорением, похожим на молитву.
Ксюше, однако, нетрудно было убедиться, как мало может сделать милосердие без принуждения, особенно для больных детей. Разве забрать их из родительских домов, что было и жестоко и невозможно. Живя у рыбы, при вечной нехватке овощей и хлеба, детишки неразборчиво тянули в рот всякую пищу, которой брезговали взрослые. Детям она казалась вкусной, ибо кроме грязи и гнили содержала нечто, необходимое их растущим косточкам и жилкам. То в коптильне, то прямо на берегу, из сети, добывали они сырое, свежее, пахнущее водой и водорослями. Соление – главный способ обеззараживания рыбы – в полной мере использовалось для дорогих пород, на подати и продажу, а для себя рыбу недосаливали, находя даже особый смак в её «томном» запахе. Дети же и такого «томления» не дожидались, хватали полусырое. Варёная ушица давно приелась им. Не приедалась только корюшка, чистая рыбка с огуречным запахом... Ксюша, увидев, что отрывают, отхватывают ржавыми ножиками детишки от сырых тушек, изъязвлённых личинками, подумала, что матушка её умерла бы на месте, застав за эдаким Филипку. Виновата не вода, доложила она игуменье; но как бороться со скудостью и темнотой?
«Коли творить добро было бы легко, – возразила игуменья, – в том не было бы подвига. Всего зла нам не одолеть; но сотворить посильное – долг каждого».
Они же обдумывали это «посилье» – меняли пути движения монастырских соляных обозов, чтобы обильнее и дешевле снабжать рыбацкие деревни солью; наметили устройство нескольких «исад» – береговых келейных поселений для инокинь-назирательниц: весною сёстры помогут рыбакам восстановить запущенные огородцы, разметить новые, доставят из Пскова рассаду и семена... Всё поневоле откладывалось до весны. Зимой, под Рождество или Крещение, Ксюше предстоял постриг.
Звонница церкви Иоанна Предтечи имела два просвета с балками для колоколов. Из глубины монастырского двора Ксюша засматривалась на них, как в голубые зеркала, воображая колокола братцем и сестричкой, а маковки над ними – отцом и матерью. Братцем, конечно, был Филипка, себя она видела смутно, а мать с отцом едва зыбились, не загораживая золочёных маковок: их, верно, неохотно отпускали ангелы на свидание с дочерью. Для Ксюши они, как и Филипка, не вовсе выпали из мироздания, а где-то пребывали в ожидании встречи, и это место называлось раем. Там тихо и безопасно от людей.
Однажды, глубоко забывшись, она увидела на месте отца дяденьку Неупокоя. Умом Ксюша понимала, что Неупокой, наверно, мёртв: до Пскова дошло в подробностях, как расправлялись Годуновы и Нагие с людьми Умного-Колычева... Но в новом положении затворницы Ксюша жила одними мысленными образами и воображаемыми радостями, целыми днями грезила наяву, потому ей не было дела, мёртв или жив любимый человек. Хоть бы и жив; ей, осквернённой нелюдями-опричными, уже ни любить, ни детей вынашивать нс придётся. Любовь её останется безвестной и потому навеки чистой. И она давала себе полную волю в мечтаниях о дяденьке Неупокое, целые повести сочиняя об их нечаянной встрече перед вечной разлукой у монастырских ворот. Вспоминала она и о рубашке, подаренной ему перед его отъездом за рубеж, и тут же как-то странно припутывалось ещё одно воспоминание или грёза – о платочке.
Принято было дарить любимому перед дорогой рушник или платочек. Ксюша так и видела его, красно вышитый соколами, особым новгородским узором, как её научила маменька. Такого узора она больше нигде не встречала. Рубашку Неупокой, наверно, износил, а рушничок сберёг... В чёрные минуты Ксюше мнилось, как палач сдирает с Неупокоя рубашку перед казнью. Но потом, когда казнённого зарывают на кладбище бездомных, что-нибудь из его имущества, дорогое сердцу, самый закоренелый могильщик непременно кинет в яму. Для дяденьки Неупокоя это был заветный платочек с сокольим узором.
Уже замечено, что человека нигде не посещают такие явственные и убедительные видения, такие сны причудливые, как в тюрьмах и монастырях. Оголодавшая душа в себе находит то, чего не видит во внешнем мире. Весь тёмный и холодный Рождественский пост Ксюша провела как бы в сплошной грёзе о Неупокое, не прерывавшейся даже во время службы. В церкви её мечтание очищалось, образ Неупокоя приобретал черты не столько человеческие, сколько ангельские, но ангела не милосердного, а карающего. Он наказывал Ксюшиных обидчиков, восполняя её неутолённое чувство справедливости. Мир, перекошенный злобой одних и слабостью других, восстанавливал божественное равновесие.
Неупокой зажил в воображении Ксюши не менее реально, чем те святые, которым она молилась. Даже не в воображении, а в сопредельном пространстве, откуда в наш скучный и злобный мир исходит нечаянная радость.
В Сочельник по Завеличью ходили ряженые, на городской стене, уныло и длинно протянувшейся по противоположному берегу, зажглись праздничные факелы. Тогда впервые за прошедший год потянулась Ксюшина отощавшая душенька к празднику, к озорному многолюдью. А оставалось ей три недели до пострига, до бесповоротного погребения в обители. И взбунтовалась она, и залила слезами жёсткую подушку, набитую конским волосом, переживая всё, на что обречён приготовленный к смерти: покорность, примирение и неожиданное возмущение против службы. Почему именно я, а не они, ликующие на воле, за стеной? За что меня?
Лишь за день до Крещения укротила она себя. Ей снова помогла игуменья, да не она одна: испокон веку плечо подружки служит последним прибежищем. С подружкой ещё и легче и откровеннее, можно такое вспомнить – и про рубашку, и про платочек, чего матери игуменье не скажешь. Но и лукавы эти подружки, и двоемысленны, тоже одержимые своим несчастьем, так что не вдруг поймёшь, сочувствует она тебе, широким рукавом слёзы твои отирая, или иголкой, в нём забытой невзначай, укалывает... Девичья дружба непременно с подковыркой. Но без неё никак!
Какая муха или рассчитанный намёк ужалил Ксюшу в день Богоявления, она сама не понимала. Спокойно отстояла утреннюю службу и часы, вернулась в келью, которую делила с другой послушницей и инокиней постарше, а как стали сбираться на прорубь-«иордань», на водосвятие, Ксюша сказала: «Не пойду!» Будто всеобщее ликование встало поперёк горла – уж коли она хоронит себя через неделю, пусть будет как в могиле! У матери игуменьи не стало времени усовещивать и уговаривать её – в час выхода на люди, под символической охраной своих стрельцов, иным головушка забита. Пусть порыдает всласть, перед постригом у всех нечто подобное случается, легко никто из мира не уходит...
И Ксюша осталась одна не только в келье, но, кажется, и во всём монастыре, ежели не считать внешней охраны у ворот.
Она не молилась, а лишь пыталась думать о том, какая чистая жизнь ждёт её после пострига. Отбросив скверну мира, она посвятит себя одному добру, ведь несчастных так много, они нуждаются в помощи, как раненый в повязке с корпией. Кругом ещё звенит железо, а раненому уже ни до чего, из него кровь уходит, боль и видение собственной истерзанной плоти мутят сознание. Тут лекарь или травник подберётся... Травника даже враг не тронет, понимая, что и самому однажды придётся подозвать его. Такой травницей для людей, одержимых уже не враждой, а болью, станет Ксюша, инокиня Калерия.
А прошлое, в котором был дяденька Неупокой, останется в воспоминаниях. Оно затуманится её молитвами и добрыми делами...
Дверь в келью приотворилась, и он вошёл.
Ксюша не сразу признала в человеке, одетом в немецкое платье (куртка с колетом из толстой кожи, короткие штаны с колготами, срамно обтягивавшими угловатые колени), Неупокоя. Он постарел, иссох, в добрых глазах играли издевательские искорки, волосы под беретом не пострижены, висят по-бабьи. Бородку отрастил... Но это был он, его нос и губы, высокий и ровный лоб книжника, узкая кость, несильная рука с тонкими пальцами, привыкшими к перу. Крещенское морозное солнце било в окошко, но Ксюше не пришло на ум проверить, отбрасывает ли пришелец тень, настолько видение было реальным и каким-то обыденным, даже не ужаснувшим её сперва, хотя и совершенно необъяснимым: проникнуть в женский монастырь Неупокой не мог.
Но когда он подошёл к ней на два шага, вся невозможность этого видения дошла до Ксюши, и она отшатнулась, вдавилась спиною в белёную стенку, ожидая, чтобы беспамятство избавило её от того, чего она не могла постичь. Ей хотелось зажмурить глаза, зажать руками, но руки мертво висели. Всё вокруг подёрнулось мертвенным светом, и Ксюша догадалась, откуда явился дяденька Неупокой.
В руке у него был платочек, вышитый соколами.
– Боишься меня? – спросил он знакомым тонковатым голосом.
– Нет, – солгав, пролепетала Ксюша.
– А я проститься пришёл и вернуть тебе последнее, что взял из вашего дома. Хочешь пойти со мной? Я выведу.
– Нет! – закричала Ксюша и потеряла наконец сознание.
Сквозь беспамятство она услышала колокольный звон водосвятия, когда крест погружают в прорубь, и обморок её перешёл в тихий сон. Ото сна её подняли соседки по келье, положив на голову намоченный в уксусе платочек. Тот самый, с соколами.
Ксюша не могла без омерзения смотреть на него. Подружка-послушница, выспросив Ксюшу, тоже перепугалась, кинулась в ноги игуменье, и та перевела её в другую келью. Как ни старались скрыть происшедшее, оно получило огласку даже в городе. Самые смелые монахини украдкой забегали в келью, расспрашивали Ксюшу, доводя её до слёзных припадков, просили старицу-назирательницу показать платочек... Пришлось отцу Афанасию совершить в злополучной келье очистительный молебен. Платочек был сожжён, и с ним сгорела его тайна.
На Сырной седмице Ксюша заболела, в беспамятстве провела первые недели Великого поста. На пятой его седмице приняла постриг и годовой обет молчания.
Жизненный путь её отныне был прям и прост. После очередной поездки в гдовские деревни игуменья направила её в монастырскую больницу для инокинь и бездомовных, а то и просто пропащих женщин, каких хватало в многолюдном торговом городе. Чего там инокиня Калерия не насмотрелась, какого затяжного горя и струпов неисцельных, какой душевной, нравственной разрухи! Собственные её печали не забылись, но как бы выцвели, обет молчания искупил остатки мысленных грехов. Калерия всё глубже уходила в себя и в неторопливую, нескончаемую работу. Она успокаивалась и очищалась, как вода, которую оставили в покое.
Случалось, её тянуло и возмущённо поделиться увиденным, и словом утешить страждущую, и просьбой по начальству отвратить зло; обет молчания не позволял, и беды, требовавшие, казалось, немедленного суетного вмешательства, рассасывались в её присутствии сами собой. И неисцельные болезни тоже кончались – смертью. Но в страшном мире от каждой новой смерти не менялось ничего.
Утешение было теперь главным её трудом. Если нельзя бороться с внешним злом или телесными страданиями, надо так настроить человека, чтобы он переносил беду либо мужественно, либо нечувствительно. Совместная безмолвная молитва и природная, выстраданная доброта, сиявшая в очах Калерии, действовали вернее увещеваний говорливых, но равнодушных сестёр. Юная красота её приобрела утончённые и болезненные черты какой-то безоглядной одухотворённости. Скоро в больнице стали особо отличать её, а мать игуменья пообещала: «Сестра Феодора уже дряхла. Готовься принять у неё больницу. Молодость не помеха, я уговорю соборных стариц... Лишь бы Господь тебя избавил от тщетных мечтаний и видений!» Ксюша лишь благодарно взглянула на неё: «Уже избавил!»







