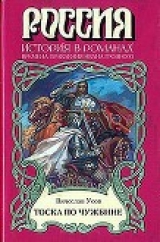
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 42 страниц)
3
Король Стефан проникся к Курбскому державной «лаской», как к искреннему своему союзнику. Он приказал остановить все судные дела против Андрея Михайловича и обратился с личной просьбой к епископу Владимирскому Феодосию, чтобы тот развёл князя с княгиней «без причин», то есть без соблюдения условий, дозволяющих развод. Андрей Михайлович при свидетелях пообещал покончить дело миром, «отпустить Марию Юрьевну со всей учтивостью».
Но ранее жены он отпустил Неупокоя и Игнатия.
– Скажи по правде, як поминают меня в России? – спросил он Неупокоя на прощание. – Проклинают?
– Больше молчат. Послания твои помнят.
– Ты ведь туда вернёшься?
– Как Бог велит.
– Вернёшься, не по пути тебе с Косым. Душа твоя мирская, неспокойная, ты посох держишь, как копьё. Воевал до пострига?
– Кто ныне не воюет, государь?
– Видно по повадкам, да и по посадке в седле. Уходи, да поскорее, бо попадёшься на глаза Воловичу, он тебя враз обесит. Сколько он сам таких-то иноков за рубеж послал.
– Я не шпег, твоя милость, я с миром пришёл. Крест поцелую.
– Верю, а то бы... Да ведь мы и сами, случается, не ведаем, кто мы есмь: скитальцы Божьи альбо шпеги господарские... А где ты письма мои читал? Не ходят же они в списках меж простых людей.
– Я в Печорах читал, – слукавил Неупокой, читавший послания Курбского в Приказе посольских и тайных дел. – Хоть за них головы рубят, все знают, об чём они.
– И то отрада... Яну Глебовичу от меня поклон.
Курбский с тоскою взглянул в окно на пролетевшего стрижа. Не потянуло ли его в дорогу, беспокойного? Лицо его, подрезанное около губ морщинами, выглядело поздоровевшим, освежённым. Так здоровеет человек, решившийся наконец на неизбежный и освобождающий шаг – бежать из дома, расстаться с женщиной или постричься в монастырь...
Дорога в Минск шла по уже знакомым еловым и ореховым чащобам, верховым земляничным борам, перемежавшимся с корявыми лесочками на окраинах ровных, словно зелёная столешница, болот. Всегда неожиданные озёра так были заселены утками и гусями, что глаз невольно искал и человеческое жильё – непуганые птичьи сборища производили впечатление домашних. Но деревенек было немного, и чем далее на северо-восток, тем они попадались реже. След человека, впрочем, никогда не исчезал, особенно поблизости от ягодных или грибных угодий: то колья для самоловных сетей торчали из бурелома, то оставленные до осени перевесья – лёгкие сети, протянутые между соснами. Их устанавливали, приметив прогалы, где год за годом пролетали птичьи стаи. Сетка натягивалась особыми шнурами, птицы дружно ударялись в неё... Однажды Игнатий усомнился: «По добру ли идём? Не изготовлены ли для нас такие же перевесья в Минске?» Неупокой ответил кротко: «Не хочешь, я один пойду. Ступай к Феодосию». Косой, чувствуя непонятную слабость («Чаю, не смерть ли близко, братие!»), подался прямо к себе, на Усочорт.
Ближе к Минску явились пологие всхолмления, болота сверху выглядели сине-зелёными блюдцами. Идти стало веселее. И здесь встречались охотничьи сооружения, но уже более основательные, для богатых забав: загоны из брёвен с широким входом и обманными закоулками, шагов десять – двадцать в поперечнике, – для ловли зубров; толстые сети на кольях, верёвка – в палец толщиной. Такие сети стоят до десяти злотых, их и оставлять-то опасно, да, видно, местные знатные охотники повывели воров в своих лесах.
Под утро девятого дня просёлочная дорога вывела странников на берег Свислочи. Речка бежала к Минску. Шли по низкому притопленному берегу, по ольховникам и дубнякам с непременной примесью сосны, будто нарочно подброшенной для смоляного запаха. Холмы остались в стороне, вдоль речки потянулись ровные уступчатые низинки. Над островами – тоже низкими, вровень с водой – торчали рыбачьи шалаши и охотничьи скрадки. Раздолье было какой-то незнакомой широколиственной травке, мокро блестевшей на солнышке. А чуть повыше её сменяла жёсткая, с колючками. Приходилось обуваться.
Покуда обувались и передыхали, к берегу подгребли рыбаки с плетёными корзинками-мордами. Их Свислочь не обидела – со второго погружения меж ивовых прутьев забилась краснопёрая рыба, блестящая и пружинистая, как заготовки для клинков. Рыбаки сказали, что до города полторы версты. Да уж и церковь Тройцы была видна. Игнатий шёл сюда не в первый раз, с Минском у него были связаны особые воспоминания: здесь, в Троицком предместье, он встретил свою будущую жену. Сколько тут хожено и говорено невозвратимыми июньскими ночами... «Нравы у Минске не московские, девицы вольно убегают из своих светёлок. Молодые более сердца слушают, нежели родителев». Свобода нравов глубже поразила молодого Игнатия, только что пересёкшего границу, чем даже терпимость к ересям.
В предместье им делать нечего, замок и ратуша стояли на другом берегу Свислочи. Их перебросил на плоскодонке мальчишка, налаживавший в кустах самоловы. Покуда плыли, легонько спускаясь по течению к устью ручья Неминги с остатками древнего городища, Игнатий показал Неупокою самую старую в Минске церковь. В ней ещё язычников крестили при Ягайле. Замок располагался на пологом склоне, в верхнем течении ручья, а слева, над песчаной речной косой, белыми стенами высился православный монастырь. Из-за него выглядывала верхушка ратуши.
Игнатий, вылезши из лодки, с прощальной грустью полюбовался Троицким предместьем. Оно и вправду ласково, приветно светилось под набиравшим силу августовским солнцем – каждым брёвнышком и цветным кирпичиком посадских домов. Препон горожанам в Литве не ставили, ежели не считать таможенных привилегий шляхты, и жители предместья за последние десятилетия заметно обогатели.
Сам город на высоком берегу был не ахти велик, улицы – круты и узковаты. Та, что шла к ратуше, пересекала овражек, справа и слева от неё путались и ветвились переулки: одни к костёлу, другие – к синагоге и православной церкви. На площади перед монастырём стояли пустые торговые палатки, а на краю – харчевня. Судя по тесно уставленным продолговатым столам и запаху, в неё захаживали небогатые богомольцы и крестьяне.
Приветливая хозяйка, сетуя на затишье, обычно совпадавшее с началом жатвы, подала жбан тёмного пива и густую похлёбку из лапши с требухой. Игнатий жадно выпил пива и порозовел. Он к душетленному дружку был пристрастен, обходясь без него лишь по скитальческой нужде. «Мысли мои иссушили меня, – признался он однажды Неупокою. – Жажда моя неутолима».
Градские стражники, сменившись, тоже зашли в харчевню подкрепиться и сразу бдительно уставились на запылённые свитки пришельцев. Подозрительность жила в них вместе со скукой многочасовых хождений по улицам. А у Игнатия во хмелю взгляд становился настырным, цепким – не хочешь, так привяжешься. Неупокой не заметил, как, слово за слово, он уже препирался со старшим стражником насчёт входной пошлины, которую они, конечно, не уплатили, переправившись на лодке. Другие полезли из-за стола, прихватывая чеканы. Хозяйка смотрела обречённо, зная, что под предлогом гвалта блюстители порядка за пиво не заплатят.
Неупокой вмешался:
– Не ведаю, полюбится ли пану каштеляну, что вы творите!
Письмо Курбского к Яну Глебовичу придало ему смелости.
Старшой не дрогнул:
– Мы магистрату служим, а не пану Яну! Да и тебе, голота, что за дело до него? Кажи свои грамоты.
Он издевался – какие грамоты у пришлых людишек? Подчинённые поддержали его:
– Пан каштелян нам не указ, нехай он у замке заводит свои уставы. Вас мы ему представим во благовремении, рыла на спины заворотив! Вот он возрадуется!
Старинная враждебность посада к замку готова была излиться на неповинные «рыла», как водится в этом запутанном мире. Неупокой понял, что и бумагу доставать не стоит, ещё больней побьют. Но сквозь тоску, какую всякий человек испытывает перед битьём, пробился светлый лучик: если уж стражники высказывают такую враждебность к панству, то с посадскими и вовсе легко будет толковать о Божьем мире.
Игнатий вовремя вспомнил о Симоне Будном. Когда один из стражников, особенно заскучавший после смены, усердно наводя свирепость на свой рыхлый лик неудачника, потянулся к его вороту, Игнатий спросил:
– Отец Симон тоже не указ тебе? Мы ведь к нему прийшлы.
Стражник отдёрнул руку. Старшой заметил:
– То, видно, не голота, паробки. Тем паче, Хома, надобно их в ратушу спровадить, хай с ними лавники гуторят... К пану Симону якого тольки люду не шлёндрает, Господь ему судья.
Игнатий сделал левой рукой неуловимый знак. Старшой вздрогнул и подобрался:
– Ты... от кого, отче?
– От пана Феодосия. Передай чадам, нехай приходят на беседу.
Старшой и рыхлолицый стражник переглянулись. Остальные переминались непонимающе, растерянно, поглаживая рукояти чеканов и кистеней.
Хозяйка, осмелев, напомнила:
– У мене солод недармовой!
Старшой первым полез за деньгами. Пока остальные добывали заветные гроши, так и прилипавшие серебряными чешуйками к немытым пальцам, он тихо отозвался:
– Господь един... Где и когда?
– Отец Симон и место и время укажет. Завтра, надо быть.
Когда стражники удалились, Неупокой упрекнул друга:
– Ты без задиранья не мог открыться им? Ты ведь в старшом сразу своего признал.
– Без задиранья скучно мне, Арсений. Я и с тобой-то не задираюсь оттого тольки, что люб ты мне. Во всяком человеке бесы живут, во мне – задиристые... В замок пойдём але к отцу Симону?
– В замке, я чаю, поспокойнее.
Минский каштелян Ян Глебович был известен тем, что во время бескоролевья сумел напустить туману и московитам, и панам радным. Одним из первых он письменно пообещал Ельчанинову голосовать за Ивана Васильевича и «ради найвернейшего его избрания» передал копии документов, определявших порядок выборов. Среди панов радных он создал себе славу такого же непримиримого врага Москвы, как Остафий Волович. Неупокою по прошлой службе была известна двойная игра каштеляна. Поэтому он шёл в замок не с лёгким сердцем, лишь разум подсказывал ему, что в незнакомом городе не следует пренебрегать поддержкой сильного человека. Кто знает, чем обернётся встреча с Будным и собрание чад... Он вдруг потерял уверенность в исполнимости своего замысла, казавшегося прежде таким ясным.
В замковом дворе беспокойство усилилось. Неупокой почувствовал себя в каменной ловушке – так высоки и тесно сдвинуты были стены и внутренние укрепления, оголена мощёная площадка перед крыльцом и угрожающе исчерчены железными прутьями окна в полуподвалах бергфрида. Здесь сгинешь, и никто не вспомнит о тебе.
Опомнись, одёрнул он себя, ты же не шпег Нагого... Долго ещё придётся Неупокою отмываться от своего прошлого, репьи от иноческой рясы отцеплять. Главное – быть честным перед самим собой и Богом!
Слуга повёл его в приёмный покой, мельком глянув на печать Курбского. Игнатий в последнюю минуту остался во дворе... Миновав сени с двумя стражниками, Неупокой очутился в просторной горнице со столом и поставцом для бумаг и книг, устланной по каменному полу богатым ковром. На кресло перед столом была наброшена медвежья шкура с косо оскаленной мордой. На стене тоже висел ковёр с оружием: две сабли, саадак, татарский щит. Ян Глебович неторопливо, оберегая себя от лишних усилий, вышел из боковой дверки и уселся в кресло. Медвежья морда легла ему на плечо. Рядом с нею рано оплывшее лицо каштеляна выглядело простецким, добрым. Таким добрякам доверять следует в последнюю очередь.
Глебович указал Неупокою на скамью, стоявшую наискосок от стола:
– Садзись. – Он как бы нехотя сорвал печать с письма. – Не понимаю, что князь Андрей Михайлович пишет – чи ты инок, чи расстрига?
– Имя моё – Арсений, дано при постриге...
– Мирское имя ты, надо полагать, забыв? А для якой справы в Менск прийшол?
Лгать ему? Глебович сам преуспел во лжи. И весело-холодные глаза его располагали к такой же расчётливой, в безопасных пределах, откровенности.
– Маю слово до братьев наших.
– Об чём?
– О мире. Об одолении войны. Она ни литвинам, ни московитам не нужна.
– Ха, подходящее время ты выбрал для мирной проповеди! Але не бачишь, як уся Речь Посполитая укрепляется против извечного врага нашого? Ты из якой обители?
– С Печор Псковских...
– О, дак не наместник ли псковский тебя послал?
– Кабы наместник, я бы к тебе, пан каштелян, не присунулся. Меня братство наше, принявшее учение Феодосия Косого, послало, дабы напомнить чадам: не подобает воевать! – Соврать оказалось легче, чем ожидал Неупокой, тем более что ложь отражала истинные его мечтания. – Бывает, слово Божье сильней вражды...
– Что ж, братства ваши спадзяваются остановить войну? Ты с Будным поговори, он тебе промоет очи. Зря ты и ноги бил... Но князь Андрей прошает за тебя, я ему не откажу. А отчего товарищ твой во дворе остался?
– От робости, я чаю.
Глебович засмеялся:
– Я ж его знаю, то Игнатий, известный еретик. В апошную нашу встречу у пана Кишки он спьяну меня клеймил, что я на крестьян своих лишних уроков наложил, и я, осерчав, пообещал его самого на панщину загнать, иж он появится у землях моих. Кажи ему, я отходчивый. Хай живёт тихо. Я велю вам камору отвесть у замке и выпускать, як пожелаете.
– Спаси тебя Господь, твоя милость...
Ночью под вой какого-то истосковавшегося пса и оклики часовых на башнях Неупокой думал о словах Яна Глебовича, о его уверенности в неизбежности войны. Он потому ещё не мог уснуть, что заново переиначивал свою речь перед собранием социниан Минска. С сего собрания начнётся исполнение его намерений, начнётся проповедь длиною в жизнь... Даже утром, колодезной водой вымывая из глаз песок бессонницы, Неупокой проборматывал отдельные фразы, добиваясь убедительности за счёт пустого красноречия: «Открылось мне, что не все люди братья, но лишь те, кто живёт мирным трудом. Они должны объединиться против злых, ибо те сильны и едины. Пусть нас объединяет заповедь: «Не подобает воевать!» Одним неучастием в войне, недеянием, отказом от военного налога чада могут истощить войну раньше, чем она наберёт силу. Ныне Москва войны не хочет...» После речей короля Стефана и Замойского, Курбского и Яна Глебовича слова Неупокоя, он чувствовал, звучали слабо, но не произнести их он уже не мог. Он не простит себе молчания, даже если за этот мирный призыв ему придётся пострадать.
Может быть, он не столько мирной проповеди жаждал, сколько страдания?
4
Неподалёку от костёла улица Ратуши выбрасывала отросток-переулок, протянувшийся в гору к еврейским лачугам, обмазанным небелёной глиной, с дырами-дымоводами на крышах вместо труб. Шагов трёхсот не доходя до этого бедного гнездовья, Игнатий и Неупокой свернули под прямоугольную арку, пробитую, казалось, в глухой стене.
Но во внутренний двор выходило множество дверей, щелей и окон – стена была, как соты, слеплена из нескольких домов и двухэтажных сараев. По верхним ярусам сараев проходили открытые помосты-гульбища, огороженные перильцами. На одном из помостов стояло несколько человек в простых по крою, но добротных кафтанах и свитках тёмных расцветок, длиной почти до пят. Неупокой догадался, что это Будный с руководителями городской социнианской общины. Внизу по углам обширного двора теснился и прогуливался народ, одетый попестрее, принадлежавший и к мещанскому, и, судя по жупанам, к шляхетскому сословию. Люди уставились на Неупокоя с бесцеремонным и весёлым любопытством, как на заезжего лицедея. Их занимало, как он справится со своей ролью, какими перлами красноречия порадует их. Да, минское собрание чад сильно отличалось от тайных сходок псковских последователей Косого с их жертвенным взглядом на свою отречённую веру.
Разочаровал Неупокоя и облик Симона Будного. В нём чувствовалось терпение лавника, чей товар не портится и может ждать покупателя хоть до второго пришествия. С какой-то сытой самоуверенностью Симон смотрел – посматривал! – на единомышленников, толпившихся внизу. И голос его звучал текуче, как у привычного говоруна. С ближними людьми, допущенными на гульбище, он разговаривал улыбчиво, небрежно, разминаясь перед главной речью, а когда они улыбались его шуткам, ненадолго замолкал, как бы помечая их для будущего использования. Видимо, покровительство Воловича и Радзивилла обеспечило Будному такое бестревожное существование, что и душа его, смолоду беспокойная, порывистая, подёрнулась жирком.
Едва ответив на поклон Неупокоя, Симон предупредил:
– Игнатий сказал мене, что ты от наших братьев из Московии. Учение границ не ведает... Об одном прошаю – в речах своих держись пределов вероучения, а господарское оставь кесарю.
– Я о жизни нашей стану говорить, – вывернулся Неупокой.
Будный заметно посмурнел отёкшим лицом, нижняя челюсть и тонкая губа выдвинулись вперёд. Неупокой подумал, что ссора с этим человеком никому, верно, не проходила даром. Симон кивнул распорядителю – видимо, хозяину сарая. Тот перевесился через перила:
– Братие! Приступим, время дорого!
Люди со двора потянулись вверх по наружной лесенке, уступая друг другу нижние ступени. Второй этаж сарая занимало обширное сушило – сеновал, давно очищенный от сена и служивший, судя по скамьям, для собраний. Скамьи стояли тесно, в два-три десятка рядов. Пустое пространство перед ними предназначалось для проповедника, а у стены стояла ещё одна скамья со спинкой. На неё уселись Будный, распорядитель, Игнатий и Неупокой. В последнюю минуту пока он ещё различал отдельные лица, Неупокой успел заметить давешнего стражника, несмело кивнувшего ему.
Игнатий взглянул на пожелтевшее лицо Неупокоя:
– Лишнего не говори. Коли я скажу: «Господи, помилуй», остановись хотя бы на середине паремии. Як бы беды не вышло.
– Какой беды?
– Люди чужие... Ну да Бог не выдаст, дерзай!
Будный открыл собрание небольшой речью-поучением – в меру шутливым, наполовину состоявшим из общих слов и намёков на городские происшествия. Учение Социна, закончил он, питаемое многими истоками, есть вечно живое и изменчивое древо, чему подтверждением служит новое, московское ответвление его. «Верую, иж от ветви сей сок живой в главный ствол пойдёт...» Далее пану Арсению было уступлено «ристалище» для изложения «тех учынков, якие выробились у наших московских братьев... А мы давно з той стороны ничего нового не мели тай не ждали, ведаючи, якие железны ковы там на сердца наложоны!».
Неупокоя встретили и сочувственно и недоверчиво. Действительно, со времени побега Феодосия Косого из России доходили разве угрюмые опровержения Зиновия Отенского. Легко было поверить, будто религиозная мысль в Московии совершенно омертвела.
Неупокой сделал лишний шаг и близко увидел сидевших в первом ряду: справа – мещан и лавников, слева – шляхтичей из мелкопоместных. Последние смотрели на него доброжелательнее или просто равнодушнее, а в пристальных глазах посадских было какое-то оценивающее напряжение. Может быть, они ждали от пришельца нового символа веры, над коим опять придётся мучиться, раздумывать, а если отвергать, то в спорах и несогласиях. А они уже всё для себя выбрали, Симон Будный разъяснил им их веру в простых понятиях своего «Катехизиса для деток русских», подправленного социнианской логикой... Тем более неожиданной оказалась для них речь Неупокоя.
– Что делать чадам, если псы не только поднимают мечи, но заставляют чад убивать друг друга? Русских людей втягивают в древнюю вражду, вместо того чтобы навеки загасить её. Между тем один из государей уже в бессилии опустил свой меч...
Мещане ещё настороженнее притихли, а на дворян, тут же зашевелившихся, зароптавших, Неупокой старался не смотреть. Он понимал, что вносит смуту в их сытое, сплочённое собрание. По-новому осветились слова Спасителя: «Не мир, но меч...» Громко повторив их, тем самым заставив замолчать сидевших слева, Неупокой заговорил о том, что миротворцев по обе стороны границы намного больше, чем кажется воинственным псам, и ежели они объединятся, откажутся кормить войну, она подохнет с голоду. Ибо кормят её не воинские люди, не умеющие ни зерна вырастить, ни зерцала сковать, а те, в чьих руках соха, торговля и ремесло. Впрочем, и шляхтич, коли он искренний последователь Социна, может служить доброму делу мира. Ведь и Социн, и Феодосий Косой показали, что в Евангелии нет иного закона, кроме закона любви, и нет оправдания даже самой священной войне. Ежели воинские люди это поймут, немногие явятся в день посполитого рушения к полыюму гетману... «Тым способом издохнет война, як шелудивый пёс!»
Симон Будный ёрзал по скамье, Игнатий не в первый раз пробормотал остерегающее: «Господи, помилуй!» Арсений поднял руку:
– Тысячелетнее царство Божье тогда наступит, когда народы сольются в мире по слову: «Нет ни еллина, ни иудея». Вот для чего должны объединиться чада против псов!
Его несло будто на лодке с одним кормовым веслом, а впереди ярко и жутко сверкало на перекате солнце. Сзади раздался спокойный и проникновенный голос Будного:
– И по яким же клеймам ты, чадо, станешь собратьев от внешних отличать? По словам альбо иньшим способом?
– По жизни, – оборотился к нему Неупокой и впервые прямо и глубоко заглянул в его притомлённые глаза. – Як они хлеб свой добывают – потом или кровью!
Но уже произнося эти выстраданные слова, он в очах вероучителя узрел такую прозрачную бездну вражды, что вся решимость его ужалась и заметалась, как заяц, внезапно выскочивший на лису. За что? Разве они не братья по духу? Он поскорее отвернулся, надеясь, что наваждение вражды рассеется, и встретился с передним рядом откровенно злобных лиц.
Старший из шляхтичей сказал:
– Московский прихвостень... Кажи, кто из ближних людей вашего богомерзкого царя послал тебя с лукавыми речами? Мало того, что ты шляхетство псами нарекаешь, ты ещё правых с виноватыми путаешь. Кто первым стал города отнимать – мы але московиты? Кому на месте не сиделось? А ныне мира просят да таких, як ты, подсылают к нам!
– Братие, будьте же свидетели: разве нам с вами не всё едино, кто войну зачинает? Мы должны мир сегодня сохранить!
– Лжёшь, в войне всегда один прав, другой виноват!
– В войне виноваты все!
– А всё же ты не ответил, чадо, – вновь выступил Будный, – кто тебя за рубеж снарядил. Ибо любому из нас понятно, в чью пользу и с чьего голоса ты поёшь! Что ты пел, когда великий князь ваш Инфлянты кровью заливал?
Точный удар вызвал почти физическую боль под рёбрами. Страннический загар скрыл краску, бросившуюся к щекам Неупокоя... Вот ведь и правду напущал Будный, а глубже разобраться – ложь: намерения Неупокоя были чисты! Будный сбивает его, ревнуя к тому вниманию, с каким Неупокоя слушали в задних рядах. Люди же помнят одно из главных положений учения Социна – неучастие в убийстве! Верные не должны носить оружия и занимать военные должности.
Знал бы Неупокой, что Будный после избрания Батория провозгласил – покуда в узком кругу – совместимость социнианства с занятием военных должностей! Тем самым он снимал со шляхетской совести сомнение и привлекал к своему учению новых, уже вооружённых верных. Положение о непротиворечивости социнианства и убийства пришлось кстати в Речи Посполитой, охваченной военными приготовлениями. Вопрос: случайно ли оно было высказано человеком, находившимся под особым покровительством Остафия Воловича?
Неупокой не знал о новых веяниях в польском социнианстве, поэтому Симону Будному нетрудно было обескуражить и добить его. Дав ему высказаться по поводу военных должностей, Симон провозгласил:
– Наше учение тем и славно, что свободно! Оно растёт и изменяется, то есть совершенствуется. Мы не маем окаменелых заповедей. Пан Арсений привык к московской неподвижности...
Шляхтичи, слыша сомнительное молчание за спиной, не дали Неупокою обдумать ответное слово. Словно на сеймике, они застучали сапогами и закричали:
– Не треба московита! Нехай замолкнет, шпег! Мы листов з Москвы довольно начитались, время саблям звенеть!
А некоторые, вскочив и обернувшись к примолкшим мещанам, завопили:
– Што вы сидите, як куры на яйцах? Вам головы дурят московскими фабулами, а вы и рады – денег на войско не давать!
Лавники расставались со своими прибытками болезненнее, чем помещики. Им деньги труднее доставались. Но, даже составляя большинство в общине, они молчали. Не та была обстановка в стране, чтобы поддерживать московского миротворца.
Неупокой увидел руки, протянутые к нему. У шляхтичей нашлись союзники и исполнители, всегда готовые вершить суды на месте. Будный возроптал: «Братья, братья... То гость!» Сохрани Неупокой выдержку, может, и обошлось бы без насильства, но на него, уже не раз битого, вдруг накатил беспамятный ужас перед чужими руками, гадливость к запаху чужих одёжек и отвращение к слабому, на всякую жестокую подначку падкому человеческому духу... Он отшатнулся и кинулся через перильца, прямо во двор.
Прыгая, он подвернул ногу. Но и со сломанной ногой ушёл бы, если бы не сторожа. У минских антитринитариев сохранился в смягчённом виде обычай их итальянских братьев – собрания оберегались особо выделенными людьми. Те и перехватили Неупокоя возле арки и придержали, покуда самые проворные, толкаясь, катились с лестницы, сопровождаемые тщетными призывами Симона: «Тольки не заушайте его, братие!»
Бить его не били, но так выкручивали локти, с таким усердием тащили к открытому подклету, так задевали его телом за все углы, попадавшиеся на пути, что скоро жёлтые круги заиграли в глазах Неупокоя. Прошлый опыт подсказал ему, что среди тащивших затесались два-три человека, знакомые с наукой скрытного избиения – снаружи ничего не видно, а внутренности порваны и перемешаны безобразно... Он из последних сил подставлял локти под их рассчитанные тычки. У низкой дверки он не успел нагнуть голову, и темнота подвала соединилась с внутренней звенящей тьмой.
Он очнулся от холода земляного пола под затылком. За зарешеченным окном были слышны два голоса – Будного и Игнатия. Симон спокойно, с нескрываемым злорадством уверял, что сделать ничего не может. Неупокою безопаснее сидеть в подклете, нежли ходить по городу, уже взбудораженному слухами о московском шпеге. Его могут убить на улицах. Ночью Симон переведёт его в малую тюрьму при ратуше.
– Зачем? – возмутился Игнатий. – Мы дальше пойдём!
– Он человек незнаемый. Вскоре приедут в Минск некоторые люди из Вильно, нехай потолкуют с ним. Коли он чист, то и путь ему чист!
– Твоё ли это дело, пане Симон? Отправь его в замок...
– Але ты не ведаешь, кто у нас в замке каштелян? И нашим, и вашим. Я его милости пану Яну не доверяю. А выпущу московита, когда весь город об нём прознал, с меня же и спросят.
– Кто?
– Найдутся люди. Времена ныне такие, что ходи да оглядывайся, як бы самого в лазутчики не записали.
– Да у него письмо от князя Курбского!
Последним заявлением Игнатий подписал Неупокою приговор. Симон Будный мало кого так ненавидел, как Курбского. Ненависть была взаимной.
– Тэж московит, к тому же и предитор! Едино гнездо. Нехай сидит у подклете, коли не хочет, чтобы его псами затравили!
Будный удалился в крайнем раздражении. Два сторожа, оставшиеся у дверей подклета, так же злобно велели замешкавшемуся Игнатию уходить. Двор погрузился в полуденную тишину.
Неупокой дождался, когда в ушибленной голове притихнет шум, и стал ощупывать тёмные углы подклета. Он знал, чем ему грозила встреча с «некоторыми людьми» из Вильно. Наверняка кто-то из служебников Воловича видел его в Орше или иных местах. А то и сам Филон Кмита препожалует... Бежать Неупокой мог только отсюда, из настоящей тюрьмы без сообщников не убежишь. В жилых же домах и подклетах, говаривал Рудак, столько изъянов, что удивительно, как мало на свете воров-домушников.
Запоздалая ненависть мешала Неупокою сосредоточиться на поисках изъянов в подгнивших нижних венцах старого дома. В углах скопились многолетние тлен и грязь, их запах всё ещё мешался с запахом бивших его людей, он застревал в ноздрях, сведённых отвращением и злобой. Как же ему мечталось встретить хоть одного из них и тоже бить, выкручивать суставы, вопрошая: за что вы меня, за что? Безумные скоты, гонимые на убой и мычащие от усердия! Все люди таковы. Да, все, если уж и на собрании верных отступнику Будному удалось разбудить в них бесов. Ко времени, когда Неупокой нащупал конец бревна, от сырости и дряхлости крошившийся под ногтями, в его обожжённой душе погас последний свет.
Он спросил себя, зачем же ему теперь бежать. Ведь истина, которую он хотел открыть людям, не нужна им. Нужна ли она ему?
«Мне бы нож теперь, – примечталось ему. – Да запазушный кистенёк». Злоба его была сильнее боли, он так свирепо расковыривал гнилую утробу дерева, что засадил под ногти две грязные щепки. «Теперь нарвёт... Видно, мне на роду написано – иглы под ногти получать».
Он ещё пошарил в полутьме. Узкий свет из окошка падал на груду истлевшего тряпья. Неупокой с гадливостью разгрёб его, нащупал ржавую железку – скобу или шкворень. Она годилась для подкопа. Нижний венец лежал на врытых в землю валунах. Неупокой частью искрошил гнилое бревно, частью подкопал землю под ним и увидел свет. При его худобе пролезть было нетрудно, но прежде он тихо посидел, прислушиваясь к шагам и голосам снаружи. Задняя стена дома выходила в соседний переулок, ответвлявшийся от улицы Ратуши. Два человека, степенно разговаривая о цене на мёд – по двадцать грошей за пуд, – прошествовали в сторону реки. Затем по переулку вверх проскрипела телега – судя по вони, чистильщик выгребных ям. Вслушиваясь в эти мирные отзвуки, успокоенный пробившимся светом, Неупокой невольно и к себе прислушался. Злость рассосалась, он меланхолически подумал: «Али я впервые на тычки нарвался? В сей жизни всё перемешано, по пословице: подле пчёлки – в медок, подле жучка – в дерьмо. Надобно уходить да пчёл искать». Дождавшись полной тишины, он выскребен из щели и ещё подумал: «Со змеями надобно вот так – подобно змию». Ему повезло, что окна в этом городе выходили не на улицы, а во дворы. Пофыркивая от пыли и вони, он двинулся следом за телегой к еврейскому местечку.
В жилищах всякого народа – свой запах, обыкновенно кислый: подкисшей рыбы, квашеной капусты, хлебной закваски или пивных дрожжей, томящихся на печи. Из еврейских халуп тоже тянуло кислотой, но какой-то многослойной, застарелой, напоминавшей запах забродивших слив... В памяти выскочило словечко «цимис», название еврейского соуса из моркови с острыми приправами. Неупокой сплюнул голодную слюну и только тогда заметил, что на него из приоткрытых калиток и дверей смотрят женщины и старики. Он тоже посматривал на них с любопытством и бессознательной неприязнью, даже с лёгкой жутью. В Россию евреев не пускали, Иван Васильевич однажды прямо заявил немецкому посланнику, что боится, как бы иудино племя не развратило его народ. В Литве король даровал евреям многие права, небрежно соблюдаемые панами, богатые евреи вели тысячные торговые и ростовщические дела, брали на откуп налоги с целых поветов, поневоле вызывая ненависть населения. Но они боялись выставлять своё богатство в чужой стране, а потому чаще выглядели оборванцами. Своя страна у них – только в духе, в обрядах и книгах. Не так ли и чадам надо жить, скрывая своего Бога до окончательной победы над псами? Только их надо ещё найти, истинных чад, да не ошибиться, как сегодня...







