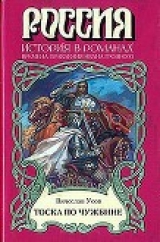
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
3
– Чудеса, вами измышленные, лживы, об чём я стану писать в Москву! За приложением крестьянских рук!
– Ты видел сияние над святой могилой?
– Сияние над могилами случается у многих, но то от тления.
Игумен Питирим возразил миролюбиво и устало:
– Тебе откуда ведомо? Али ты тлел? Может быть, и над безвестными могилами Господь нам огоньками знак даёт, что лежат в них святые мученики, неведомые миру. Явное мы видим, таинства не постигаем.
– Много же святых вы отыщете таким путём!
– Не вем, кто свят, но чаю, что и весь наш многотерпеливый народ достойно к ангельскому чину приобщить.
Неупокою трудно было спорить с Питиримом – уже весьма немолодым, далеко за пятьдесят, учеником и единомышленником Антония. Благодаря спокойной жизни в обустроенном монастыре Питирим имел довольно времени на вдумчивое чтение и размышления. Антоний, сказывали, особенно любил его и ставил в пример братии. «Почто мы стены возвели, коли в них не дух высокий, а одно стяжание живёт? – спрашивал он незадолго до смерти. – Стяжание да труд и в крестьянских юртах обитают». Новый игумен не был ни твердолобым, ни отолстевшим сердцем, как многие монахи, достигшие высоких степеней. В трудных вопросах вероучения он даже с Неупокоем соглашался, но наедине: христианство в России всё ещё слишком слабо и поверхностно, чтобы давать свободу ересям. Так и Сийский Антониев монастырь требует укоренения в диких местах. «Ибо мы не ради стяжания свой воск сбираем, а чтобы свечу во тьме зажечь и тем же крестьянам дать свет!» – «Его без вас поп Харитон давал». – «Тот уже древен. Да и по малому учению недостоин того». И снова умолкал Неупокой – священник Харитон действительно был дряхл и малообразован, а церковь Иоанна Предтечи – мала, одинока и далека от большинства селений. Язычество в крестьянах жило глубже христианства. И не Харитон, а Антоний обучил грамоте первого старожильца Заварзу, покуда их дружба не порушилась из-за рыбных и звериных ловель. А Заварза уже своих детей обучил и грамоте и счёту, понимая, как они пригодятся во враждебном мире.
Игнатий, расставаясь с Неупокоем на границе, сердцем чуял, что на Сии наступают крутые времена. Они с Неупокоем давно пришли к согласию, что слово их нужнее там, где чёрные крестьяне ещё не примирились с внешними. Неупокоя вдохновляло понятие или, точней, видение «материка» чёрных людей, способных если не противостоять остальной России, то хотя бы сохранить себя, свой образ жизни и независимость. Внушить это понятие северным крестьянам важнее, чем распространить учение Косого в Замосковье или на Псковщине... «Полунощные Запороги!» Благополучно миновав заставы на границе, Арсений даже не заглянул к себе в Печоры, а прямо устремился на Двину, в Емецкий стан.
Ещё до царского указа «об обмене», прокликанного восьмого декабря, игумен Питирим предпринял описание окрестных лесов, озёр и пастбищ, чтобы доказать, как много земли пропадает втуне. Северные крестьяне действительно возделывали пашню года два-три после пожога, потом бросали, истощив почву. Исключение составляли такие хозяева, как Заварзины, понимавшие, что выгоднее постоянно удобрять землю, нежели метаться с пожогом по тайге. Так же легко бросались и сенокосные угодья, стоило непоседливому лесовику отыскать траву погуще, посочнее вёрстах в пяти, а то и десяти выше по реке. В те же годы предприимчивые холмогорцы, искавшие свободные земли, являлись на Сию из своей дали и выкупали брошенные угодья, обязуясь платить за них подати. Так появились на Сии пришлые, что опровергало утверждение старожильцев, будто им невмочь выделить землю монастырю. На Сии не было ни той безликой дикости, какую рисовали иноки, ни тесноты, на которую жаловались крестьяне.
Была борьба крестьянского мира, чуявшего на воле свою растущую силу, с опасным соперником – монастырём, освобождённым от большей части государственных поборов. Поскольку Заварзины должны были платить за всё, что Троицкой обители доставалось даром, исход борьбы был предрешён. Воистину, по всей стране как будто шла охота с загонщиками на крестьян: где их не настигало дворянское насильство, там доставало монастырское стяжание.
Фёдор Заварзин, выбранный «излюбленным головой», усвоил воззрения своего покойного отца. Старый Заварза умер вскоре после Антония, догоняя его за последним порогом, – недоспорив, недодравшись... Разнородный и тяжелодумный крестьянский мир, уже вовсю расслаивавшийся на бедных и богатых, ленивых и трудолюбивых, способных и неудачливых, отнюдь не единодушно поддерживал Заварзина в его борьбе с монашескими притязаниями. Фёдор соглашался с Неупокоем, что крестьянам не хватает своей объединяющей веры. Учение Феодосия Косого пришлось ему по сердцу, и не одному ему. Крестьян привлекали и простота нового вероучения, и отрицание чудес и самой Троицы. Только они считали, что негоже рушить старые обряды и праздники, вводящие человека в соприкосновение с невидимым миром, а значит, помогающие глубже постичь мир видимый, живущий по своим законам, чуждым человеку. «Вишь, пузыри на мочажинах, – показывал Неупокою один старый охотник. – То явятся неведомо зачем, а то месяцами тихо. Всё – тайна, и жизнь наша тайна, и не книжникам разгадать её». Самой глубокой тайной был вечный переход живого в мёртвое и вновь – в живое, через бренную плоть разных существ, от человека до былинки. Какое учение о Троице может хотя бы слабо высветить её?
Позднюю осень и декабрь, покуда шла охота на лосей, а позже – подлёдный лов рыбы и установка ловушек на пушного зверя, Неупокой сопровождал Фёдора Заварзина с товарищами, заразившись их добычливой любовью к лесу. Тайга и сенокосы давали северному земледельцу гораздо больше, чем самые ухоженные пашни. Обычно заготовки начинали женщины и дети, целыми днями и неделями пропадая на грибных угодьях – таких просторных, что, опасаясь потеряться, не расставались с боталами-колокольцами, перезванивались друг с дружкой. Грибов, брусники, клюквы и морошки сбирали столько, что в назначенные дни к бабьему табору приезжали на телегах мужики. Покуда женщины солили, квасили, варили и сушили свою добычу, мужчины уходили по чернотропу за жирным осенним мясом (лоси, олени, глухари), а как схватывался на озёрах лёд, долбили лунки и протягивали между ними сети. Тем временем, будто нарочно всё для человека предусмотрено, шкурка у соболя темнела и густела, песец линял и покрывался снежным пухом. Корма ему не хватало, хищнику, он охотно шёл на пахучую приманку в «пасти» – чутко наживлённые колоды, брёвна, падавшие ему на головёнку, стоило тронуть ошмёток рыбы на конском волоске... И шкура оставалась целой, в отличие от беличьей, обыкновенно пробиваемой стрелой. Пороху и пищалей в лесу, конечно, не употребляли – убыточно и шумно, недобычливо.
На ночь устраивались в охотничьей избушке, до звона раскаляли камелёк, сложенный из плитняка, выгоняли чёрный дым, и тут-то начинались беседы о жизни, правде, вере в чудеса. В избушке редко собиралось человек до десяти, но Неупокой знал, что сказанное здесь будет разнесено по дальним деревням через такие же избушки в сопредельных угодьях. Поэтому он обдумывал каждое своё слово и всё старался запоминать или записывать. Он убеждал себя: «Вот родится новое учение и новое сообщество единомысленных, и я у сего нарождения. Это ли не радость?» Что-то мешало радости, – возможно, тщетное телесное томление, подавляемое по иноческой науке, или ощущение бездомности, холод чужих углов.
Беседы о чудесах начинал Заварзин. Насмешливо прижмуривая щелеватые глаза (бабка его была из самоедов), он подбрасывал в горшок с кипящей водой разные травки из своей котомки. Напиток получался столь бодрящим, что Арсений, и без того мучительно возбуждавшийся по ночам, остерегался пить его. Фёдор рассказывал:
– Ишшо отец Игнатий молод был, впервые к нам пришёл, а я – мальчонкой... Разодрал батя пашню, я у него за лошадьми бегал, соху-то над горелым пеньком мне не вздёрнуть было. Пашня по свежей гари, сам ведаешь, вся в пеньях да кореньях... Ну, посеяли! А как взошло, по свежей озими – плешины в образе крестов. Земля была у старцев отспорена, проще сказать – батя её забрал, не пустил детёнышей. Старцы с Антонием-покойником укоряют нас: Богородица-де знак даёт, то её слёзки вашу пашню выжгли! Так бы то чудо и осталось тёмным, кабы Ортюшко Сухонос, кузнец наш, умелец и рудознатец, не спробовал землю на язык. Она – солёная, истинно слёзка! Он после нарочно пробовал, лил крепкий тузлук[39]39
...крепкий тузлук... – Тузлук – рассол для засолки рыбы и икры.
[Закрыть] на землю: трава не всходила, а дерево сохло. Ты, Куторма, это запомни!
Куторма, только что щедро посоливший обжаренный кусок лосятины, поперхнулся. Неупокой раскрыл заветную тетрадку:
– Надобно записать твою фабулу. В Москве сгодится – чудеса Антониевы опровергать.
– Тебя за святотатство – на огонёк! – вклинился Куторма, облизывая губы.
Он любил братское, общинное застолье, любил поесть на дармовщину. Был вообще нерадив, Заварзину завидовал, поругивался и не одобрял вражды с монастырём. «Они нас ещё подкормят, не дай Бог, хлеб да зверь лесной не уродятся!» Многие соглашались с ним, что осложняло положение Заварзина. Зажиточность ему и помогала и мешала, вызывая бессознательную отчуждённость бедных.
Неупокой, присматриваясь к его прицельно прищуренным глазам и чётким скулам, выступавшим над чёрной бородой подобно двум розовым камешкам, к постоянно сжатым прямым губам, угадывал в нём скрытую, до времени удерживаемую силу – не просто ходока и землепашца, а деятеля общественного, которому и должность излюбленного головы мала, узка. Уже и в волости с Заварзиным считались, в приказах знали не меньше, чем об игумене Питириме. Явилось бы таких людей побольше, они возглавили бы братство чёрных людей, оборонили его от боярского натиска и, глядишь, убедили бы дьяков и самого царя, что государству выгодно оберегать крестьянскую свободу...
Глубже в вечер – а на исходе декабря весь день мешался с сумерками, из-за чего и путики, охотничьи тропки с ловушками, приходилось укорачивать – заговаривали крестьяне о чудесах пострашнее. Вроде таинственного света над могилой Антония или его же мёртвого голоса, вплетавшегося в пение во время службы в церкви Иоанна Предтечи. И свет, и голос были явно, при отце Харитоне, никуда не денешься.
Происхождение сияния от подземного тления охотники отвергали, ибо все покойники тлеют, но не все испускают свет. Верно, что и над могилой Заварзы видели огонёк, да ведь и он человек непростой, великой жизненной силы. На Антониевой могиле ещё иное было, не менее странное: среди зимы снег таял и брусничный лист зеленел! Будто из неё жар шёл. Детёныши рассказывали, что монахи долго искали место для захоронения игумена, инда с лозой ходили по освящённой земле – с той лозой руды ищут. Не жилу ли подземного тепла они искали?
Неупокой вторгался в беседу, как в сражение:
– Социниане, наши братья из Италии, принесли в Литву немецкую науку космографию. Целые города стоят на огнедышащих горах, огонь в их недрах и сера – яко про ад пишут, только рождение их самобытно, а не от бесов. Как и у тёплых ключей, бьющих в долине Сии. Может, такая водяная жила близко к могиле Антония подходит, а то нарочно иноками подведена, как водяные борозды на ваших пашнях. Лозой не только руды, но и воду ищут.
– Так оно так, – смущались мужики. – Да больно лоскут земли с зелёной брусникой мал. Тёплые жилы далече простираются, мы знаем.
Фёдор Заварзин молчал и думал. Вдруг рассмеялся, плюнул на палец и погасил лучину: спать! С артельным на охоте не поспоришь, особенно с таким.
Сон в зимней тайге глухой, безвременный. Проснувшись по нужде, не понимаешь, полночь застыла в небе или уже заутрие. Кажется, и артельный, неспокойная душа, шевелится, натягивает меховые сапоги, ссохшиеся у камелька. Вот-вот выбьет огонь, рявкнет медведем... Нет, успокоился, притих. И самого тебя, не глядя на нужду, сморит короткая, самая сладкая, постыдными видениями пронизанная дрёма...
Утром артельный был необычно ласков, нетороплив, лучина и оживший камелёк высвечивали его загадочную самоедскую улыбку. Он никого не понукал. Вылезли из избушки, когда на юге через силу засинело небо и звёзды стали тонуть в нём одна за другой. Пока прилаживали «рты» – широкие, подбитые лосиной лыжи – и договаривались, кто по какому путику пойдёт, от неба засветился снег не только у крыльца, но и под разлапистыми, словно испуганные бабы присевшими елями. Хитрец Куторма отошёл за ёлку, зная, что первыми артельный распределяет трудные путики, и недаром: кто первым вызывается, на того надежды больше. Оленьи сапоги его поскрипывали, обминали снег, и вдруг послышалось: «Чур меня, да никак проталина?»
Промышленники побежали на возглас. Неупокой догнал их, плотно обступивших бугорок, начисто лишённый снега и покрытый, насколько можно было различить, блестящими листочками брусники или толокнянки. Кто-то сорвал один, листочек был темно-зелен и хрупок от мороза.
– Не может статься, чтобы проталина, – проговорили охотники. – Под Рождество-то! Тут иное.
Мучились, мыслили. Не вдруг заметили бесшумно подобравшегося Заварзина. Диковатая его улыбка так и примёрзла к заиндевелой бороде.
Брат его посмотрел и догадался:
– Федюха, ты шаманишь?
– Ну, – отвечал Фёдор, как принято на Севере (скорее да, чем нет).
Однако от разъяснения воздержался. Промышленники не особенно расспрашивали, зная, что, если Заварзин замкнёт уста, их слегой не разворотишь. Приняли к сведению, что он хотел сказать, и тоже замолчали до времени, когда вернутся в свои деревни. В разные стороны запели, побежали резвые «рты».
Неупокой повсюду ходил с Заварзиным, тот опасался отпускать его одного в тайгу: «Я за тебя перед Игнатием в ответе, а то и перед Богом!» Такое возвышенное понятие о его особе и льстило Неупокою, и смущало. «Ништо, – обещал он себе, – я оправдаю, отслужу, дай срок, Господи!» После первой опростанной ловушки он спросил:
– Почто не сказал товарищам, как рукотворный талик сотворил? Они в смущении.
Заварзин шагов пятнадцать шёл молча. Скатились с горки. Выбирая путь по каменистому развалу, слабо прикрытому снегом, Фёдор высказался:
– Кто с юности тайгой озноблен, то угревать умеет и себя и землю-матушку. Проталина моя будет до первого снегопада зеленеть. Да зелень не хитрость, толокнянка и под снегом зелена. Только пригрей да обнажи её, как девку, обмани теплом... А не открылся я товарищам потому: пусть пребывают в сомнении, но и вере, что всякое чудо рукотворно, да не всё можно объяснить. Ведь старцы за многие годы чудес с избытком запасли, на всяком их за руку не словишь.
Больше они о талике не говорили. Крестьянское хитроумие Заварзина всё больше восхищало Неупокоя. Верно, прямое разоблачение, тем более воспроизведение каждого чуда, непосильно им, да и не нужно. Кричать перед миром, будто в природе и человеке всё явно, а тайны божественной нет, – значит попросту лгать. Суеверия, как и окостенелая вера, разъедаются сомнением. Можно подумать, что Фёдор прошёл искус в строгом монастыре, так верно он усвоил опасную силу сомнения.
В деревню воротились к концу Филиппова поста, весело и плотоядно предвкушая зимний праздник. Их уже ждал с царским указом Андрей Толстой. И стало Неупокою и Заварзину не до чудес и не до праздника, в ход пошли счёт и приказное крючкотворство. Неупокой, имевший московский опыт, впервые выступил завзятым волокитчиком, а приказный человек Андрей Толстой взывал к крестьянской совести. «Последние стали первыми», – шутил Неупокой в редкие весёлые минуты.
Они выпадали, когда удавалось уличить в неправде игумена Питирима или внушить Толстому, что чрезмерное рвение может пойти ему во вред. Неупокой и Заварзин наглядно показали, что, если к монастырю отойдёт по указу полоса земли длиною в шестьдесят вёрст «в сторону Каргополя», потерянное для Дворовой четверти число «верёвок», податных единиц, ничем не удастся заменить. Тогда налоги с Сии заведомо уменьшатся до тысячи рублей, да и те придётся разрубить на меньшее число дворов, что приведёт к образованию недоимков: многим хозяевам невмочь платить повышенную подать. Государь для того и приказал дать землю «на обмену», чтобы казна не пострадала, а коли обмены старцы не дают, надобно отложить межевание. «Иначе мы, ей-ей, станем писать на государево имя и твоему начальнику Андрею Гавриловичу Арцыбашеву, что ты указ исполняешь не по букве. А живёшь ты в обители, их, старцев, хлеб ешь. А тебе бы не в обители жить, а в Емце, у сотника». Андрей Толстой не впервые попал в служебную поездку и знал, чем может обернуться для него донос о взятке, хотя бы косвенной.
Крещенские морозы тоже зажимали, так далеко на Север Толстой ещё не заезжал. Заваленные непролазными снегами дебри с окаменевшими чёрными лиственницами, дымящиеся и взрывающиеся наледи на речках, лосиные следы, похожие на ловчие ямы, и ночные сполохи, ужасными цветными лентами вдруг застилающие небо, – всё возбуждало в нём одно желание: вернуться поскорей в родную, тесную, людную Москву, не докончив кляузного поручения. Утром прийти в приказ и, прежде чем браться за бумаги, постоять у изразцовой печки, а в обед... Этот Арсений Неупокой, советник Заварзина, наверняка отведал жидкого приказного морса! Больше всего Толстой боялся обвинений в сокращении податей с Двины. Крутись как хочешь.
Приезд Тимофея Волка совершенно запутал его. Волк даже не заглянул в обитель, где пригрелся Толстой, а прямо остановился в добротном доме Фёдора Заварзина. Андрей Толстой первым приехал к нему – по службе Тимофей был выше. Он застал всех троих – гостя, хозяина и Неупокоя – за обильным столом. Был, разумеется, настойчиво приглашён, что называется, с отдиранием рукавов (так тянули к столу дорогих гостей), но из хмельного разговора ничего полезного не уяснил. Тимофей одно посоветовал: «Верши по букве, а не получается, прикройся бумажкой, её же и сабля не берёт!»
За столом страстно беседовали о деньгах. Волк уговаривал Заварзина взять на откуп подати, отчего ему светила двойная прибыль: доход рублёв до сотни и милость Арцыбашева. Заварзин определённо не отвечал, ссылаясь на декабрьский государев указ – пусть-де сперва с обменой разберутся большие люди, он поглядит, много ли денег придётся с оставшихся «верёвок». Единственная большая пашня, которую обитель соглашалась уступить в обмен, «тянула» к дальнему озеру Падуну со знаменитыми берёзками, «яко снег белеющ», где много лет назад поселились неугомонные Антоний с Филофеем. Та пашня заросла мусорным ивняком, её немногие решатся заново поднимать.
Неупокой хватил на радостях голубичной бражки – ставили такое винцо северные мужички, на диких дрожжах и мёде. В приезде Волка мнилась ему неожиданная удача: видно, в приказных верхах Москвы стали возвращаться к мысли, впервые высказанной князем Друцким, что государство достигнет благополучия лишь с помощью «торговых мужиков» и «мочных хозяев», а монастырское и служилое землевладение истощает казну. Для самого Неупокоя это стало прописной истиной. Слушая излияния Тимофея со ссылками на Арцыбашева, Неупокой легко убеждал себя, что и среди сильных приказных людей есть если не добрые, то разумные. Честно сказать, Неупокой устал не только от скитаний, но и от противостояния всему, что господствовало в России, – боярству и дворянству, Иосифлянской церкви и самому царю. Захотелось, чтобы хоть государь, а лучше царевич Иван Иванович, давно снискавший бессознательную любовь простых людей, поддержал наконец умелых управителей и укротил хищников. Хотелось жить хоть с кем-то в мире. Видимо, он входил в возраст, когда одной мечтательности мало, хочется твёрдого, земного дела...
Волк рассказал, как тяжело болеет государь. Однажды его уже соборовали, да вроде перемогся. Наследником объявлен Иван Иванович.
4
Он перемогся, – видно, грехи его ещё не превзошли терпения Царя Небесного. Гнев или милость Божья (как посмотреть) пали на Василису, так и не удостоившуюся ни звания супруги, ни царицы. Она умерла, едва Иван Васильевич поднялся со своего ложа.
Кажется, ещё вчера она точила слёзы у его изголовья, и вот он уже сам рыдает по-сиротски над жёлтой ямой, выстланной мёрзлым можжевельником. Иглы оттаивают на солнце, их запах подобен ладану, а зелень напоминает о вечной жизни, жизни, жизни... Он любил её, Василису Мелентьеву, вдову казнённого по его приказу дьяка, и она тоже любила этого не похожего ни на кого, всех подавляющего своим страдающим и грозным духом человека. Возможно, она единственная после Анастасии любила в нём человека, а не царя.
Потерянность и одиночество заполнили арбатский дом мартовскими сумерками. Ближние люди государя устали от постоянно возобновляемых бесед о покойнице и пустоте жизни. Их мучила тревога о ближайшем будущем, о надвигавшейся войне, к которой они не чувствовали себя готовыми. Даже заботливый по-домашнему Дмитрий Иванович Годунов не понимал, как можно в такое время убиваться по шестой жене... Лишь Афанасий Фёдорович Нагой сумел найти к Ивану Васильевичу подход, утешить и обнадёжить.
Он понимал, что государь не то что утопает в своём великопостном горе (оно как раз совпало с поздним началом Великого поста, казавшегося с голубиной высоты Чистого понедельника пустынной дорогой, в недостижимой дали озарённой огоньками Вербного воскресенья), но нарочито погружается в домашнюю печаль, чтобы унять ту же тревогу, что у всех. Ивана Васильевича она давила безжалостнее всех, его болезненное воображение глубже проникало в будущее, а состояние страны и настроение людей, ответственных за оборону, ужасали его. Он всегда терялся перед решительным противником, готовым к нападению, будь то крымский хан, мнимые заговорщики бояре или этот князь Семиградский Обтура, за что-то озлобившийся на него, царя, и на Россию. У короля Стефана, считал Иван Васильевич, не было законных оснований для войны!
Нагой пытался склонить царя к уступкам на переговорах о Ливонии, к отправке большого посольства в Вильно, которого Баторий определённо ждал. Иван Васильевич упрямился и колебался, снова и снова напоминая, что по достоинству выборный король не чета ему, что он не может называть его братом... Чувствовалось, что он ещё не принял окончательного решения, ждёт, по обыкновению, знака, вдохновения или такого поворота событий, который сделает ненужным унизительные уступки. И вновь Нагому приходилось выслушивать, какой заботой и трогательным пониманием окружала Ивана Васильевича бедная Василиса, как он виновен перед нею, что не заставил Освящённый Собор признать её супругой, а самых знатных боярских жён не назначил её комнатными боярынями. Ушла, зарыта в землю его последняя любовь...
Выбрав одну из покаянных минут, Афанасий Фёдорович завёл давно обдуманный разговор:
– Прости меня, государь, но грех тебе Бога искушать, сетуя о последней любви. Её прихода, якоже и смерти, нам предугадать не дано. Многое впереди у тебя, о чём и сам ты, государь, не ведаешь. В бытность мою в Бахчисарае прислали Девлет-Гирею новых пленниц из Польши. Девчонки, Господи прости, во внучки ему годились, а он их с евнухом перебирал, словно породистых кобылок. На что был неурядлив да болезнен! И так-то цокал языком, рассказывая в добрую минуту мне, грешному, про их прелести.
– Не соромно тебе, Афоня, эдакие речи вести со мной, вдовцом безутешным?
– Вдовство твоё не вечно, государь. Всякий струп отпадает. При неизбывных трудах твоих пригоже тебе иметь тёплое пристанище, усладу телу, да и духу. Вестимо, чем старше муж, тем тяжелее у него кровь и прочие соки телесные. Но к тому и предназначены красные юницы, чтобы оживлять хладное. Мы басурман поносим, но они многое ведают о человеческом естестве такого, чего мы знать не хотим, а зря...
– Что же мне, одалисок завести, подобно Гирею?
– Боже оборони, мы христиане, государь! Нам без молитвы на сожитие нельзя. Год вдовства твоего и скорби пролетит, яко и вся жизнь наша, незаметно и невозвратно. Есть у меня племянница Мария...
И Афанасий Фёдорович, ни разу не прерванный царём, обрисовал ему прелестный облик семнадцатилетней девушки, выросшей в скромной и строгой семье его брата, Фёдора Фёдоровича Нагого. Характером и внешностью она не походила ни на одну из прежних жён Ивана Васильевича, на что Нагой осторожно намекнул. Но образ первой любви – Анастасии – всё-таки затуманился в его лукавом, якобы бесстрастном описании, ибо Иван Васильевич воскликнул:
– Когда я от Василисы, Царствие ей Небесное, памятью отрываюсь, мнится мне, будто младость моя может ещё вернуться! Хотя бы и в мечтании. Настенька снится...
– Ничто не повторяется, но и не протекает бесследно, государь. Молодость до последнего часа дремлет в нас, ожидая, не разбудят ли её.
Больше они о Марьюшке Нагой не говорили, перешли к делам. Что ж, соблазнительный умысел действует вернее, отлежавшись в тёмном чулане сознания... Но даже о самых безрадостных событиях последних месяцев Иван Васильевич стал говорить не то что веселее, а твёрже, лишь изредка задумываясь, уставясь в оттаявшее, резко заголубевшее оконце. Вдруг замечал: дивны прозвания у нас в России. Вот у тебя – Нагой...
Фамилия Афанасия Фёдоровича прежде не удивляла государя. Соединившись с именем Марии, она породила новый образ. Афанасий Фёдорович, будто не понимая, начинал пересказывать свою родословную:
– Мы, государь, не из великокняжеских псарей...
Царь возвращался к литовским бедам:
– Мы с Обатурой не воюем. Наказать надо порубежным воеводам, чтобы всякую замятию улаживали без крови. Твоё да Щелкалова упущение, что Обатура договорился со свейскими.
– Люди мои донесли мне, государь, что имперские немцы их свели, яко потворенные бабы любовников. А бывший опричник твой Ендрик Штаден к сему руку приложил.
– Да, многие нестроения оставили нам Малюта да Умной-Колычев, того же Штадена на север отпустивший. Эх, Умной, Умной, Царствие Небесное и тебе, страдальцу.
– Велико ль страдание – в темнице от угара умереть?
– Тебе откуда ведомо, что от угара? Просто... болезнь естественная. Да будет о том. Многих опричных немцев упустили – Таубе и Крузе, Шлихтинга и Штадена. Все они через литовские печатни распускают теперь клеветы на наше государство. Ты-то не повторяй Малютиных да Васильевых оплошек! Господи, что нас ждёт?
Во второй половине марта пришло известие, что воевода Радзивилл сжёг Дерпт.
Дерпт – Юрьев – первое завоевание России в Ливонской войне, исконно русский город, построенный ещё свободными новгородцами. Таким его привыкли за истекшее двадцатилетие считать не только московиты, но и литовцы. Покуда Ходкевич с Тодтом очищали от русских замки в своих Инфлянтах, нетрудно было сохранять видимость мира. Не заметить разорения Юрьева, не возложить вины на короля Стефана было уже унизительно.
Иван Васильевич на это унижение решился. Нагому было поручено отправить в Литву гонца с мягким запросом – для чего-де король даёт такую волю воеводам, что они ссорят государей? Стотысячная громада русского войска из Москвы не двинулась, не шелохнулась. Только всё новые посыльщики и выбивальщики отправлялись в дальние поместья, вручали детям боярским грамотки-повестки, а уклонившихся от явки били плетьми в присутствии соседей и крестьян. В отличие от короля Стефана, Иван Васильевич и дьяки Разрядного приказа возлагали надежду на дворянское ополчение. Численность его было решено довести до двухсот тысяч. Баторию со всеми его налогами и займами такое не снилось.
Гонца Андрея Тимофеева отправили в Литву в апреле. Перед отъездом Нагой беседовал с ним не только о посольском, но и о тайном.
Русские воеводы и головы, попавшие в плен под Венденом, были увезены в Вильно и сданы на береженье Остафию Воловичу и Николаю Юрьевичу Радзивиллу. Дальнейшая судьба их оставалась непонятной – выменивать их было не на кого, полоняничных денег на них государь тратить не велел, гневаясь на их «изменное неискусство». Да сами воеводы не слишком рвались на родину, зная, какие опалы ждут их там.
Нагого интересовали не воеводы, а несколько дворян, числившихся по его ведомству, как Михайло Монастырёв. Тимофеев обещал отыскать его, узнать о выкупе, Михайле же наказать, чтобы в побег отнюдь не рвался, жил тихо и полегоньку добивался свободного передвижения в пределах города. «Скажи ему, он мне в Литве нужней, нежели здесь!» По древнему обычаю, посланникам давали возможность повидаться с пленными.
И ещё одно поручение дал Афанасий Фёдорович Андрею: под Вильно живёт в своём имении некий Григорий Осцик. Во время бескоролевья он связывался с русскими посланниками, доносил им о настроении шляхты и всячески старался для избрания Ивана Васильевича. Недавно он снова дал «ведомость» о своей готовности помогать московитам в любых делах «ради покоя меж нами и обуздания зверя». Было понятно, кого он называл зверем, но совершенно непонятно, как он хотел обуздывать его.
Гонец уехал. В тягучей неизвестности тянулся сырой апрель, будто на колесо телеги налипала глина, слой за слоем. Дороги долго не просыхали, отчего у всех, особенно у людей военных, засидевшихся в Москве, возникло ощущение отрезанности столицы от остальной страны. Верховые нарочные, часто меняя лошадей на ямах, ездили по особым подорожным для срочных дел. Их подорожные подписывались руководителями приказов, а чаще самим царём. По поводу одной из них между Иваном Васильевичем и сыном произошло очередное недоразумение, невольным виновником которого явился Арцыбашев.
Андрей Толстой, вернувшись с Сии, доложил, что он придержал отвод земель монастырю – до разъяснения смысла «обмены». Вскоре приехал и Тимофей Волк. Вопреки ожиданию, он привёз всего лишь обещание Заварзина подумать об откупе податей: он-де не знает, как будет исполняться государев указ от восьмого декабря, а то крестьяне так оскудеют, что и тысячи рублёв не наберёшь. Арцыбашев послал Заварзину и сотскому Чурляеву грозное напоминание – собрать подати тотчас, не ссылаясь на указ, ибо он в силу не вошёл и будет пересмотрен. Обычно после таких напоминаний в Москву являлся обоз с мешками серебряных денег. На тысячу рублей даже в новой монете приходилось сто тысяч денежек-копеек, а в прежней – все двести. В это время Арцыбашев случайно узнал, что служилый человек царевича – Голицын выписал его именем подорожную на десять лошадей до Емца на Северной Двине.
Андрей Гаврилович и сам не сразу разобрался, почему это насторожило его. Он навёл справки о ходоках-иноках из Троицкого монастыря, более месяца проедавшихся в Москве. Те тоже воротились к себе на Сию. Арцыбашев уже по горькому опыту знал, как умеют соперничать разные ведомства и приказы, пренебрегая интересами дела. На очередном пятничном сидении он доложил Ивану Васильевичу свои соображения об указе и ввернул словечко о странной подорожной Голицына. Царевича на том сидении не было.







