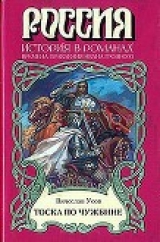
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 42 страниц)
4
На втором часу после восхода солнца иноки и все, кто смог в тот день добраться до монастыря из деревень и города, двинулись на речку Пачковку. Выше разрушенной мельницы она разливалась в широкую заводь с приглубым омутом у левого берега. С вечера здесь пробили прорубь, к утру подёрнувшуюся снежной пенкой. Обряд освящения воды должен был исполнять игумен, а самые отчаянные из богомольцев готовились купаться в ней.
Крестьяне деревни Нави шли в хвосте шествия, как оглашённые – ещё не принятые в общину – в древнехристианские времена. Арсений оторвался от братии, пристал к крестьянам. Издали наблюдал он, как Сильвестр, помолившись, погружал крест в парящую прорубь, после чего серебряным ведёрком зачерпнул воды и отдал служкам. Те стали разливать её по ковшикам и фляжкам всем богомольцам. Крестьяне тоже потянулись со своей глиняной посудой. Служки, уже наслышанные об их причудливом бунте, грозно помедлили, но подошёл Неупокой и так язвительно глянул в глаза старшому, что серебряное ведёрко враз приклонилось к глиняным корчажкам. Крестьяне по глоточку отпивали воду, насыщенную божественным серебряным светом. Она уничтожала в глубинах тела зароды болестей, весь год стояла под образами, не теряя свежести. Долго ей, правда, стоять не приходилось – святая вода расходовалась на лечение детей, на опрыскивание скотины по весне, а при душевной порче или сглазе довольно было брызнуть ею «с уголька»... Крестьяне крепко затыкали корчажки пробками из корья, прятали на груди, под низко подпоясанными овчинными полушубками.
К проруби, торопливо сбрасывая обутку, стали подбираться охотники принять морозное крещение. Оно тоже считалось целебным. Были известны случаи, когда после купания в освящённой проруби отступали затяжные болезни. В прорубь кидались и по обету, для очищения от грехов. Купальщики срывали шубы и рубахи, в последнюю минуту – исподние порты. Неупокой с содроганием засмотрелся на красные и бледные тела, поочерёдно исчезавшие в кипящей «иордани», и не заметил, как разделся Лапа Иванов.
Вдруг рядом оказался голый мужик, утонувший тяжёлыми ступнями в рассыпчатом снегу и не замечавший ни холода, ни обращённых к нему весёлых взглядов. Он весь сосредоточился на своей жизненно важной мысли. Прикрывая срам, черно и густо заросший волосами, он косолапо подбежал к проруби и, оттолкнув замешкавшегося посадского, свалился в воду. Все ахали и взвизгивали, погружаясь в прорубь; Лапа взревел, как лось, победно и освобожденно. Ему помогли выкарабкаться по ледяной закраине, брат Прощелыка набросил полушубок. Тело у Лапы стало малиновым, что, по наблюдениям знатоков, служило признаком несокрушимого здоровья. Кто бледным вылезает из «иордани», тому недолго жить.
Из-под мохнатой лисьей шапки Лапа переглянулся с Неупокоем. Тот один знал, какой сегодня смывался грех. Теперь покойник Шарап его отпустит, освободит от «навьих чар». Всю деревушку Нави освободит.
Святой воды Неупокой испил не из серебряного корчика игумена, а из корчажки Лапы...
Обедню на Богоявление тоже полагалось служить Сильвестру. Стихиры пели все, кто знал слова, церковь была до самых распахнутых дверей набита не только иноками, но и крестьянами и псковичами. Их праздные и хитроватые лица заметно отличались от привычно постных иноческих ликов, а от дыхания и невольных шевелений в церкви не иссякал мышиный шорох. Не потому ли обряд пресуществления даров произвёл на Неупокоя бездушное впечатление игры? Он смотрел, как Сильвестр вырезал просфору, погружал её в сосуд с вином и шёл от жертвенника к молящимся, картинно неся чашу над головой. Арсений думал, что игумена приятно возбуждает это действо на глазах множества людей, глубокой же веры в таинство превращения хлеба и вина в тело и кровь Христовы в нём нет. Иссякла эта вера у Неупокоя, беседы с Игнатием размыли её. Неупокой склонялся к догадке, что слова Христа: «Примите, ядите, сие есть тело моё» – были скорее возгласом обиды на учеников, оставлявших его перед муками: так всякий обречённый обижается на тех, кому ещё долго дышать и видеть свет... Буквальное понимание его слов есть «богоедство». Пора уж отрешиться от наивности древних жрецов. Да если чудо и сотворилось тогда однажды, какой гордыней надо обладать, чтобы пытаться повторить его!
Но, рассуждая так, Неупокой страшился, что и вся вера его может иссякнуть от умственных исследований. «Душа самовластна, заграда ей – вера...» В какие злодейские пределы может увлечь человека его свободный, всё исследующий дух?
Когда он в очередь со всеми подошёл к игумену и осторожно принял с копьеца пропитанную вином просфору, Сильвестр тихо сказал ему:
– Благословляю тебя на дальний путь... Исторопись!
Целуя чашу, Неупокой подумал с теплотой и горечью, что духовник его торопится избавить его от другой чаши: старцы, как и все, имеющие власть, отступничества не прощают.
Трапеза праздничная была – рыба свежая «на сковородах», рыба холодная с горчицей, каша молочная, квас паточный и калачи не в меру. Но, раздавая рыбу, подкеларник всё забывал Неупокоя, хлебный раздатчик выбрал ему мятый, подсушенный калач, квасом его два раза обнесли... Арсений едва дождался благодарственной молитвы.
Не спросясь, ушёл в деревню Нави, следом за крестьянами, так и не получившими благословения игумена. Им было чем себя утешить: старшие распечатали оставшийся от Рождества медок, а молодые, у которых всё впереди, ударились в гадание. Девушки поодиночке пробирались на сеновал, тащили губами стебельки и, если он оказывался с цветком или колоском, надеялись до нового Крещения выйти замуж. Иные ходили на пустынную дорогу, очерчивали круг и слушали – смех, песни или плач... Самым опасным было гадание у бани, но бедовая дочка Мокрени всё-таки заглянула в тесное окошко, а что там увидела, не рассказала никому.
А вот во Псковском женском монастыре был, сказывали, случай: послушница, оставшись в келье, когда все сёстры ушли на реку Великую, на «иордань», взялась за веник... Да не случайно взялась, а по наущению ведуньи с Жабьей Лавицы в Запсковье: махнув направо, произносила слова молитвы, налево – срамное слово с поминанием нечистого. Вытащила из печки уголёк и провела черту по полу. Во время погружения креста в прорубь под трезвон городских колоколов по другую сторону черты явился человек, давний её знакомец из оставленного мира. В руках у него был платочек, вышитый послушницей, проводившей его в дальнюю и, оказалось, невозвратную дорогу. Сообразив, что перед нею бес в образе любимого, послушница вскричала: «Чур меня!» И бес исчез, обронив платок. До возвращения сестёр-монахинь она стояла как приколоченная к полу, в ужасе глядя на неисчезающий платочек. Когда одна из инокинь подняла его, гром не грянул и бездна не разверзлась – платочек был обыкновенный... Послушница покаялась матери игуменье, исповедалась белому попу и приняла епитимью – год не ходить к причастию.
– А что за монастырь? – спросил Неупокой рассказчика, чувствуя непонятное стеснение в груди.
– Иоанна Предтечи в Завеличье... Да дело сладилось, послушницу уже постригли под именем Калерии.
– Редкое имя.
– Её мирское имя было на ту же букву – «како»... Я только не ведаю какое.
Такие беседы происходили на Крещение в избе Лапы Иванова, в деревне Нави. Игнатий и Арсений, не верившие в чудеса, не обрывали и не высмеивали рассказчиков и гадальщиков, понимая, что без чудесного жизнь страдника была бы вовсе невыносимой.
В Татьянин день, двенадцатого января, снежные поля и боры залило ослепительное солнце – к раннему прилёту птиц. Потом, двадцатого, на Аксинью-полухлебницу, когда хозяйки, заглядывая в сусек, со вздохами прикидывали, хватит ли хлеба до новин, пришло тепло с густым и тихим снегопадом. Приметы обещали дружную весну и скорое освобождение дорог от грязей.
Игнатий и Неупокой готовились к уходу, как к смерти: кто знал, что ждало их на дорогах двух враждовавших государств! Охранных грамот не выдавали им... Но их сердца отчаянных скитальцев бились согласно, радостно и сильно.
ГЛАВА 5
1
Всю зиму Иван Васильевич прожил на Арбате, лишь по пятницам наезжая в Кремль для обсуждения неотложных дел. Перед Рождественским постом он женился в шестой раз, вернее, взял «молитву на сожитие» с Василисой Мелентьевой, вдовой дьяка, казнённого вместе с Осиповыми князем Друцким. Иные пытались истолковывать женитьбу государя как признание, что дьяков, призывавших к глубоким преобразованиям, казнили зря. Но близкие к Ивану Васильевичу люди – Нагой и Годунов – не обнаруживали в его отношениях с Василисой ничего, кроме простого желания покоя и тепла.
Борис, заядлый шахматист, радовался, если ему случалось угадать намерение царя. С Мелентьевой и он, и дядюшка Дмитрий Иванович ошиблись, полагая, что к зрелой красоте Иван Васильевич равнодушен. Ныне он выглядел довольным, утихомиренным, как, по воспоминаниям Никиты Романовича Юрьева, в первые годы после женитьбы на Анастасии Так настигает пожилого человека последняя любовь – на пятом десятке лет.
Впрочем, для Годунова многое осталось непонятным в характере и действиях царя. Борис излишне доверялся логике, а государь в грош её не ставил. Наитие его не раз обманывало, но страдали от этого другие, что создавало у Ивана Васильевича уверенность в своей прозорливости и правоте. Ему досталось хозяйство со слишком большим запасом прочности.
В первую пятницу после Масленицы в Кремле решались посольские и денежные дела. Докладывали Афанасий Фёдорович Нагой и дьяк Андрей Гаврилович Арцыбашев, только что поставленный во главе Дворовой четверти – приказа, ведавшего деньгами государева двора и военными расходами.
Присутствие Арцыбашева было тем более кстати, что осенью он возвратился из Вены и мог дополнить вести Квашнина, московского посланника при императорском дворе.
На пятничное сидение пришёл и Годунов. С недавних пор Бориса Фёдоровича встречали даже на тех приёмах, куда он не обязан был являться. Он спохватился, что Афанасий Фёдорович стал ближе и нужнее государю, чем он, Борис. Теперь он не упускал возможности высказать своё, не всегда уместное, мнение всякий раз, когда выступал Нагой.
Послание Квашнина не радовало ни бояр, ни государя. Положение в Европе складывалось неблагоприятно для России. Летние победы московитов в Ливонии возмутили и испугали не только имперских князей и датчан, но докатились в соответствующем оформлении, через французов и поляков, до Папы Римского. Памфлеты Таубе и Крузе, очевидцев опричных безобразий, новая книга бывшего опричника Шлихтинга и «История великого князя Московского», сочинённая Курбским, укрепляли народное мнение на Западе в неприятии «московской татарщины». Искать союзников в империи становилось всё труднее, новый император Рудольф, увлечённый алхимией и астрологией, во всём полагался на рейхстаг, собрание князей. Решения рейхстага были непредсказуемы.
Среди князей Квашнин упоминал Георга Ганса, главного противника Москвы. Кажется, он держался лютеранства, во всяком случае поддерживал одно время французских гугенотов. «А францевский король Ендрик, – писал Квашнин, – бьётся со своими людьми о вере: он держит латинскую веру, а люди его держат люторскую веру». Тень Варфоломеевской ночи всё ещё лежала на Франции. Но бежавший с польского престола Генрих как будто одерживал победу... И Георг Ганс нашёл иное применение своему беспокойному честолюбию: стал хлопотать о создании объединённого имперско-польско-шведского флота, предлагая себя в адмиралы.
– Ты об нём слышал в Вене? – спросили Арцыбашева.
– Вести мо: он на сестре Юхана Свейского женат.
– Вон што! – почти обрадовался Иван Васильевич, любивший находить простые объяснения козням своих врагов. – Надеется на корону.
Род Вазы, основателя династии шведских королей, вымирал. Георг Ганс мог рассчитывать на шведский престол. Это поверхностное соображение заслонило от Ивана Васильевича куда более важную причину враждебности западного общественного мнения к России.
На Шпейерском рейхстаге Ганс тоже выступал с призывом объединиться против московитов. Тогда имперские князья его не поддержали. В прошлом году его слушали уже сочувственно, благо среди князей была распространена книга, изданная в Польше: «О страшном вреде и великой опасности для всего христианства, а особенно Германской империи и прилежащих земель, как скоро московит утвердится в Ливонии и на Балтийском море». С той поры не один Георг Ганс стал хлопотать об «антимосковской лиге».
– Что там имперские решат, время покажет, – проговорил Нагой. – Я же своим умишком раскидываю, что первая наша забота – мир с Речью Посполитой. Государь, люди мои в Литву пошли, как ты приказал.
Иван Васильевич великолепно помнил, что затея привлечь на сторону Москвы еретиков-социниан принадлежала не ему. И хотя он во многих случаях выдавал чужие мысли за свои, на сей раз он дал понять Нагому и боярам, что вся ответственность за игры с социнианами ложится на Приказ посольских и тайных дел.
– То твои люди... Не больно верю я еретикам. Выйдет – Бог милостив, оступишься – ответишь головой. Ересь въедлива, сколько лет рабье учение Косого в нашей земле живёт. А он когда сбежал!
– Коли въедлива, пусть Обатура справится с ней!
– Гляди... Много людей пошло в Литву?
– Десяток, государь.
– Дай Бог, вернётся половина... Будет о непогожем, бояре. Андрей, докладывай о деньгах!
Андрей Яковлевич Щелкалов покосился на Арцыбашева, чтобы и тот был наготове, дело общее... Речь шла о воссоединении двух денежных приказов – земского Большого прихода и опричной Дворовой чети. Казённые деньги давно уже свободно перетекали по мере надобности из одной калиты в другую. В руководители объединённого приказа прочили Андрея Гавриловича Арцыбашева.
Щелкалов пространно и скучновато, как полагалось на пятничных сидениях, докладывал, откуда можно ожидать обильных, а откуда скудных поступлений в объединённый Большой приход. Самым богатым был приказ Казанского дворца, управлявший Поволжьем и землями Строгановых. Из Замосковья, Ярославщины, Владимирской земли в казну впадали постоянно иссякавшие серебряные ручейки, чувствительные ко всяким переменам в столице. К примеру, усилиями князя Друцкого ожили было поместья в Подмосковье и Бежецком Верху, распроданные «мочным людям», но после известных казней покупателей убавилось. Приказ Друцкого продолжал действовать, однако русским людям снова показали, что они, по выражению одного англичанина, «не обеспечены в собственности», и у хозяев опустились руки. Всего этого Щелкалов, разумеется, не говорил, едва упомянув покойного князя и Бежецкий Верх... И Новгородская земля была разорена надолго, оттуда крупных поступлений ждать не приходилось.
– Не диво, что у земщины казна пуста, – с державной забывчивостью упрекнул Щелкалова Иван Васильевич. – Какие вы хозяева? Послушаем другого Андрея, чем наша Дворовая четь порадует.
Щелкалов не позволил себе ни возразить, ни горько ухмыльнуться. В Дворовую четь были недавно взяты псковские земли. И Строгановы платили лишь часть налогов в Казанский приказ, лучшие угодья вовремя записав в опричнину.
Главные же доходы шли в Дворовую четь с чёрного Севера. Впрочем, заметил Арцыбашев, денежные поступления с Двины и Поморья тоже зависят от состояния волостей.
Как Басарга Леонтьев разорил варзужан, лет десять оттуда не поступало ни копейки. Теперь даже промышленники соседних Холмогор ловят на Варзуге рыбу и собирают речной жемчуг с оглядкой, не обустраиваясь прочно, будто проклятие висит над этим берегом. Помнятся и другие праветчики... Однако чёрный Север велик, богат и заселён трудолюбивыми людьми. Если им не мешать, не иссушать водоносного слоя дурацким старанием, их кладези никогда не оскудеют.
– Какими ты словесами запел, Андрей, – язвительно восхитился государь. – Милее тебе чёрные люди, нежли дворяне наши?
– Чёрные люди деньги платят, государь. В немецких землях не дворяне – деньги воюют. Казну мы повелением твоим объединим, только сдаётся мне, что хорошо бы выделить в ней особую четь на военные нужды да приписать к ней Двинскую волость и Поморье. Порядка для.
– Что ж, говорите, бояре... Советуйте.
Бояре охотно заговорили о неотложных военных нуждах.
2
В товарищи Андрею Гавриловичу Арцыбашеву были даны Семён Васильев, по прозвищу Собака, а позже – Тимофей Волк Фёдоров. К Дворовой чети, призванной отныне обеспечивать только военные расходы, приписали кроме Севера Бежецкий Верх, Углич и Белоозеро. Арцыбашева предупредили, что к лету денег понадобится много.
Андрей Гаврилович был ростом невелик, но крепок и скор в движениях. Лицо имел широковатое, скуластое, брови – жёсткие и чёрные, а голос тонкий, но резкий. Нечужда была ему и азиатская торгашеская ухватка и обдуманная безжалостность, однако знание приказных тайн и память о покойных дьяках сообщали его характеру терпимость. Особенно чтил он князя Друцкого, даже свечу в день его казни ставил украдкой перед образом пророка Даниила. Ежели кто и видел и догадывался, не доносил: опасно было связываться с товарищем Андрея Яковлевича Щелкалова, внезапно попавшим в милость и доверие государя.
Дворовая четь располагалась на Арбате, Большой приход – в Кремле. Андрей Гаврилович приходил на службу рано утром, зимой – до свету. Читая и подписывая бумаги, замечал, как с каждой неделей Великого поста всё раньше синеют и розовеют окна и утоньшаются на них ледяные наплывы. Он соглашался с Андреем Яковлевичем Щелкаловым, что бумага в России может быть и благом, и худшим злом: без грамот трудно управлять даже одним поместьем, но страшно, если корыстные приказные станут прикрывать бумагами своё безделье. Чем с ними бороться, кроме «государевой грозы»? Будучи убеждённым сторонником самодержавства, Андрей Гаврилович надеялся, что оно станет защитником податных сословий, чёрных людей, ибо государева казна богата их деньгами. Вскоре ему привелось на деле испытать эту свою надежду.
Князь Курбский, вспоминая московских дьяков, говорил, что «государя они половиной кормят, а половину себе емлют». Андрей Гаврилович представлял не слишком редкое исключение. Не корыстная придирчивость двигала им, когда он не давал льгот помещикам Бежецкого Верха или «урезал скатерти» монастырям, а государственная страсть, сознание, что ему поручено святое дело. Не новичок в приказах, он, ознакомившись с порядками в Дворовой чети, впал в мимолётную растерянность – такое нестроение углядел, такую убыточную неразбериху. Поэтому в работе Арцыбашева весной 1577 года чувствовалась какая-то судорожность, раздражительность и настырность, рождавшие обвинения в несправедливости. Особенно старались монастыри...
Андрей Гаврилович, набожный человек, и свечки ставил, и молебны вовремя заказывал, а монастырских старцев на дух не выносил. «Стяжатели – первые государевой казне разорители!» Дай ему волю, он сжёг бы тарханные грамоты, обложив монастырские земли двойными данями. Тут он был совершенно согласен и с государем, и со Щелкаловым, но руки у него были ещё короче, чем у других. Особенно возмущало Андрея Гавриловича, что и на чёрных землях, собственности казны, на богатейших просторах его любимого Севера разрастались монастырские владения. Доля облагаемых, «письменных» крестьянских пашен, рыбных ловель, солеварен и месторождений жемчуга уменьшалась, а что оказывалось в руках обители, правдами и неправдами обелялось от податей. Раздражённому воображению Арцыбашева монастырские владения представлялись неприятельскими крепостями посреди Русской земли. Понятно, если случай выпадал, он шёл на приступ.
Он ставил свечку за упокой души князя Данилы Друцкого, но государя отнюдь не осуждал, считая, что даже в опричных перекосах виноваты его лукавые советники. Этот избирательно-забывчивый взгляд не одного Андрея Гавриловича спасал от бессмысленных сомнений и побуждал к самоотверженной деятельности. Короткая поездка за рубеж не только не смутила его сравнением немецкой и русской жизни, но увеличила и без того возвышенное представление о царе. Он видел императора Рудольфа, тот и в удельные князья не пригодился бы в России. Ежели он император, то наш Иван Васильевич и подавно... Делясь с подьячими скупыми воспоминаниями о загранице, Андрей Гаврилович с особенной издёвкой отзывался об увлечении Рудольфа тайными науками. Сколько ночей бессмысленно проводит император на крыше своего дворца, исчисляя восхождение звёзд; сколько гадости вдыхает из своих реторт – русских посланников водили в дворцовую лабораторию. Прав Максим Грек – нет пользы в астрологии, вся она лжива, чему подтверждением служит смешная и грустная история Кардана. Он предсказал год своей смерти – 1576-й от Рождества Христова и, как раз в то время, когда Арцыбашев был в Вене, наложил на себя руки. Иначе его, всемирно известного математика, изглодал бы стыд перед учёным миром – они бы смехом его загнали в гроб!
Дав себе отдых, а ошеломлённым подьячим – предмет для размышлений, Андрей Гаврилович вновь погружался в увлекательные денежные дела. Север оставался главной его заботой. Крестьяне обрабатывали там землю, которую считали собственной, семейной, она переходила по наследству, наделы можно было даже продавать, что было, по убеждению Арцыбашева, первым условием «усердия» в крестьянской работе. За годы всероссийского запустения чёрный Север не только не обезлюдел, но увеличил число починков и деревень. В старых сёлах по Двине и Мезени так выросло число дворов, что пашенную землю крестьяне стали делить не на «сохи», а на мелкие «верёвки».
Наделы измельчали по многолюдству, доброй земли прибавилось немного, но подати росли, ибо платили северные крестьяне не только с земли, но и со двора – «за обежную дань, и за посопный хлеб, и с непашеных дворов, и с новых припашей, и за рыбные ловли, и Казначеевы, и дьячие, и подьячие, и амбарные, и пищальные, и кормовые, и подъёмные, и рукознобные (за обмороженные руки, что ли?), и привязные, и с гостиного двора, поворотные, и банные, и таможенные, и за десятую рыбу, и за церковные земли...». Последняя статья и выражала одну из главных неурядиц на Севере, вызывавшую суды и споры, слёзные челобитные с поездками в Москву.
Кирилло-Белозерский монастырь просил отдать ему рыбные ловли по Онеге, принадлежавшие крестьянам. У государя с белозерскими старцами были непонятные отношения – то он клеймил их на всю Россию за несоблюдение уставов, то деньги слал на будущие кельи для себя и сыновей... Под великопостные настроения он начертал на челобитной: дать! Легко сказать – от рыбных ловель на Онеге в Дворовую четь шло «за десятую рыбу» до пятисот рублей в год! Возьми такие деньги с монастырских старцев. Андрей Гаврилович стал волокитить исполнение, как умели только московские приказные. Старцы притихли – решали, видно, сколько дать новому дьяку.
В конце концов Андрей Гаврилович добился, чтобы они платили подати «по старине». Крестьян, промышлявших рыбой на тех ловлях, пришлось, конечно, потеснить... Тем же завершилось челобитье Прилуцкого монастыря о соленосных источниках в Поморье. На северные земли зарился даже подмосковный Троице-Сергиев монастырь, что возмущало Арцыбашева до изумления.
А после Пасхи в Москву явились ходоки с глухой речки Сии Двинской волости. Вычтя их челобитную, Андрей Гаврилович почувствовал сладость на языке и зуд в руках – верный признак приказной драки, в которой он наконец отведёт душеньку.
На Сии уже не первое десятилетие тянулась настоящая война. По смерти игумена Антония, случившейся пятнадцать лет назад, крестьяне стали решительнее бороться с иноками за всякую луговину и рыбный омуток. Монахи потрясали царскими грамотами, прихватывали за серебро угодья разорившихся крестьян. Теперь монахи покусились на пашни Заварзиных, некогда будто разодравших деляну, подготовленную к пожогу иноками. За давностью лет трудно было разобраться, кто первым эти деляны захватил и обиходил, но Арцыбашеву ясно было, что монастырь не имеет прав на чёрные наделы за пределами тех трёх – пяти вёрст, что выделены ему последней царской грамотой. Андрей Гаврилович умом и сердцем был на стороне крестьян, ибо они давали доход казне, а Троицкая обитель не давала.
Он понимал, что против монастыря выступили отнюдь не ангелы и даже не единый крестьянский мир. Север давал пример того, как быстро распадается этот мир на бедных и богатых, и бедным уже не до тяжбы со старцами. Воду мутили семьянистые, зажиточные. Они же давали деньги. Каждая волость на Двине – к примеру, Куростровская – давала две – две с половиной тысячи в год, но разрубались подати очень неравномерно: от десяти денег с бедного двора до ста пятидесяти с богатого. Неравно были разделены и земли: Заварзины платили с двадцати двух «верёвок», большинство их земляков – с трёх-четырёх, а многие – с одной. Потому Заварзины и платят больше, что обрабатывают больше земли, и в этом Андрей Гаврилович усматривал естественную справедливость. Дело было для него совершенно ясным, оставалось так же убедительно представить его государю.
Он уже заметил, что решения Ивана Васильевича непредсказуемы. Но поворота, какой приняло дело Антониева Сийского монастыря, и Арцыбашев не ожидал.
Царь принимал дворовых дьяков не по пятницам, как земских и бояр, а после заутрени во вторник. И не в Кремле, а тут же, на Арбате, во дворце, заново отстроенном после нашествия Девлет-Гирея (в ту зиму умиравшего в Бахчисарае).
В приёмной палате кроме лавок и государева кресла, обитого кожей, стоял просторный дубовый стол для бумаг, а у окошка наготове сидел писец. Навязчивую охрану, как в Александровой слободе, Иван Васильевич теперь не жаловал. Её заменила стража – незаметная, словно резные столбики крыльца. Дышалось здесь если не легче, то спокойнее.
Государь выходил в просторном опашене с меховым воротником – берёг плечи и спину, мучимые внезапными «прострелами». Мягкие сапоги и шапочка-скуфья создавали обманчивое впечатление домашности. Опасно было ему поддаться и расслабиться... Дьяки тоже не навьючивали на себя лишнего, не выставляли золотное шитьё, заметив, что государю стали нравиться скромные темноватые одежды. После женитьбы на Мелентьевой он вообще стал тише, милостивей, лишь на приёмах иногда мрачнел и уходил в себя, задумываясь не о том, что ему докладывали. Часто приказывал царевичу Ивану сидеть рядом, спрашивать дьяков, но решал всегда сам. Царевич своим бессмысленным сидением тяготился.
Был он в приёмной и на этот раз, со скукой слушая пространное сообщение Арцыбашева о поступлении денег и челобитных во Дворовую четь. Только при имени Антония Сийского в его красивых, безразлично-добрых глазах под пушистыми ресницами затлело любопытство. Отец, следивший за сыном пристальнее и ревнивее, чем хотел показать, стал тут же расспрашивать Арцыбашева об Антонии, добавляя то, что знал лучше Андрея Гавриловича. Из их беседы, слишком далеко ушедшей от дела, нарисовался образ расчётливого подвижника, если возможно такое сочетание (а в человеке всё возможно!), пронёсшего в северные дебри ещё один светильник христианской веры... Арцыбашев, спохватившись, стал поправлять – и дебри были заселены, земли распаханы, и жители были не дикими инородцами, а христианами, и светильник – церковь Иоанна Предтечи – издревле сиял у них.
Ивана Васильевича забавляли такие повороты, жестоко менявшие взгляд на побуждения человека – «из мёда в дерьмо»; царевичу Ивану достался ум иной, более добрый и последовательный, не столь подвижный, прихотливый, как у отца. Он уже создал образ, дополнивший то, что прежде слышал об Антонии и прочих иноках-землепроходцах. Развенчание его, злорадно подхваченное государем, вызвало у царевича досаду. Иван Васильевич с помощью Арцыбашева безжалостно подсчитывал, сколько земли втихую отхватил Антоний и его преемник Питирим у местной крестьянской общины, какими хитростями добрались они уже до угодий церкви Иоанна Предтечи на Кощеевой горе. Иван Иванович перестал слышать их, мечтательно уставившись в чертёж страны, лежавший на столе. Карта России всегда раскладывалась перед приходом дворовых дьяков.
Что виделось царевичу за искусной картинкой с жилками рек, притоков Северной Двины, тонкой штриховкой взгорий и таёжной россыпью ёлочек, редеющих и исчезающих на подходе к Ледовитому морю? Не убеждал ли он себя в необъятности и дикости окраин родной земли? Для Арцыбашева, как и для государя, Россия имела отчётливые границы, которые всё время хотелось отодвинуть, чтобы... Чтобы больше денег шло в казну? Или своим правлением осчастливить соседние народы? Сделать великим свой?
Кто ведает, откуда берётся эта пространственная жадность, рождающая империи! Царевич никогда её не проявлял. Он молвил тихо, но упрямо:
– Светильник... Крестьяне об одном телесном заботились. Антоний духовные подвиги свершал, самоедов крестил[26]26
...самоедов крестил... – Самоеды – старое русское название саами и других народов севера России и Сибири.
[Закрыть], просвещение нёс. Сколько книг было в Емецком стане до него? Псалтырь в церкви.
– Про самоедов и книги не слышал, – возразил Арцыбашев, чувствуя поощрение царя. – Чаю, поп Харитон тоже не без грамоты. А денег с тех угодий, что иноки Антониевы захватили, мы уж который год недосчитываемся.
– Святое слово дороже денег, – уже капризнее откликнулся царевич.
Иван Васильевич внимательно всмотрелся в сына. Тот редко так откровенно проявлял своё несогласие на совещаниях. Андрей Гаврилович почувствовал неловкость, охватывавшую всякого, кто нечаянно касался переменчивых отношений государя с наследником. Ему хотелось поскорее удалиться. Но государь не отпускал, да и вопрос о челобитной сийских иноков не был решён.
Иван Васильевич спросил:
– Верно ли, что Антоний чудеса творил?
– В чудесном я не разбираюсь, – смущённо улыбнулся Арцыбашев. – Мне бы с твоими деньгами разобраться, государь.
– А ты, Иван, веришь, что чудеса случаются в новые времена?
– Сказано: испытывайте духов, от Бога ли они...
– Вот и с плеч долой! – воскликнул Иван Васильевич. – Я поручаю вам с Андреем сие испытание, как и решение по челобитной! Пора и тебе о земских делах печалиться, не всё мне. Да помни, что деньга, попавши в монастырскую казну, в нашу не возвращается. О чудесах же Антония заметь, Иване, было ли хоть одно знамение не в пользу дома Живоначальной Троицы? По совести испытывай духов-то.
Андрей Гаврилович ушёл в большом сомнении, оставив все бумаги по Сии царевичу Ивану.







