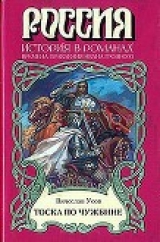
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
Телега с бочкой и черпаком на длинной рукояти свернула налево, в лощину. Только теперь Неупокой задумался, куда же ему идти. Без Игнатия с его знанием тайных приютов и дорог он до границы не доберётся. Он в растерянности оглянулся и увидел возле крайней халупы девчонку лет пятнадцати – такой жгучей, ошеломительной красоты, что все умные мысли померкли в нём, а сапоги присохли к пыльному грунту – «злому и непожиточному», как выразился бы литовский землепашец. Подобно свечке, горевшей чёрным пламенем, стояла она в своём блёкло-жёлтом балахоне, сияя громадными очами. Взбитые кудри её были схвачены алой лентой. С порывистой улыбкой любопытства она вся так и подалась к Неупокою, чудесному пришельцу из иного, чистого и неущербного мира... Так ему это примечталось, пока он сам впивался несытыми глазами, не понимая ещё, какого беса тешит. Тут из халупы выскочила седая ведьма, за нею – пожилой еврей с сажистыми мазками пейсов, и за две руки, оголившиеся до маленьких круглых плеч, они заволокли девчонку в халупу.
Потом еврей вышел уже один и что-то крикнул через плетень соседке, вместе со всеми подозрительно следившей за Неупокоем. Несколько стариков тут же подтянулись к крайней халупе, заняв оборону. От дома к дому стали перелетать гортанно-лающие, в чём-то сходные с немецкими слова, и скоро из нескольких дворов выбежали и, как-то нехотя вихляясь, заспешили в сторону ратуши молодые парни – худые, остроплечие, как чучела.
Битый соображает быстро. Парни ещё и десяти шагов не сделали, а Неупокой был уже в зловонной лощине, где возчик нечистот опорожнял свою телегу. Он посмотрел на Неупокоя с равнодушным высокомерием, как смотрят все отверженные, не примирившиеся со своей судьбой. Неупокой далеко обошёл его и, сметив дороги, выбрал ту, по которой вывозили дерьмо из замка.
5
Князь и княгиня Курбские получили наконец «роспуст без причин» – развод. Андрей Михайлович отправил бывшую малжонку в Минск.
На площади перед замком её встречали каштелян Глебович и воевода минский Николай Сапега. У ворот толкались стражники, на площади – минские мещане, с привычной отчуждённостью наблюдавшие, как паны решают свои дела.
Из поместительной кареты Мария Юрьевна вылезла с одной Раинкой. Ни на запятках, ни верхами не оказалось при ней ни одного из слуг. Кучер, не потрудившийся слезть с козел, чтобы помочь княгине, на вопрос каштеляна лениво ответил, что слуги своей волей остались у князя в Ковеле.
Мария Юрьевна закричала сипловатым, до дна души пробирающим голосом, что кучер лжёт. «Князь слуг моих насильством удержал, а этот гнусный его клеврет увёз меня из Ковеля, не дав как следует собраться, и немало моих вещей и драгоценностей осталось у бывшего мужа и мучителя моего!»
Николай Сапега своей рукой скинул кучера на землю. Тот, похоже, только теперь догадался, что он уже не на земле князя Курбского, но было поздно. Сапега стал бить его тяжёлой рукоятью плети, кучер загораживался руками. В конце концов они повисли у него перебитые, так что он до конца жизни вряд ли мог играть поводьями.
Его бросили на площади, а лошадей, принадлежавших Курбскому, Сапега приказал загнать в свою конюшню. Мария Юрьевна и верная Раинка, сразу обратившая на себя внимание Сапеги, нашли прибежище в его доме.
Ян Глебович, спокойно и брезгливо наблюдавший за расправой, посоветовал Неупокою:
– День ещё отсидишь у меня, а там ступай куда Бог велит. По жалобе Марии Юрьевны начнутся разбирательства, не до тебя станет. Да к ней зайди из учтивости, поспрошай, чем её князь обидел. Андрей Михайлович мне друг, я не хочу меж их встревать.
– Я, пане каштелян, рад услужить тебе, – ответил Неупокой, помня, чем обязан Яну Глебовичу.
Тот не удивился, когда Неупокой попросил у него убежища «от посадских». Глебович сам их не любил, тем более социниан. Он решил, что Неупокой оказался жертвой очередной распри между еретиками. Понятно, что с Будным, которого Глебович презирал не только за еретичество, но и за связи с тайной службой, каштелян знакомства не водил. С этой стороны Неупокой был в полной безопасности. Оставалось дождаться Игнатия и уходить, но тот пропал. Два томительных вечера Неупокой провёл в беседах с Яном Глебовичем, тоже скучавшим в гордом уединении: с воеводой Сапегой он общего языка не находил – пан Николай был груб, сластолюбив и склонен к хмельному питию. Для него-то появление Марии Юрьевны с Раинкой было двойным праздником.
Яна Глебовича по заслугам упрекали в цинизме, зато говорить с ним было легко и интересно, ибо он, не имея твёрдых принципов, редко настаивал на своём. На всё у него был двойной взгляд, находились аргументы за и против: самодержавие и вольность, война и мир, православие и лютеранство воспринимались им как неизбежные реалии этого мира, в котором надо жить, а не пытаться переделывать его. Будь он московским боярином, у Ивана Васильевича вряд ли возникло бы желание казнить его. Не за что... Когда Неупокой дошёл до неизбежного крестьянского вопроса, пан Ян и тут высказался свободно, двоемысленно, но и неотразимо убедительно.
Верно, габане – притеснение крестьян – усилилось в последние десятилетия. При Сигизмунде Августе паны взяли такую волю, что мужики стали совсем бесправны перед ними. Дошло до того, что ради увеличения денежных податей – цынша – землевладельцы «поворачивали подлые грунты в середине и даже добрые», то есть объявляли крестьянам, что те должны платить за свои волоки в полтора раза дороже. За невыход на панщину в первый день наказывали двойной отработкой, вторично – денежным начётом, а в третий раз – батогами «до осознанья». Король пытался вмешиваться, «бачичи таковые трудности подданных наших непотребные», но заявлениями всё и ограничивалось. Немало вооружённых крестьянских ватаг ушло в леса, особенно после «Уставы на волоки», узаконившей закрепощение старожильцев.
Но на большинстве фольварков крестьяне продолжали сеять хлеб, урожаи росли и многие старожильцы, как ни странно, богатели. Не только праздничные ярмарки, но и воскресные торги радовали разнообразием и дешевизной всевозможного товара. Голландским полотенцам Глебович предпочитал крестьянские ширинки из выбеленной на снегу тканины с неброской вышивкой синих, сиреневых и медвяных тонов; в замковом обиходе не переводились горшки-глечики и глиняные кувшины, облитые глазурью и тоже задушевно изукрашенные; и сбрую конскую, кожаную и железную, выделывали ему свои крестьяне в счёт панщины... Но главный показатель – всё-таки хлеб. Откуда он при подневольном, почти рабском труде?
Ни одна «устава», полагал Глебович, не приводит только к ухудшению положения низших сословий, пока законодатель помнит, чьим хлебом кормится. Так и «Устава на волоки» Сигизмунда Августа свела на нет общинное пользование землёй. Раньше крестьяне постоянно переделывали её, чтобы всем поровну доставались и добрые, и подлые грунты. У этой древней справедливости был свой изъян: крестьянин чувствовал себя не хозяином на своей волоке, а постояльцем. Ныне же, одновременно с прикреплением крестьян, паны и наделы закрепили за каждой семьёй «до живота», то есть до смерти кормильца, а то и наследственно, с переходом к старшему сыну. Расцвет хозяйства Речи Посполитой объяснялся не только тем, что паны, забрав лучшие грунты, стали безжалостно гонять на них своих крестьян – на пашню, на общую «толоку», на сеножати, но и тем, что самые работящие – «осадные» крестьяне-старожильцы стали трудиться без оглядки на общину. И у них тоже заколосилось жито, и они стали искать прибытку сверх установленного цынша в двадцать ежегодных грошей, кто как умел. Рассказывали, что на крестьянских волоках под Львовом появилась ветвистая пшеница – по три-четыре колоса на одном стебле. Да мало ли на что способен человек, знающий свои обязанности, меру податей, но не ведающий пределов своих сил!
Невольно подлаживаясь под говор пана каштеляна, Неупокой не удержался от замечания:
– Якие ж зацные прибытки да статки явились бы на тых грунтах, коли раздать их вольным оратаям!
– У панов отобрать? – усмехнулся Глебович. – Та мы ж крестьянство в крови потопим, коли они, як в империи, подымутся! Ни, пане Арсений, нехай остаётся, як то есть. Усем дешевле будет.
С Марией Юрьевной Арсений встретился в замковой церкви, во время обедни. Ян Глебович, в отличие от многих панов радных и князей, не перешёл ни в католичество, ни в лютеранство, поддерживал Православную Церковь. Дорогим гостем был в Минске архиепископ Владимирский – тот, что развёл Курбских. Он и теперь приехал по приглашению каштеляна. Литургия поэтому была особенно торжественной, народу много, но Мария Юрьевна выделялась и привлекала внимание.
Общение с Игнатием и собственные размышления так изменили взгляды Неупокоя, что привычные, самые обыкновенные действия епископа казались ему странными и ненужными. Как мог он прежде верить, что от движений рук и произнесения слов, придуманных человеком, белый рыхлый хлебец превратится в тело Бога, а разбавленное вино – в его кровь, и всё это надо принять в свою утробу, где вовсе не обитает бессмертная душа? Разве не язычество – единение с Богом через плоть? В том царстве добра и разума, о коем грезил Арсений, понятие Бога будет светлым и глубоким. С непостижимым существом несовместимы ни иконы, ни молитвы и полуязыческие обряды... Но отчего об этом тысячелетнем царстве разума так хорошо думалось именно под пение на клиросе, в сладостно-душных наплывах ладана из глухо звякавшей серебряной кадильницы, в пламенных отблесках свечей на дорогих окладах – обрамлении рукотворных и простодушных изображений неизобразимого? Что, если пути постижения Бога, слияния с ним – прямей и проще, чем кажется Неупокою, развращённому социнианской диалектикой?
Вера глубже помыслов... Неупокой снова увидел Марию Юрьевну, «роспущенную княгиню Курбскую». Вот кому тёплая, простодушная вера сегодня была нужнее всех. Если бы некто вроде Феодосия Косого лишил её сегодняшнего ладанного, песенного, полуязыческого обряда утешения, что ей осталось бы, кроме смертной тоски? Неупокой всмотрелся в иконостас у царских врат, пытаясь угадать, какому образу возносила Мария Юрьевна свою слезоточивую молитву, сопровождавшуюся дрожащей улыбкой – тенью немыслимой надежды. Глаза её не отрывались от доски с распятием, но не обычным, а искажённым, перекошенным: человека не просто приколотили ко кресту, а ещё и крест, и мученика на нём растянули под тупым углом, разрывая промежности... Далеко же удалился от православия инок Арсений, если не вдруг узнал Андрея Первозванного с его косым крестом!
Женщина забывает и утешается, лишь полюбив другого. Покуда не забыла, её отвергнутая любовь питается то лицемерной жалостью к любимому, то обращением к сочувствию чужих и равнодушных людей. Неупокой получил милостивое дозволение проводить княгиню после службы в дом Сапеги и до обеда слушал и безуспешно утешал Марию Юрьевну. Впрочем, она нуждалась не в словах, а только во внимании.
– Как не понять, что женщина – существо, от века не равное мужчине! С нею нельзя бороться, как это делают иные, а только оберегать и защищать! Муж должен лелеять свою малжонку, яко дочь. Коли он кинет её на полпути... на половине жизни, грех и великое поношение ему. – В проповедническом восторге даже сиплость голоса её почти пропала, в нём появилась молодая сочность. – Але он мыслит убежать наказания? Всегда найдётся рыцарь, готовый вступиться за попранную женскую честь! – Мстительное сияние надежды, но уже не той, что в церкви, чудесно озлобило её омолодившиеся, ошалевшие очи. – Найдётся рыцарь! Я не освобождаю бывшего супруга моего от той зацепки, что нас соединила с ним. Але я стрелецкая малжонка, чтобы откупиться от меня копой грошей? Коли ты, Арсений, вновь свидеться со злодеем моим, так и передай – помню и не отпущу, не отпущу!..
Мария Юрьевна заплакала. Но, в отличие от молитвенных слёз, новое рыдание её взбодрило, даже слезинки выглядели крупными, по-молодому щедрыми. Она воскликнула:
– Всё, что мне осталось от женского века, я отдала ему! Пригрела бездомного. Разве он не был счастлив в первые годы? Я дала ему счастье, когда он всё потерял. Хоть за это он должен хранить благодарность в душе. Нет, душа его одета в сброю, к ней не пробиться. Мечтала – Бог соединит нас; но и вера православная нас разъединяла. Он верить без умствований не может, вечный отъезжик. Он совершил великую ошибку, лишившись меня, он ещё пожалеет, бедный! Загорюет...
В её руке, внезапно протянутой к Неупокою, не было дрожи (хотя обычно, даже за столом, руки Марии Юрьевны слегка дрожали). Только теперь Неупокоя осенило, ради чего княгиня исповедовалась перед ним. Отвечая ей откровенностью, он должен был бы огорчить её, что никогда уже, наверно, не увидит Андрея Михайловича Курбского. Вместо того он взял её протянутую руку и, в забвении иноческого сана, нежно поцеловал. Подбородком он ощутил горячее прикосновение металла: перстни охватывали пальцы Марии Юрьевны подобно боевой перчатке.
Вошла Раинка и сказала, что пана Арсения ищет его приятель-расстрига, «что от Косого с тобой прийшел». За что-то она, как и Мария Юрьевна, недолюбливала Игнатия. Неупокой почувствовал и облегчение, и прощальную жалость, будто не Курбский, а он сам бросал на склоне жизни растерянную, озлобленную и переполненную любовью женщину. Страшно подумать, какая дьявольская смесь вываривалась в её душе, какие умыслы против любимого вызревали... Своя котомка и предстоящий путь показались Неупокою лёгкими и желанными.
...Выйдя из города, они с Игнатием остановились на взгорье, поросшем по уходившему на север скату густым леском, перемешавшим мохнатые ели с дубами и берёзами. По обычаю путников, они заново перемотали онучи, перекрестились на восток и оглянулись в последний раз на город Минск. Троицкое предместье (только его искал Игнатий затуманенным взглядом) было отсюда почти не видно, скрытое монастырской церковью, ратушей и глыбой замка.
Неупокой вздохнул:
– Хоть князь Андрей Михайлович и великий злодей, я к нему сердцем прилепился. Странно.
– Не один ты, – пробормотал Игнатий, всматриваясь вдаль. – Такая уж печать на нём.
– Но и Марию Юрьевну мне жаль. Иссушит себя в злобе на него.
– Ништо! Женское сердце от любви излечивается в четыре месяца. Вдовье – за год. То всякий исповедник знает.
– Дай Бог...
6
Пока Игнатий и Неупокой брели к границе, король Стефан Баторий, воротившись из Львова в Вильно, принимал таинственное посольство из империи.
Оно не представило верительных грамот императора Рудольфа и не просило охранных грамот короля. Это была скорее делегация имперских князей во главе с пфальцграфом Георгом Гансом. Целью её, судя по предварительным переговорам пфальцграфа с канцлером Замойским, было объединение усилий Речи Посполитой, империи и Швеции в борьбе с Москвой. Главной военной силой в антимосковской лиге будут литовско-польские и шведские войска, империя даёт деньги на наёмников, Ганс обеспечит их набор. Сложность была в том, чтобы убедить польского и шведского королей в совпадении их интересов в Ливонии. До сей поры литовцы и шведы чаще враждовали из-за пограничных замков, чем выступали вместе против московитов.
Речь шла не просто о Ливонии, а о завоевании России. Проект его был разработан знатоком вопроса Генрихом Штаденом, тоже включённым в делегацию. Прежде чем встретиться с имперскими посланцами, Стефан Баторий с научной обстоятельностью пытался выяснить репутацию пфальцграфа и компетенцию сопровождавших его людей. Сведения, выданные Посольской избой и тайной службой, не обнадёживали короля.
Имперские князья считали Георга Ганса человеком легкомысленным, тщеславным и вероломным, помня о том, как он отрёкся от французских гугенотов после Варфоломеевского побоища. Против создания балтийского германско-шведского флота с Гансом во главе рейхстаг высказался почти единогласно. Своих денег у пфальцграфа тоже не было, кредит у французских банкиров давно иссяк. Видимо, он надеялся на перемену настроения в империи, если ему удастся сколотить антимосковскую лигу в Вильно и Або – столице Швеции. Он уже заручился обещанием императора Рудольфа не допускать торговли оружием с Москвой.
Главный его советник Генрих Штаден, бывший опричник русского царя, подал бредовый с точки зрения Батория проект завоевания Московии с севера. Войска, доставленные в Колу или Холмогоры на шведских и датских кораблях, двинутся на речных дощаниках и берегом по бесконечным русским рекам, захватывая по дороге монастыри и не готовые к обороне города. Путь до Вологды и далее, до Ярославля, был расписан Штаденом подробно и увлекательно. Предполагалось, что всё то время, когда объединённые полки будут тащиться по бесхлебным землям, русские не двинутся из Москвы и не изготовятся к обороне. Они, уверял Штаден, так обозлены на своего царя и так угнетены и обессилены им, что воевать не станут... Что ж, если есть хоть доля правды в утверждении опричника, первые месяцы войны, которая пойдёт, конечно, не по проекту Штадена, принесут Речи Посполитой решающий успех.
Переговоры состоялись в замке Гедимина. День выдался не по-сентябрьски ветреным и хмурым, рябины и тополя бушевали на склонах холма, увенчанного знаменитой башней и оплетённого единственной мощёной дорогой, охранявшейся на этот раз особенно тщательно. Канцлер Замойский обратил внимание его величества на полновесные рябиновые гроздья, созревшие в этом году рано и дружно, на радость птицам. По сей примете предстоящая зима будет жестокой ко всякому живому. Конечно, немцам и литовцам придётся несладко при осаде замков, захваченных московитами, зато и московитам не подойти на помощь осаждённым...
– Не полагает ли господин канцлер, – возразил король, – что войну можно вести с удобствами, не напрягая всех сил государства и народа? Литовские дворяне так, видимо, и думают. Насколько мне известно, хотя бы по запискам Герберштейна, русские на войне забывают об удобствах, преследуя единственную цель – победу!
– О, московиты уже не те.
– Дай Бог, чтобы и вы, и Штаден оказались правы. И всё же литовцам следует прислушаться к упрёкам князя Курбского, собрать все силы и решимость, иначе московская опасность будет вечно висеть над ними. Наша задача не делёж Ливонии, а завоевание Пскова, Смоленска и самой Москвы! Иначе незачем и начинать.
Разговор о войне и литовском характере снова раздражил короля, даже коню передалось его возбуждение, он стал дёргать повод и оступаться на краю узкой дороги, хватая зубами мокрые листья.
Замойский поспешил завершить разговор фразой, ради которой и начал его:
– Всё же я убеждён, ваше величество, что нам необходимо твёрдо договориться со шведами о совместных действиях в Ливонии.
– Сделав вид, что мы всерьёз принимаем проект Ганса и Штадена, и отправив их в Або нашими эмиссарами?
Внешне пфальцграф оказался человеком вполне бесцветным, только уж очень беспокойным и подвижным. Ну а таких, как Штаден, Баторий повидал, имея дело с немецкими наёмниками. Только тщеславия в нём было, пожалуй, больше. В отличие от тех туповатых ремесленников, он всегда умело соблюдал свою выгоду. Не упустил он случая поведать королю, что, даже служа в опричнине, считал себя агентом князя Полубенского. Генрих намекал на то, что за многолетнюю службу в литовской разведке он достоин денежного вознаграждения. Замойский, холодно улыбаясь, пообещал навести справки у князя Радзивилла и (тут он улыбнулся значительно кислее) Полубенского. Последний был не в чести у короля.
Первая встреча выявила позиции и точки соприкосновения. Создание антимосковской лиги возражений не вызывало. Неясным оставалось, кто кроме Речи Посполитой взвалит на себя тяжесть войны. На следующий день пфальцграф неожиданно объявил, что протестантские имперские князья готовы дать очень большие деньги. Они согласны выдать их прямо на руки наёмникам, которых найдёт пфальцграф. Он был уверен, что по его призыву безденежные люди потянутся со всей империи, особенно когда узнают, за что им придётся воевать. «У нас, – нажимал и надувался Ганс, – оскорблены делами московитов в несчастной Ливонии. Ваше величество может спросить, отчего именно князья-лютеране хотят принять участие в лиге. (Честно сказать, Стефану было безразлично, откуда притекут деньги, лишь бы не от дьявола). Мы, протестанты, видели в Ливонии оплот распространения лютеранства на восток. Но великий князь Московский ненавидит нас ещё сильнее, чем Римско-Католическую церковь. Участие в войне с Московией – наш священный долг!»
Король в то утро находился под впечатлением письма из Кракова от своего подскарбия, казначея. Тот подсчитал, что к сентябрю текущего 1578 года на военные нужды было уже потрачено около пятисот тысяч злотых, а к декабрю сумма грозит вырасти до шестисот тысяч, далеко превысив поступления от чрезвычайного налога.
– С искренней благодарностью принимая помощь наших друзей в империи, – сказал Баторий, – мы внимательно рассмотрим различные планы ведения войны, не отвергая (но и не обольщаясь лёгкостью) проекта господина Штадена. Во всяком случае, нанятые в Германии войска должны собраться в Вильно к Пасхе. Как видите, граф, я открываю вам сроки начала кампании, чтобы во время переговоров в Або вы со всей осторожностью поставили о них в известность короля Юхана. Мы вели бы войну и на море, но, к сожалению, у Польши нет военных кораблей, да и у московитов их тоже нет... Но мы готовы договориться со шведами о совместных действиях под Нарвой. Кроме того, хотя наши отряды вернули Венден, к северу от него стоят московские полки...
Пфальцграф кивал, довольный. Король не размазывал кашу по тарелке. Западным государям недостаёт как раз такой решимости. Они не понимают, что Москва угрожает не только Польше и Литве, но в первую голову – германскому миру. Она доказала это разгромом Ливонии, что было пробным шагом русских в западном направлении. Пфальцграф лишь с первого взгляда казался пустоватым, без толку мечущимся человеком. Историческая миссия германского мира составляла его глубокое и страстное убеждение. При всей корысти и честолюбии, естественных для человека его характера и положения, он провидел неизбежность грядущих столкновений этого мира с чуждым ему московским, полуазиатским: Россия поглотит соседние государства, после чего вплотную, рубеж к рубежу, сойдётся с империей. Противоборство двух империй будет определять судьбу Европы и даже Азии, ибо Московия, как известно, уже приступила к завоеванию ещё более диких восточных степей. Один Стефан Баторий, отбросив русских за их исконные рубежи, может предотвратить это опасное противостояние. Русского отрока надо запереть в его дворе. По отзывам Штадена, русский народ ещё воистину отрок, хотя уже и злой, испорченный, каким сызмальства был его царь...
Союз Речи Посполитой со Швецией был в более надёжных руках, чем думал поначалу Стефан Баторий. Месяца через полтора он убедился в этом.







