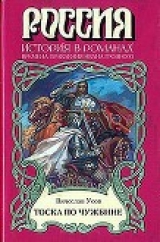
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Бумаги о незаконном рождении молодого Арца, переданные в Гельмет через его слугу, сработали вернее, чем ожидал Андрей Михайлович. Секретарь его не зря упоминал, что у литовцев не принято давать высокие должности иноземцам. На управление Гельметом зарились многие, графа поддерживал едва ли не один король... Сам Полубенский не отказался бы от управления Гельметом в придачу к Вольмару – доходу вдвое. Всё, вплоть до выгодной женитьбы Арца, висело на одной нити – его графском титуле. Что скажут в Литве и Польше, узнав, что он бастард?
Петруша Ярославец и графский слуга зачастили друг к другу в гости. При всяком удобном случае Арц спрашивал, верно ли, что московский великий князь богат землёй настолько, что девать некуда? Андрей Михайлович, горестно посмеиваясь, велел отвечать правду: земли так много, что половина её лежит в перелоге, годами не засеянная... Кажется, это особенно поражало графа, привыкшего к скупым ливонским наделам. «А серебра у царя много?» – продолжал он изучение России.
Андрей Михайлович поторопился донести в Москву, что с графом начались переговоры. Тогда же, в начале декабря, к нему явился новый посланец князя Радзивилла.
Молодой шляхтич, назвавшийся просто Зубом, передал Курбскому «закрытый лист» – тайное послание, содержавшее одни посулы, но ни к чему не обязывавшее Андрея Михайловича. Впрочем, при Зубе князь не вскрывал письма, ибо тот заверил его, что за ответом придёт другой служебник, ближе к Сочельнику. За обедом Зуб обмолвился, что служил прежде у Полубенского, а ныне чаще бывает в Орше и Смоленске. Он будто нарочно приоткрывался перед Курбским, сам же ни о чём не расспрашивал. Между Петрушей Ярославцем и Иваном Калыметом нечаянно возник неуместный разговор о графе Арце. Зуб – просто для поддержания беседы – передал пару забавных и печальных случаев из жизни этого странноватого человека, Петруша припомнил рассказ графского слуги о склонности субтильного Арца к могучим белокурым чухонкам, но Андрей Михайлович вовремя оборвал его. Не следовало давать Зубу даже зацепки... После обеда тот отказался от провожатого и даже от пропуска за стену: «Як я сюда попал, так и на волю вымечусь...»
С первых строк «закрытый лист» Радзивилла возмутил Андрея Михайловича, опалив стыдом и гневом. Но по прошествии ночи стыдное стало казаться терпимым, хотя и нелепым, а оправдательные рассуждения Радзивилла даже забавными: «Але не самовластен ты, княже, в жизни и службе своей? То твоё древнее право на отьеханье к иному господарю».
В те годы никто уже ни в России, ни в Литве не принимал всерьёз это устаревшее право отъезда, основанное на договорах между удельными князьями. Из Литвы можно было свободно выезжать в немецкие страны, но не «к московиту, врагу исконному». Только напрасно полагал Николай Юрьевич, будто князь Курбский нуждался в подобных оправданиях.
Он смолоду видел изнанку пурпура. Если для большинства русских людей царский выход был сродни церковной службе, то для товарищей юности царя он – лишь красочное действо ради народного восторга. Верность царю и собственные привилегии были у князя Курбского слишком тесно спаяны, чтобы с утратой привилегий не пострадала верность.
Трезвее многих бояр он смотрел на самодержавство и власть. Он видел, как она менялась, приспосабливалась и наглела, он знал историю. Считая самодержавство полезным для страны, он не испытывал трепета перед ним. Цинизм невольно проникает в сознание человека, когда он в построениях своих то урезает, то перекраивает самые священные для остального народа понятия. Из всех, кому князь Радзивилл отправлял свои «закрытые листы», Андрей Михайлович меньше других нуждался во внутреннем самооправдании, что вовсе не исключало самооправдания внешнего, посредством открытых писем. Но письма явятся позже, а пока Курбский мучился скорее расчётливым сомнением, чем совестью.
У него не было явного повода для опасения и бегства. Он хорошо служил, был на виду и в почёте. Бросить всё это, лишить земли, богатства и чести не только себя, но и сына, прекратить свой древний род в России из одних смутных страхов? От имени короля Радзивилл уверял, что всё потерянное будет Курбскому возмещено с лихвой. Андрей Михайлович давно не верил слову собственного государя; легко ли было поверить чужому?
Решение отнюдь ещё не вызрело, только забраживало, и в этой горько-сладкой мути стали путаться и волочиться служебные дела. В конце декабря, в самое тёмное и сонное время, особенно тягостное здесь, на севере, он как-то выпустил из рук переговоры с графом Арцем, передоверив их Петруше Ярославцу.
Ревнивый Калымет однажды обратил внимание князя, что к Петруше от графа ходят не только уже известные люди, вроде слуги Мартина, но и малознаемые, и даже один литвин. «Не Зуб?» – вскинулся Андрей Михайлович. «Боже оборони! – ужаснулся Калымет. – А всё одно сомнительно». По словам Ярославца, переговоры с графом продвигались всё успешнее, тот уже требовал от великого князя Московского «открытого листа» – письменного обещания разных благ... Уж какие коврижки грезились ему в России, Андрей Михайлович мог лишь догадываться, посмеиваясь над графским легковерием. Вдруг вспомнилось, что Мартин в очередной раз гостил у Ярославца в тот же день, когда приходил Зуб. «Могли они видеть друг друга?» – пристал Андрей Михайлович к Петруше. «Не должны!»
В это же время случилось происшествие, отразившее в лучшем случае рассеянность Андрея Михайловича, его глубокую, непреходящую задумчивость, а в худшем... О худшем не хотелось думать. Просто он перепутал ларцы для бумаг.
В середине декабря он через особо доверенного человека получил известие о предстоящем походе Ивана Петровича Шуйского в Литву. От воеводы Юрьева могла потребоваться помощь, поэтому указывалось и время, и направление похода. Грамотка эта, положенная в ларец с особо ценными служебными бумагами, пропала.
Андрей Михайлович поднял на ноги домашних, сорвался на жене, сделал заушание ключнику, не говоря о дьяке-секретаре. Приказал Калымету задержать всех, явившихся из Гельмета. В подклете оказались трое – два немца и литвин. В их торбах ничего не нашли, раздели догола. Они плакали бабьими слезами, умоляя русских искать свою пропажу в ином месте. Им объявили, что пропали драгоценности княгини... Через два дня письмо Шуйского нашлось в другом ларце – для денежных бумаг.
Андрей Михайлович мог поклясться, что не клал его туда. Либо ему отшибло память, либо в доме его потрудился литовский шпег.
Он приказал приостановить переговоры с графом Арцем, выходцев из Гельмета задержать бессрочно.
Перед Сочельником снова явился Зуб. Но разговора об «открытом листе» не заводил, предоставляя князю полную свободу вообще забыть о нём. Жил на подворье ненавязчивым гостем, с благодарностью принимал приглашения на трапезы, веселил «фабулами» из развесёлой жизни литовской шляхты. Был обаятелен и неотразим в пустячных просьбах и имел удивительное свойство – представлять вещи в их истинном свете: то, что казалось невозможным или важным, при Зубе становилось допустимым пустяком. Андрей Михайлович даже с домашними остерегался обсуждать некоторые вести из Москвы, а Зуб упоминал их среди других неважных новостей, известных всей Литве. У него была способность – обесценивать тайны. Так и тайна сношений с графом Арцем, уже не первый месяц сочившаяся по дому Курбского подобно неистребимому запаху, при Зубе как-то сама собою рассосалась, перестала тяготить. Кажется, он первым намекнул князю на то, что в Вольмаре она известна... Да, дело близилось к завершению, из Москвы пришло распоряжение готовиться к захвату Гельмета, обещать Арцу всё, что он попросит. Занятие Гельмета, понял Курбский, должно было совпасть с походом Шуйского в Литву. Зуб не успеет вернуться к своим хозяевам.
Наступил малоснежный ливонский Сочельник. Всё в этой стране запаздывало – и снег, и первые листочки... Далеко не праздничная тревога и тоска не отпускали Андрея Михайловича даже по утрам, когда он после образной, на пустой желудок, шёл в деловую горницу и погружался в научные труды. Ни любимый апостол Павел, ни Григорий Богослов не могли настолько увлечь его, чтобы заслонить суету и злобу мира сего. Перечитывая возражения Васьяна Муромцева на рассуждения князя о природе души, Андрей Михайлович мечтал: «Ежели что случится нехорошее, пусть он (так он с недавних пор именовал царя, с мужицким суеверием избегая имени) отправит меня в Печоры. Я постригусь...» Что именно может случиться, он не мог объяснить, но постоянно чувствовал угрозу, исходившую из Москвы, и, как ни странно, собственную вину. Во всяком случае, он твёрдо знал, что там, в Кремле, ждут его первого опрометчивого шага.
Когда через полгода князь Радзивилл показал Курбскому записку Зуба с поразительно точным описанием похода Шуйского, Андрей Михайлович даже наедине с собой не признал своего предательства. Он никому и ничего не открывал! Он виноват в служебных упущениях, использованных литовской разведкой, но никто не имеет права обвинять его в продаже военных тайн. Впрочем, он должен был согласиться с Радзивиллом, что, если бы записка Зуба попала в Москву, Курбскому не избежать позора и жестокой казни. Опутали его литовские шпеги грамотно.
Вряд ли они многого добились бы, если бы вести из Москвы не работали на них.
Сочельник – праздник ряженых. В Москве, как и по всей России, его встречали колядками и представлениями в масках – «скуратах и машкерах» из коровьих шкур, соломы, бычьих пузырей. Андрею Михайловичу эти забавы казались глупыми и грубыми: приходят под окна незнакомые, хмельные, скотоподобно верещат и вымогают угощение, пляшут непотребно, пользуясь закрытостью лица, выплёскивая своё бесовское, звериное, стыдливо упрятанное в обыденной жизни. Даже среди простого народа рядились в машкеры немногие. Родовитые и пожилые люди вовсе не позволяли себе такого.
Из Москвы сообщили, что известному военачальнику, одному из руководителей Думы князю Репнину царь приказал плясать в маске на пиру. Князь отказался и был казнён.
Такое вот праздничное известие. Насколько помнил Курбский, Иван Васильевич в беспутной молодости любил потешить беса в маске, но после женитьбы оставил дикие забавы. В «вопросах» к Стоглавому Собору он сам осудил их. Теперь, после смерти Анастасии и новой женитьбы на угрюмой кабардинской княжне, притащившей с собою свору таких же мрачных родичей, принялся за старое. Доверенный человек князя Старицкого, привёзший в Юрьев это известие, заметил сдержанно, что государь был «помрачён вином». Андрей Михайлович лучше многих знал характер царя. Тот без вина умел впадать в неистовство, так что пена летела с губ, если это было нужно ему. Смерть Репнина была предупреждением боярам и князьям: царь волен не только в жизни, но и в чести каждого русского человека! Любимая идея московского боярства – пресветлое самодержавство – была с безжалостной логичностью доведена до конечной нелепости. Но это был не силлогизм и не страшный сон, а новая жизнь, ожидавшая Курбского в Москве.
Андрей Михайлович не мог не задать себе простого и грозного вопроса: если бы ему царь приказал плясать в машкере, что он предпочёл бы – позор или смерть? А ведь другие наверняка уже не раз стояли перед таким выбором и выбирали машкеру, покуда Курбский отсиживался на своём опальном воеводстве.
В марте оно кончается. Что его ждёт – тюрьма, как Алексея Адашева, или служба в Москве? И что страшнее – теперь, после казни Репнина?
Незадолго до следующих праздников – Масленицы – грянуло новое известие: в Гельмете арестовали графа Арца.
Не пришлось ему Сырную седмицу отгулять, неумелому пьянице. И сразу, как разлетевшееся эхо, понеслись по Ливонии самые оскорбительные слухи о князе Курбском.
О том, что Арц вёл с ним переговоры о сдаче Гельмета, выяснилось под пыткой. Но как эти переговоры выплыли наружу, каждый гадал в меру своей глупости. Ибо только злобная глупость городского обывателя, считал Андрей Михайлович, могла внушить ему, будто Арца выдал литовцам сам юрьевский воевода. Зачем? И где у них доказательства? Положим, на суде всплыло какое-то письмо, неосторожно переданное в Гельмет через слугу графа, потом вылезли тёмные людишки, заведомо купленные литовской разведкой... Гельмет и Вольмар были одинаково возмущены, требовали полного расследования, выяснения связей графа Арца с членами магистрата. При таком настроении суд не мог вынести даже смягчённого приговора. По литовским законам Арцу грозило заливание свинца в глотку, по немецкому – четвертование.
Курбскому стало жаль графа. Он не чувствовал себя виновным в его гибели. Если кто и допустил неосторожность, то это Петруша Ярославец. Он должен был разбираться, с кем имеет дело, отличать примазавшихся к переговорам людишек от доверенных слуг и уж конечно беречь Мартина от встречи с Зубом. Слуга Арца Мартин сбежал в Юрьев, Курбский приютил его у себя и, как расказывали домочадцы, часто беседовал с ним о графе, жалея неудачника.
Вся зима начала 1564 года была для русских неудачна. Иван Петрович Шуйский, с соблюдением обычных предосторожностей выступивший в поход, был встречен в неожиданном месте воеводой Радзивиллом, разбит жестоко и сам погиб.
Арца четвертовали.
Тридцать первого декабря 1563 года умер митрополит Макарий, великий книжник, создатель Четьих-Миней – обиходного двенадцатикнижия Православной Церкви и круга чтения для грамотных людей России.
За сей великий труд Курбский испытывал к Макарию уважение, но не любовь. Макарий жестоко воспротивился попытке молодого государя уменьшить церковное землевладение. Когда-то Курбского, как и Сильвестра и Адашева, возмущало поведение Макария. Ныне оно выглядело как последнее несогласие церковного синклита с безудержно растущим самодержавством. С Макарием отошла эпоха несогласий. Кто его сменит, какие шаги предпримут Освящённый Собор и Дума, чтобы определить наконец место Церкви в Московском государстве?
Долго гадать не пришлось. Понукаемый царём Освящённый Собор избрал митрополитом его духовника, ничтожного Афанасия, после чего совместно с Боярской думой покусился на сокровенное предание о белом клобуке!
Белый клобук – митра архиепископа – был некогда послан главою Греческой церкви епископу Новгородскому, что ставило его во главе Церкви Русской. И даже после присоединения Новгорода к Москве Софийский дом оставался первым в России. Он не имел той власти, что митрополит Московский, но духовное первородство оставалось. И во мраке татарщины, и в позднейшие времена насилий белый клобук светился подобно свече негасимой. София Премудрая, то есть разумное начало, была недаром покровительницей его.
И вот теперь его, как обыкновенный куколь, имели право носить и митрополит Московский, и архиепископ Казанский. На троих поделили.
Один Владимир Андреевич Старицкий не подписал постановления о белой митре. Но на двоюродного брата царь не поднимет руку. Остальные смирились... Андрею Михайловичу необходимо было хоть с кем-нибудь поделиться возмущением, он начал писать в Печорский монастырь: «Днесь священнический чин не глаголют пред цари, но паче потаковники бывают: не вдовиц и сирот заступают, не пленников из пленения искупляют, но сёла себе устрояют и великие храмины поставляют и богатствы многими кипят... Где пророки, обличающие неправедных царей?»
Письмо он не отправил. Могли перехватить. Он спрятал его в своей малой избушке. Когда-нибудь письмо найдут, оно кольнёт глаза царю безопасно для Курбского. Андрей Михайлович ещё неясно представлял, как он достигнет этой безопасности, но письмо спрятал.
И ещё подумалось, что если князь Старицкий может не страшиться царского гнева, то родичи его должны страшиться вдвойне.
Меж тем судьба приготовила новое испытание.
Началось с болезней – сперва сына, потом жены. Пришёл февраль, в каменном доме с плохими немецкими печами было промозгло, особенно в сенях и дальних комнатах. Спальню немцы вовсе не отапливали, а в жилых горницах было тепло, покуда горели дрова. Жене юрьевская жизнь была особенно в тягость, всё хозяйство тут было не по ней. Когда сынок захлюпал носишком, как деревенский сирота, а после и в горячку впал, княгиня Ефросинья вовсе опустила руки. Вслух, навязчиво мечтала о весне, о возвращении, о русском солнышке... В Юрьеве у них впервые начались ссоры. Андрей Михайлович пенял жене, что та не понимает сложности его положения, усугубляет его печали, а ей, как всем раздражённым жёнам, мнилось, будто муж разлюбил её. Наконец и нездоровье и меланхолия объяснились: княгиня понесла!
Она надеялась – муж умягчится сердцем. Он откровенно испугался, растерялся, словно она тайная любовница ему... Она не понимала, в чём дело, обиделась ещё глубже. Потом заметила, с какой прощальной жалостью поглядывает он на неё в тихие минуты, и испугалась. Что он задумал, бедный?
Андрей Михайлович не мог без содрогания представить судьбы жены и сына, оставленных в России, в руках царя. Совместный побег из Юрьева был труден, но осуществим. Беременность жены ломала всё, тем более, что Ефросинья долго тянула, не объявляя ему, боялась ошибиться и разочаровать. Она тяжелела и слабела на глазах. И мальчик болен.
Не открывая ей своих терзаний, он отчуждением, усилившимся после её признания, всё глубже обижал её. Она замкнулась, плакала, дурнела, как и положено беременным, невольно помогая ему управиться с остатками любви. Но с возрастанием отчуждения к жене он всё беспомощнее, жальче любил сына, и с этим уж ничего нельзя было поделать. Он метался в новых тенётах, то молясь, то богохульствуя нечаянно. Посреди этих метаний Андрей Михайлович неожиданно – или так ему только казалось? – получил от Радзивилла и Остафия Воловича «открытый лист».
Руководители литовской тайной службы рассудили: коль скоро Курбский не возмутился, не отверг «закрытого листа», а принимал в своём доме лазутчиков и, вольно или невольно, снабжал их сведениями о русской армии, путь ему один. Король уполномочил их предложить князю имения в Литве и на Волыни в компенсацию потерь.
Тогда и вырвалось у него и тоже залетело за печь, в избушку, запоздалое: «Горе мне, окаянному, врага своего послушавши и в таковом обычае многоденством затвердевшу... И от сицевых дел надеюся избавлен быти Господа моего Иисуса щедротами». Щедроты королевские, но откровенность не была в его обычае, особенно когда он брался за перо. Впрочем, все люди, за редким исключением, в письмах и диарушах-дневниках выглядят чище и несчастнее, чем на деле.
«Открытость» листа означала, что предложение Радзивилла и Воловича перестало быть тайной для панов радных. Будущие пожалования князю Курбскому согласовывались с подскарбием королевским и старостами земель. Андрей Михайлович поимённо знал некоторых московских лазутчиков в Литве, и у него не было ни малейшего сомнения, что всё, известное панам радным, завтра полетит в Москву. Когда он доберётся до Вильно, он этих шпегов первыми разоблачит... Значит, окончательно решился?
Он замер перед последним шагом. Приноравливался к новому ощущению вражды не только к государю, но и к России. Он ведь её любил и кровью доказал свою любовь. Такое не разрушается за месяц от королевского листа, будь он хоть всему свету открыт.
Разве он виноват, что страхом перед царём «отогнан бых» от своей земли? Он в тайной тетрадке давно доказывал, как плохо в России всем, от воинников до землепашцев. Но если прежде он произносил слова о «мучимых без милосердия» в приступе христианского умиления, обычном для книжных людей, то ныне брал их в союзники и стряпчие, включая в общий хор обвинений против царя. Этот всенародный хор с недавних пор постоянно звучал в нём, заглушая одинокий и въедливый тенорок совести.
Ещё одно соображение облегчило Андрею Михайловичу окончательное решение: в его глазах Россия и Литва не были так жестоко разделены границами, как Россия и Ливония, Литва и Турция. В обоих государствах жили русские православные люди. История, татарщина, вражда князей разделили их, но не порвали главных связей – языка и веры. Ещё неведомо, кто больше имеет прав на объединение русских земель – Москва или Вильно. После завоевания Казани русские стали составлять не больше половины населения разросшейся Московии. В Литве их было гораздо больше половины, исконно русские порядки хранились в чистоте. Если бы не бесчинства чуждых вер и ересей, Великое княжество Литовское можно было бы назвать истинной Россией. Какое же право имеет Иван Васильевич, поссорив два братских народа, говорить от имени русского? Это понятие он так же исказил, как и самодержавство.
Чем дольше думал он об этом, тем больше находилось у него оправданий перед своим народом. Перед царём оправдываться он не собирался. Тот отличался куда большим цинизмом и вероломством, чем сам Андрей Михайлович, и только смеялся над жалкими людьми, нуждавшимися в оправданиях. Но очень хотелось в некотором непроглядном будущем встать рядом с царём перед «неумытным судией» – Богом или грозным духом народным... Суд этот неподкупный важнее королевского пожалования.
Ещё важнее были новые известия, доставлявшиеся то Зубом («по ведомостям нашим с Москвы»), то гончиками князя Старицкого. Все словно сговорились пугать, предупреждать Андрея Михайловича о царском недовольстве. Иван Васильевич уже и вслух грозил «убавить князю Андрею чести, да и вотчин урезать». Он был уверен, что Курбский никуда не денется, и помаленьку начинал лакомиться его растущим страхом. Стали известны знобящие подробности убийства князей Репнина и Кашина – не на Поганой луже от руки палача, а у церковного порога. Кашин шёл к заутрене, и тут, на людной улице, в морозном сумраке, убийцы искололи его ножами. И тебя так убьют, князь, тебя, «любимого моего», по бесподобному выражению государя.
Кончался март. Стали известны имена новых воевод, готовых сменить Андрея Михайловича и его товарища. Младший из них, Бутурлин, был уже в пути, Морозов задерживался. Сырые ветры, прилетавшие с юго-запада, слизывали со стен остатки снега, добирались до льдистых уплотнений между зубцами. Последние особы, отягощённые сосульками, сползали с безнадёжным уханьем с крутых немецких крыш. Таяло время, торопя последние раздумья.
Княгиня совсем отяжелела, жёлтые пятна обезобразили милое лицо. В мартовские иды[37]37
Иды — название 15-го (в марте, мае, июле, октябре) или 13-го дня (в остальных месяцах) древнеримского календаря.
[Закрыть], по мнению лекарей, и на сильных людей наваливается меланхолия. Она усугубляла состояние княгини. Та страдала не только тошнотами, но и обмороками, за нею постоянно требовался присмотр. Полёживала в темноватой опочивальне, без радости встречая супруга. Он тоже приходил без радости, испытывая одну прощальную и безнадёжную жалость.
Первым он открылся Ивану Калымету и Васе Шибанову. Последним – Кириллу Зубцовскому и Петру Ярославцу. Пора было решать. Все ближние слуги – двенадцать человек – поклялись на кресте, что пойдут за князем, куда он скажет. Они решили вопрос о верности царю и родине легче, чем он дался Андрею Михайловичу. Ко времени, когда в Юрьев прибыл Фёдор Иванович Бутурлин, ответ Курбского на «открытый лист» был через Зуба отправлен в Вольмар.
Срок воеводства истекал седьмого апреля. Передача дел задерживалась из-за Морозова. С Бутурлиным Курбский легко нашёл общий язык, с откровенными намёками обсуждая московские дела. Он убедился, что его заочное представление о «злобах», начинавших «кипеть» в Москве, было более чем справедливо. Фёдор Иванович не скрыл, что сам уехал из столицы с известным облегчением. Принадлежа к старомосковскому боярству, он был обескуражен враждебностью царя именно к тем родам, которые, по существу, создали единодержавное государство. Бутурлин привёз ещё одну новость, прямо касавшуюся Курбского.
Удельный князь Владимир Андреевич Старицкий был единственным кроме царя взрослым потомком Калиты, имевшим право на престол. Курбский, правда, считал, что шурин «недостоин того». Но находились люди, полагавшие, что Владимир Андреевич как раз достоин, и в первую очередь, конечно, мать – княгиня Ефросиния. На плащанице, пожалованной Троице-Сергиеву монастырю, она велела выткать, что князь Владимир – внук Ивана III и правнук Василия Тёмного. Какие это вызвало толки при московском и Старицком дворах, можно догадаться. Перед отъездом Бутурлина из Москвы туда пришёл донос от дьяка Савлука, за воровство и лихоимство посаженного князем Старицким в тюрьму. Савлук обещал открыть царю какие-то «неправды» двоюродного брата. Савлука было приказано, «вынав из тюрьмы, везти в Москву наскоро...».
Если начнётся следствие по делу князя Старицкого, Курбского в него непременно запутают. Видимо, Зуб был удивлён необычайно тёплым приёмом, оказанным ему юрьевским воеводой. Шла уже середина апреля. По уверению Зуба, в Вольмаре князя Курбского ждали Полубенский и Радзивилл, представитель короля. Но до Вольмара ему придётся добираться самому, лучше через Гельмет, где можно взять проводника из немцев. Без него на дорогах, занятых шведскими гофлейтами, легко нарваться на неприятности. Как только Курбский прибудет в Вольмар, он переходит в береженье к князю Радзивиллу.
Побег назначили на вечер двадцать девятого апреля. Двадцать седьмого начались сборы. Воеводская казна была уже передана Бутурлину, но какой воевода являет всю казну? Прикопленные ефимки и угорские дукаты, злотые и новгородки были уложены в две крепкие сумы. Ещё с десяток вьючных сум с самым необходимым снесли в подвал Калымета. Андрей Михайлович в последний раз запёрся в своей избушке, упаковал тетрадку с тайными записями и спрятал её в подпечье. Он показал одному Шибанову, где она лежит.
Отчего он не взял её с собой?
Он не был уверен, что доберётся живым до Вольмара. Кроме того, тетрадка предназначалась не для Литвы. Тот, чей покой она должна разрушить, оставался в России.
Многое жаль было оставлять: книги, особенно древние, рукописные; дедовские зерцала, не раз спасавшие Андрея Михайловича в бою; сабли «московское дело»... Близких жаль. Но сними он позже разберётся: жена родит, литовцы выкупят семью знатного перебежчика хоть за сотню пленных. Под Улой, где Радзивилл недавно разбил Шуйского, захвачена не одна тысяча. Как прихотлива судьба! Думал ли Андрей Михайлович, что невольная его промашка, позволившая литовским шпегам проникнуть в тайну похода Шуйского, послужит, может быть, спасению жены и сына?
Договоримся, договоримся, лихорадочно убеждал он себя, объезжая дозором ворота Юрьева. В приступе нерастраченной служебной ревности, с оглядкой на недавно оставленную Москву, Бутурлин ужесточал порядки. Только конюхов, гонявших лошадей на проклюнувшуюся травку, не пересчитывали по возвращении... На мызе, при полутора десятках коней, тайно остались Зубцовский, Кайсаров, Вешняков. У Вешнякова и Кайсарова родичи московские сидели в тюрьмах – по делам казнённых воевод.
Вечером двадцать девятого милостивый Илья Пророк пригнал такую сырую тучу, что, стоило ветру помять её, как тряпицу, из неё потекло обильно, зябко. Ватные тягиляи сторожей отяжелели, им стало тошно смотреть вокруг. Не верилось, что по мокрым валунам стены кому-то захочется карабкаться. Во рву, наполненном водой, хлестало гулко, по-болотному. Сверху казалось, будто в стоячих водах пробудились древние гады...
С женой Андрей Михайлович не простился. Боялся, что, по своему болезненному состоянию, от неожиданности она учудит неразумное. Захочет удержать... К сыну в спаленку заглянул. Сын не проснулся, улыбнулся бесчувственными губами, перевернулся на животик, выставив попку, и тише засопел застуженным носишком. Слёзы точить было не время, Иван и Михайло Калыметы ждали в дверях. Лицо Ивана было белым, как каменная стенка комнаты. Он тоже оставлял семью, а может быть, предчувствовал злую гибель свою на далёкой Волыни. Они пошли по опустевшим улицам, их лишь однажды окликнули сквозь плеск дождя ленивые обходчики, узнали князя и поклонились, будто попрощались.
На выбранном для побега прясле стены дежурил, нарочно вызвавшись, стрелецкий десятник Василий Кушников. Верёвка у него была готова, уложена кольцами... Он тоже уходил с Курбским. Рядовых стрельцов отпустил погреться. Всё это он запалённым шёпотом докладывал зачем-то Андрею Михайловичу, как привык в прежних дозорах. Спустили по шнуру перемётные сумы, потом Иван Калымет первым погрузился в стылую воду рва. Она была ему по горло, место давно присмотрено. Андрей Михайлович взялся за верёвку. Занозистая мокрая пенька жгла ладони, камни стены ползли мимо лица медленно и невозвратимо, как прожитые годы. Иные были в цветных вкраплениях, подобно порфире, иные – просто обглоданные морозом кирпичи с плесенью в трещинах. В воду ввергаться не пришлось, Калымет принял князя на бычью шею и, увязая в зловонном иле, донёс до вражьего откоса рва.
В Гельмете гофлейтами служили не только немцы, но и татары из Литвы и русские. Поэтому до Курбского легко доходил смысл их глумливого спора: не тот ли это воевода, что приманил нашего графа московским серебром, а после выдал королю? Что у него лист за королевской подписью, так Сигизмунд нам не хозяин, нам Юхан Шведский деньги платит, литовские статуты в Гельмете мертвы. Бить воеводу мы не станем, у него двенадцать слуг – зверье, много невинной крови прольют. Однако мешок с деньгами – наш, иначе не отпустим.
Их было много – около сотни одичавших мужиков, избравших профессией наёмное убийство и грабёж под хоругвями шведского короля. Русские посоветовались и решили расстаться с деньгами. Потом Андрей Михайлович предъявит судебный иск на всю, возможно завышенную, сумму и убедится, что беззаконие гуляет не только по Московии.
Он убедился в том, что чужеземец, не защищённый сильными людьми, подобен пустой бутылке в морских волнах: не ведаешь, о какой камень хряснет, какой горечи нахлебаешься.
Нахлебался он в замке Армус, куда его проводили гельметские гофлейты. Дорога показалась очень долгой, гофлейты измывались, русские вынуждены были оставить оружие коменданту Гельмета. С грустью замечал Андрей Михайлович, как с каждым часом разобщённей чувствовали себя его слуги и отдалялись от него. Сама близость к князю была опасна.
Таков человек – своя кольчужка ему дороже чужих зерцал. И он не удивился, когда никто из них руки и голоса не поднял, видя, как местные дворяне, снова припомнив графа Арца, сволакивают князя с коня, сбивают шапку.
В Армусе у них отняли коней. Сердца русских так запеклись от ненависти, что впору было просить у Полубенского хоть роту его «шибеницыных детей» и возвращаться в Армус и бить и жечь всё это сборное ворье. Курбскому вспомнился царь – он был самым виноватым; но русские воеводы, оборонявшие царя своим искусством и оружием, становились князю не менее ненавистны. Все – чужие!







