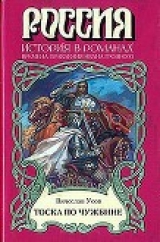
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
В сенях раздался оклик жены Заварзина, встававшей к коровам раньше всех:
– Фёдор, глянь, батюшко, не у шабров ли за озером горит?
Неупокой, накинув полушубок, выбежал во двор одновременно с Фёдором. Распахнутая калитка выводила на поляну с общинным камнем, за нею начинался долгий пологий скат к озёрной котловине. Низина была до горизонта заполнена синей и влажной весенней мглой, но в сокровенной глубине её тлела неспокойная лампадка: так бывает, если в горницу из двери ворвётся холод и масляный огонёк замечется, искажая лица угодников... На слабо различимом, темноглазом лице Заварзина блестели одни оскаленные зубы.
– Не удержались шабры... Ин так тому и быть.
Сафоновы, ближайшие соседи Заварзиных, жившие на берегу озера Долгого, по новому указу отошедшего к монастырю, зажгли свой двор. Конечно, они заранее перенесли припасы и имущество в малую избу – в тайгу, возле своей отхожей, дальней пашенки. Пусть пепелище напоминает инокам, на чьей земле они жируют.
– И многие сговаривались... жечь? – спросил Неупокой.
Зубы исчезли в чёрной бороде.
– У нас на Севере всяк за себя ответчик.
– То главное зло! Иноки, дьяки и бояре единствуют в делах, сгрудились вокруг государя, у них и Дума, и приказы, и опричнина. Потому они над вами верх берут. Где у крестьян единство?
– За сговор душегубцам, знаешь, казнь злее.
– Зато и добыча у ватаг обильнее. С вами и Арцыбашев иначе считался бы, со всей Двинской землёй. Не помыкал бы!
– В приказах слушают сильных да именитых. Вот Строгановы...
– Не больно их слушают. Они, хотя и имениты, яко одинокие сосны в дворянском поле, на ветру. Пришлось и им в опричнину записаться. А была бы у чёрных людей своя...
– Опричнина?
Полоска цвета моржовой кости вновь засветилась под чёрными усами Заварзина.
– Ты здраво мыслишь, Божий человек. В Москве за эдакие помыслы висеть тебе на дыбе. Ты в корень зришь, только тот корень глубоко, его ещё ископать надо.
Отблеск пожара терялся в зазеленевшем небе.
– У тебя есть лопата?
Фёдор тихо засмеялся:
– Одна деревянная...
Вернувшись в тёплую избу (печь догорала, распространяя запах рыбной похлёбки и кислого мучного варева для скотины), Неупокой почувствовал мертвящее спокойствие, как после всенощного бдения или излишеств любви.
Он удалился в свою светёлку, упал на лавку. Через мгновение забытья медвежья лапа больно вцепилась ему в волосы и совлекла с постели так злобно, что он едва устоял на ногах.
Был день. Солнце било в окно, колюче отражаясь в прищуренных зрачках могучего, ладно одетого детины с саблей у пояса. За ним стояли двое, послабее, а из дверей выглядывал, кусая бороду, Фёдор Заварзин. Арсения со сна покачивало, кожу под волосами жгло.
– Сбирайся, – велел ему детина. – Нехристь, еретик. Пригрелся тут – днями спать, а по ночам народ мутить? Где твоя котомка с воровскими письмами?
Арсений знал, что самое умное с такими дуболомами – молча исполнять приказания. Позже можно и посчитаться, не всё нам будет выпадать «один да пусто»... Ах, зернь, игра странническая! Он полез под лавку. В котомке были книги Евангелие и Катехизис для деток русских Будного, запас исподнего, заветная тетрадка с мыслями, ряса с куколем. От рясы Неупокой уже отвык, не сразу подпоясался как положено. Низко натянул куколь и холодно глянул из-под него на удивлённого молодца:
– А разрешение владычное у тебя есть – руки мне вязать?
Иноков мог наказывать только церковный суд. В жизни и свободе Арсения по положению были вольны лишь сам митрополит Московский да игумен Сильвестр. Голицын мог нажить себе неприятности, присвоив полномочия владыки. Он пробормотал:
– Сказывал Питирим, якобы ты расстрига.
– А вот вели своим клевретам выйти, я тебе слово государево скажу, тогда узнаешь, что я за расстрига.
От «слова государева» решительность Ивана Голицына увяла. «Клевреты» выпятились за дверь, мимоходом отшвырнув Заварзина. Ребята, сразу видно, понаторели в рукоприкладстве. Неупокой взял нож (Голицын покосился на сточенное лезвие), вскрыл шов на подоле рясы и вытащил свиточек – отпускную грамоту за подписью игумена Сильвестра.
Голицын читать умел (до счёта не поднялся).
– Тут сказано, отпущен за литовский рубеж для богомолья. Эвон тебя развернуло – к Студёному морю.
– В сём развороте я дам ответ пославшему меня.
– Прежде Печор ты в Москву попадёшь. Там я тебе не позавидую.
– Там поглядим, кто кому станет завидовать.
Иван Голицын внимательно взглянул под чёрный куколь. Куснул сочную, влажную губу.
– В кайдалы я тебя брать не стану, но ежели сбежишь, найду под землёй. Бумаги твои и книги отец Питирим своей печатью запечатает, чтобы ты не клепал в Москве, будто я нечто своё подсунул али уворовал. С такими тихими, как ты, надо остерегаться – много вас ныне ходит, с поручениями... Всё своё забрал? Хозяйского не забыл?
Даже проститься с Заварзиным Арсению не дали. Он только издали благословил Фёдора, тот молча поклонился. Солнце стояло высоко, под клобуком было душновато, но Неупокой, войдя в иноческий образ, не снимал его: «Аще чернец без куколя сквозь град ходит, яко и блуд творит».
6
По возвращении в Москву Иван Голицын так закрутился в водовороте военных дел, что скоро забыл о Неупокое. По «Росписи полкам» братья Голицыны должны были сопровождать царевича Ивана «с саадаком», то есть служить его главными оружничими. К его шелому был приставлен в том же походе Невежа Яковлевич Бельский, из воевод – Нагой и Трубецкой, доверенные люди государя. Отсюда нетрудно было заключить (и Иван заключил), что отец мало намерен считаться с ним и, видимо, не слишком доверяет. Отец знал, что Афанасия Нагого, Богдана Бельского и особенно его брата Невежу царевич не выносил.
Пережив всплеск государственной деятельности, поставленный отцом на место и, по свойству увлекающейся, но не настойчивой натуры, так же круто разочаровавшись, Иван погрузился в весеннюю меланхолию и философские изыскания, далёкие от войны. Упадок сил его, возможно, объяснялся ещё и тем, что для возбуждения их царевич пользовался не взваром еловых побегов, а бастром и аликантом из отцовских погребов. Нет худа без добра: теперь ему и в голову не приходило ставить на пытку или требовать владычного суда над привезённым с Сии еретиком. Хотя Неупокой и расходился с царевичем почти по всем вопросам, пытаясь склонить его к защите крестьян, Ивана увлекали беседы с узником. Нагой, по горло занятый своими посольскими и тайными делами, в содружестве с Андреем Яковлевичем Щелкаловым безнадёжно пытаясь предотвратить войну, только замолвил за Неупокоя слово перед государем. Иван Васильевич решил: «Отдать его царевичу на береженье, пусть разберётся, что за ересь и для чего она». Он тоже был занят и озабочен выше головы: на первое июня была назначена Боярская дума, призванная окончательно решить, идти ли «государю за своё государское дело» или уступить несоразмерным требованиям Батория. Ходили слухи, что король Стефан двинул войска к границе, в направлении Пскова.
Весёлый месяц май выдался для Арсения чересчур весёлым. Его натура брала своё: хоть два куколя натяни на голову, излишек добродетели тяжёл для молодого человека. Да и негоже отказываться, если в разгар беседы сам наследник российского престола провозглашает: «Время испить вина!» Оно обычно наступало около полудня, по окончании службы «шестого часу дня» (считая от восхода солнца), которую царевич и Арсений благополучно пропускали.
Но и тогда не прекращался душеполезный разговор о ересях и диалектике, свободе и отречённых книгах. Царевича Ивана возмущало вычитанное в тетради Неупокоя изречение одного из «польских братьев», социнианина Андрея Висковатого: «Личность есть субстанция совершенная, отдельная и мыслящая». В своей «Рациональной религии» Висковатый доказывал, что даже троичность Божества является препятствием к проявлению индивидуальной воли, свойства Бога живого.
– Ужели не понимаешь, куда ведёт сия гордыня? – разоблачал царевич. – Отдельный человек в общей каше варится, он не свободнее крупинки в пшённом кулеше. Он думает, его свободная воля вверх возносит, а то – огонь и бурление воды, огонь же зажжён отнюдь не нами! Верно писал отец: «И Адам в раю не был свободен».
– Дело свободы трудно, – почтительно возражал Неупокой. – Государь прав – мы сами не ведаем сил, движущих нами... Но значит ли это, что не надо стремиться к свободе, если она не может стать совершенной? Частичным рабством негоже оправдывать всеобщего. Но личность есть субстанция отдельная!
Он никогда заранее не знал, что возмутит царевича. Тот взрывался:
– Отдельность – вовсе излишнее в сей триаде! Отделяться от общего государского дела – грех! Русские люди привыкли держаться вместе, уповая на Бога и государя-отца. Единая семья с тремя братьями – воином, богомольцем, пахарем. Пусть каждый исполняет своё назначение!
– У братьев, государь, не равные права. Один вино пиёт, другой – кислый квас. В какой семье водится такое?
– Мы не о квасе, а об отдельности толкуем! Нужна крестьянину отдельность? Вот уж кто миром живёт.
– Мне один мужик на Сии сказывал – у нас-де всяк сам по себе. А дай ему обогатеть, он не то скажет. Вот кабы не государь, а хоть глава Дворовой чети был ему как отец... А его – саблями!
– Разве я похваляю тех, кто саблями? – Царевич искренне забыл, кого он послал на Сию. – Государь должен быть не зол, но милостив. Его должны любить. Самодержавство основывается не на страхе, но на согласии советников и любви народа. Потому и зовётся пресветлым...
Неупокой невольно озирался. Слуги царевича вряд ли читали князя Курбского, слова которого Иван повторял, не замечая. Но опасаться доноса следовало всегда, особенно при нынешних отношениях царевича с отцом. Неупокой сворачивал на теологию:
– Государь, вспомни апокрифическое Евангелие Филиппа... Апостол полагал, что вечно изменяющийся мир, населённый смертными, произошёл из-за ошибки. Создатель замыслил его совершенным, а нас бессмертными, но не достиг того и уничтожился сам. Потому миром правит не Бог, а нечто иное или ничто не правит. Положим, гибель Создателя невероятна, а изменчивость и смертность наша и есть движение к совершенству, к исполнению замысла. Бог в каждой рождённой личности надеется достичь задуманного, но, убедившись в новой ошибке, рождает новых и новых... Вот почему каждая личность – единственна и достойна свободы.
– Ну, еретик! – восхищался подобревший от вина царевич. – Набрался ты за рубежом ложных учений, их из тебя воистину огнём не выжечь, я потому и пробовать не велю. Ежели мы, как в Польше принято, всех станем за рубеж пускать «для учынков рыцарских», вера православная тогда не проживёт. Рассказывай ещё!
– Филипп, однако, предупреждал, что не всякий обладает человеческой душой: «Есть много животных в мире, имеющих форму человека. Когда мудрец познает их, свиньям он бросит жёлуди, скотам – ячмень, солому и траву, псам – кости. Рабам он даст всходы, чадам он даст совершенное». Надо искать детей среди людей, государь, а не рабов и псов! Кто ближе к чадам, чем крестьяне?
Иван задумывался, светлые глаза его грустно искрились.
– Как это верно – насчёт зверей! Как вспомню головы собачьи у седла... Вонючие!
Не следовало, конечно, напоминать Ивану, как он четырнадцатилетним мальчиком, участвуя в походе опричной армии на Новгород, вместе с отцом расстреливал из лука привязанных к столбам литовцев и татар, нахватанных по тверским тюрьмам. Если уж суждено Ивану Ивановичу править государством, пусть в нём погибнет и память об отцовских зверствах. Пользуясь поворотами в настроении царевича, Неупокой не уставал печаловаться о черносошных своих друзьях.
– Ты мужика похваляешь, яко праведника, – возражал ему Иван. – Но разве Антоний трудился меньше их? Только они каждый на себя, а он на всенародное благо, на общую монастырскую казну. Чей труд угодней Богу? Далее – отрицаешь чудеса. Так ведь они и таинства похуляли, даже святую воду... Чти, что Иона пишет! – Царевич разворачивал свою тетрадку с житием Антония, над коим продолжал работать, что-то вычёркивать, вставлять. – «Черноризниче, что мнишь себя святым? Волхвуешь и человеков прелыцаеши. И воду сию, где-то спроста набравши, кропишь на нас!»' Это они ему в глаза!
Неупокой узнавал суждения Игнатия. Какими только путями не улетают в историческую вечность запретные слова! Чаще всего в сопровождении хулы. Что ж, пусть хоть так. Учение Феодосия Косого тоже запомнят по злобной книге Зиновия Отенского.
Когда же заходила речь об уменьшении податей, царевич становился глух: то дело Арцыбашева, он вывернется! У Неупокоя оставалась ещё надежда на государя. По крайней мере, Тимофей Волк, с которым удалось украдкой повидаться (он не хотел показывать завистникам, что дружен с еретиком), тоже надеялся на государево решение: «Пущай игумен Питирим деньгами откупит пожалованные земли! С деньгами мужики поправятся...»
Пасха в тот год была не ранняя, девятнадцатого апреля. Недели после Святой распределялись так: Фомина – свадебная, за нею – в память о жёнах-мироносицах, о расслабленном, о слепом... В своём почётном заключении всякого принял Неупокой: и расслабления похмельного, и ослепления душевного, покуда не прозрел в седмицу Святых отцов, в двадцатых числах мая.
Из северных волостей и станов пришли мешки с деньгами: с Емца – тысяча двести пятьдесят рублёв, с Куростровской волости – две тысячи... Ничто так верно не ублажало государя, как денежные поступления. Иван Васильевич сказал:
– Ты опасался, мужики платить не смогут. Пиши: земли, что по декабрьскому указу пожалованы нами Троицкому монастырю, записать за ним навечно и безо всякия обмены. Пусть молятся за нас, за наших сыновей, искоренят ересь и хладные тундры в живое переводят. Буде объявятся супротивники, карать без жалости. А кто Антония Сийского станет клепать, считать богохульником.
Вскоре и Освящённый Собор единогласно причислил Антония Сийского к чину отечественных святых.
7
Отпущенный с наказом возвратиться в свой монастырь для покаяния, Арсений пришёл благодарить Нагого, спасшего его от владычного суда.
– Знаю, об чём мечтания твои, – встретил его Афанасий Фёдорович с рассеянной и озабоченной улыбкой. – Подале от Москвы да и от моего приказа. А что тебя в срубе могли сжечь, того не понимаешь?
Выслушав благодарность, он заговорил милостивее:
– Устал я, калугере. Тяжкое время наступает. Ты в Литве видел, да и от иных людишек мне ведомости идут, что без войны нам не обойтись. Король то ли ко Пскову, то ли к Полоцку хочет войска вести. Ежели сбудется, как он на елекции обещал, такой войны мы со времён татарщины не видели.
Афанасий Фёдорович поднялся с лавки и зашагал по горнице. Последние несколько дней Неупокой бродил по Москве свободно и убедился, как всё в столице напряглось в предчувствии этой войны с неведомым исходом. Тоска последней ночи перед битвой передавалась и Нагому и многим людям в окружении государя, искренне озабоченным судьбой страны. Только Нагой ещё верил, будто его приказ способен если не предотвратить опасность, то хоть поворотить зловещие события в некое обходное, хитро ископанное русло. Он полагал, что у посольских деятелей остался в запасе год.
– Покуда Обатура не осадил ни Новгорода, ни Пскова, война, считай, не разгорелась, можно потушить. Ну, спалят полоцкий посад, погромят Великие Луки, последние замки у нас в Лифляндии отнимут... Обидно, но к осени угомонятся. Тогда отправим Великое посольство в Вильно.
Афанасий Фёдорович поуспокоился, уселся возле мутного окошка. В служебных помещениях и стёкла и слюда были поплоше, протирались редко. Неупокой смотрел на его иссохшее, по-весеннему загорелое лицо, замечал, как за прикрытыми веками двигаются глазные яблоки, и думал, что даже в эту отдохновенную минуту у главы Приказа посольских и тайных дел зреет новый умысел против Батория. Может быть, в нём и Неупокою отводится своё, опасное или постыдное, место... Нет! С него довольно.
Пусть Афанасий Фёдорович расплатится за службу.
– Прости, государь, что докучаю тебе, но, наряжая меня в Литву, ты обещал проведать о детях покойного Венедикта Колычева...
Нагой очнулся с неудовольствием.
– Всё не ко времени, Арсений, вылезаешь. То мужики у тебя на уме, то опальные... Не забыл я просьбишки твоей. Вот тебе ведомость: мальчонку воры в Запороги увезли, там и пропали все. Может, и жив, да ты ведь знаешь, как прошлым летом орда гуляла по Днепру... А девку отослали в монастырь Иоанна Предтечи, что в Завеличье.
– Во Пскове?
– Всех, кому по изменным делам Умного-Колычева государь живот даровал, во Псков отправили, как и тебя. С глаз подалее. И благо ей, поруганная она. Нет ей иной дороги, как в Христовы вечные невесты.
– Благослови тебя Господь, государь Афанасий Фёдорович...
На имя инока Арсения была выписана подорожная до Пскова. По ней ему на ямах давали лучших лошадей без проволочки.
ГЛАВА 9
1
Иоанно-Предтеченский женский монастырь стоял на невысоком левом берегу реки Великой, отделявшей его и от города с Кромом, и от перенаселённых слободок Запсковья. Выше по течению, в версте, вечно пошумливала паромная переправа, но между Пароменьем и монастырём тоже тянулась незастроенная терраска, заросшая старыми ивами, тополями и рябинами. Их сквозящие заросли по мере удаления от реки переходили в густо-зелёное кладбище-скудельницу.
Вниз по течению далеко простёрлись луга и выпасы, к берегу притулились два-три причала для мелких барок.
Обитель была обнесена белой стеной, из-за которой грустно торчала церковная луковка и древняя звонница в три просвета. Наружную охрану монастыря несли наёмные стрельцы. Будка привратника торчала слева от зелёной калитки и ворот – таких узких, что только бы пролез дровяной воз. К решетчатому окну надвратной башенки недвижно липло жёлтое старушечье лицо.
Неупокой поймал себя на том, что осматривает стены монастыря с той же прикидкой, с какой когда-то изучал подходы к замку в Троках. Ему, монаху, вход в женский монастырь был закрыт – в отличие от белого попа, служившего в обители по праздникам... Запретно было всё, о чём невольно мечталось в бредовом тряском полусне дороги от Москвы до Пскова. Но Ксюшу надо было повидать, проститься, а если в чём нуждается (послушницы, не внёсшие в обитель вклада, нуждались почти во всём), помочь деньгами. Афанасий Фёдорович не только «ведомостью» о Ксюше расплатился с ним, и Неупокой не отказался, хотя и понимал, что деньги эти не столько плата за прошлое, сколько задаток.
Соблазны оставили его лишь на последнем прогоне перед Псковом, когда повеяло речным или озёрным духом. О Ксюше думалось тревожно, жалко. На городском подворье Неупокой расспрашивал старца-смотрителя об Иоанно-Предтеченской обители. У того были, оказывается, торговые дела с ивановским купчиной, всучившим ему снетков с Чудского озера – сухую мелкую рыбёшку, употреблявшуюся в постные щи. Общеизвестно, что лучшие снетки – на Ладоге...
Ивановский монастырь основан был княгиней Ефросиньей в древние, дотатарские времена нарочно для пострижения женщин из знатных, даже княжеских родов. Десять инокинь-княгинь погребено в нём, начиная с самой Ефросинии, в монашестве Евпраксии. Князь Довмонт пожертвовал монастырю земли под Гдовом, на берегу Чудского озера, чем и объяснялось желание торгового предстателя монахинь продать именно чудскую рыбную мелочь. На монастырь работали крестьяне четырнадцати деревень, а инокини и послушницы поставляли золотное шитьё в боярские дома.
Порядки в Ивановском монастыре, по мнению смотрителя, были ужасно строги. Не то что в Старовознесенском, тоже женском, но с келиотским уставом, по коему у каждой монахини или у двух была отдельная келья. При желании они и вместо трапезной «особь кайждо в своих келиях ядаху», что, впрочем, вызывало уже всеобщее осуждение. У Старовознесенского псковичи встречали церковных владык и великих князей, там инокини поневоле жили открыто и разнообразно, «всякими житейскими печалями и соблазнами одержимы бяху», как выразился, двоемысленно ухмыляясь, старец. А ещё прежде, до Стоглавого Собора, были во Пскове смешанные, мужеско-женские монастыри... Расставшись со смотрителем, Арсений долго лежал без сна, воображая, как было бы прекрасно, чисто и душевно поселиться в такой обители с Ксюшей, оберегая и утешая друг друга весь остаток жизни, столь скудной радостями.
Обойдя стену и не огрызнувшись на скучливое предупреждение стрельца, Неупокой спустился к причалу, сел на истёртую чалками тумбу. Крапивные канаты так глубоко продрали её посередине, что стала она похожей на толстозадую посадскую жёнку, в вековечном любопытстве застывшую у своих мостков: ведра пустые, исподнее не отполоскано, а от воды не оторваться. Но майская высокая вода несёт одни сплавные брёвна да лёгкий мусор от Пароменья. Хоть бы утопленника испугаться!
Неупокой уже собрался к паромной переправе – плыть в город, договариваться со старцем-смотрителем о лошади до Печор, да увидел нищих. Они вразброд тянулись от скудельницы к монастырю. Стрелец не гнал, не костерил их, как давеча Неупокоя. Лицо сестры-дозорной в надвратной башенке исчезло – видимо, поползла докладывать игуменье.
Неупокой вспомнил, что завтра Троицкая суббота, день поминовения родителей. Нищие явились к Иоанну Предтече за поминальными кормами и деньгами заранее – им за день не обойти всех обителей и богатых домов, – начали с дальних. Арсений выгреб мелкую монету – полуденьги и полу-полуденьги, они же «пироги». Раздал, кому хватило, без надежды на нищенскую память по очереди называя имена отца и матери, брата Иванки. Зелёная калитка отворилась, вышли монашки – старая и молодая. Старая раздавала ту же невесомую серебряную мелочь, а молодая с белой торбой – ржаные ломти и чёрствые рыбники.
Неупокой замешкался. Пронзительные, влажные, притворно скорбные глаза юной черницы лезвием скользнули по его лицу и снова утонули в торбе. Старая что-то каркнула, стрелец готовно выставил бердыш из будки. Неупокой выбрался из неопрятной, гнусно пахнущей толпы, издали крикнул нищим:
– Венедикта и Дунюшку Колычевых поминайте!
Он снова поймал жгучий взгляд монахини. Эта языка не удержит – даст Бог, и донесёт его слова до Ксюши...
...Не ожидал он, что каждая верста к Печорам будет так сладко и грустно восстанавливать чувство дома, вовсе как будто утраченное им, бродягой. Двух лет не прожил он в обители, а видно, приросла к чему-то бесприютная душа его. Он радовался не только предстоящей встрече с Вакорой, Прощелыкой и Лапой Ивановым, но и размеренному обиходу, почти не оставлявшему ненужного досуга, и общим трапезам, и по-монастырски долгим службам, дающим тихий разгон мечтаниям. Он и о келье своей вздохнул не раз. Увидев же с дороги лесистую долину Каменца и угадав на дне её тропинку к Нижним решёткам, проглотил слезу. Не терпелось увидеться с игуменом Сильвестром, услышать запах целебных трав в его покое, поговорить... Вратарь, кажется, не узнал его, Неупокой заулыбался: «Здравствуй, брате!» Тот с неласковым любопытством взглянул на сопроводительную грамоту, безмолвно поклонился.
Бывает горьковато, если друзья-знакомцы не удивляются, не ахают вокруг тебя – из каких-де стран живой вернулся! Но, как подумаешь, чего им радоваться? Ты их забот с собой не увозил, они тебя забыли, да оно и проще, когда не хороводятся вокруг. Спокойно поклонившись, прошли мимо Неупокоя послушники и иноки из трапезной – по кельям и работам. Игумена меж ними не было, хотя он и не любил обедать в одиночестве. Приметив, что подкеларник с подавальщиком несут мимо колодца, к игуменскому дому, судки с горячим, Арсений догадался, что Сильвестр болен. Он постоял возле колодца, размышляя, искать ли казначея, чтобы дал указание поселить его в прежнюю келью, или прямо направиться к старцу-будильнику? К болящему игумену могли и не пустить.
– А, блудный сын воротился! Видать, после вечорин поедим убоинки, келарь тельца заколет... Я уж не чаял тебя увидеть – то ли ты мёртвый где лежишь, то ли расстригся, что, впрочем, всё едино.
Так приветствовал Неупокоя посельский старец Трифон, его начальник и великий недоброжелатель после истории с крестьянами Пачковки. Похоже, Трифон забыл его художества, смотрел по-доброму. Арсений стал советоваться, к кому идти.
– Иди к владыке, он порадуется. Недолго, я чаю, радоватися ему, совсем худой.
Сам Трифон худым отнюдь не выглядел. Воспалённо-загорелое лицо его свидетельствовало, что он не только бьёт ноги по просёлочным дорогам, но не чурается и некоторых житейских радостей. Всё ему шло на пользу, даже дрянная бражка.
Невольно храня улыбку, Арсений подошёл к дежурившему у крыльца владычного дома старцу и назвал себя.
Тот долго, мрачно смотрел ему в лицо, покуда улыбка Неупокоя не завяла. Тихо ответил:
– Жди, потрапезует строитель. Ежели сможет потрапезовать.
В груди Арсения накапливалась тяжесть. Если он и любил кого в этой обители, то только отца Сильвестра, своего духовника. Лесенка в верхние покои показалась долгой, а воздух в доме – душным не только от травяных настоев.
– Как тебя Бог хранит, святой отец?
Игумен всматривался в пришельца с бескорыстной завистью: такие беспредельные, ненасытимые дали остались, видно, в повыцветших очах Неупокоя, во всём его свежем облике. И дымом пахло от его заношенной ряски, и сладостью, и горечью дорожной пыли.
– Тебе ещё бродить, – просипел Сильвестр неузнаваемым голосом. – А я уж отходил... да и отговорил своё. Сказывай ты, мне больно.
Он взял с налоя серебряную чарку с чёрным настоем и глотнул, перекосив костлявое лицо. Неупокой стал поспешно и невпопад рассказывать о Волыни, где видел короля Стефана, и о Москве, и о царевиче. Сильвестр не перебивал его, но слушал поверхностно, ибо то, что разрушительно работало внутри его, каждое болезненное или, на счастье, не вызывавшее боли движение, было ему важнее Москвы, и Вильно, и всего остального мира. Он странствовал по своему бесконечному телу, давно потеряв прежнюю власть над ним, с каждым поворотом и развилкой внутренней дороги обнаруживая новые части и члены, зажившие своей болью или уже бесчувственные. Неупокоя хватило ненадолго, он замолчал.
Игумен кашлянул, будто затычку из горла выбил, и вдруг заговорил сильно, чисто, – видимо, подействовал настой.
– Вишь, помогает... Чага да свороборина. Только на травах и живу, не ведая, сколько осталось. А неохота, неохота уходить! Да, Бог даст, ещё не скоро, всё о живом думается, тщеты житейского не чую ещё, всё, даже слово, спроста сказанное, радует и печалит. Цепляется душа за плоть, не хочет отпускать... Помнишь, вопрошал ты меня о душе и плоти.
Скоро узнаю достоверно, беспамятна ли душа, лишённая тела, как тот грек мыслил... Забыл и имя его, и книги имя. Так-то много забыл! Но хочется добро творить, советовать людям, как надо и не надо, а им моё добро уж ни к чему. Уклоняются, яко от уже ушедшего.
Слеза заблестела и быстро высохла в уголке его воспалённого глаза. Неупокой коснулся костлявой руки, она была неожиданно горяча.
– Всем нужно и добро твоё, и благословение, отец святый. Боятся утруждать тебя.
– Вечный ты утешитель... Чего страшиться, коли я бездельно целые дни лежу, да и ночи, без сна?
Сильвестр заговорил раздражённо, с какой-то жалкой требовательностью, пользуясь свежим человеком, ещё не тяготившимся его болезненными капризами. Видимо, вся духовная и хозяйственная деятельность монастыря перешла в руки соборных старцев, переставших считаться с умирающим. А он качался, как все затяжные больные, от смертной тоски к надежде.
– И тебе ничего не нужно, и тебе!
– Нужно, отец святый.
– Чего? Говори, не сомневайся.
– Во Пскове, в женском монастыре Иоанна Предтечи...
Неупокой едва начал, Сильвестр радостно перебил его:
– То здесь меня не слушают, а во Пскове, в епархии, меня слушают!
Рассказ о Ксюше игумен выслушал так внимательно, что даже о болях своих забыл. На лике его, обызвесткованном болезнью, не выразилось сочувствия. Только возбуждение, произведённое ещё одним прикосновением горячей жизни, победоносно наслаивавшей радости на беды назло такому же победному небытию. Ведь человеку со дна последней пропасти и жизненные горести кажутся сладкими.
– Узнать, что с нею сталось? Это, это... я помогу тебе. Призову белого попа, что служит у них. – Он помолчал и добавил внезапно осипшим голосом: – Любил её?
– Как младшую сестру, – соврал Неупокой, помедлив.
– Я ведь тебе отец духовный, – уличил его Сильвестр. – Отныне, разумею, будешь как сестру... Старцы тебя ещё работой не обременили?
– Я за приказанием к тебе пришёл, святый отче, – соврал Арсений уже уверенней.
Игумен поверил и оживился:
– Хочу послать тебя к язычникам! Троицын день...
Арсений, затомившись было – в дальнюю дорогу смертельно не хотелось, – сообразил:
– Чаешь, отче, задурят мои на Пачковке?
– Жёнки-то непременно! В Иванов день старцы недосмотрели, жёнки такое наволхвовали – страсть! Троих едва святой водой вернули в разум. Дикости ещё много у нас в народе, сами не ведают, какие силы пробуждают. Потрудись, сыне, во славу Божию.
Речь шла о древних обычаях Троицкой субботы, соблюдавшихся крестьянами во всей России, Польше и Литве, но особенно упорно в западных областях. Со времени Стоглавого Собора с ними боролись, но безуспешно. Если в епархию поступал донос о «язычестве», неприятности были у старцев ближайшего монастыря. Сильвестр и предшественники его получали выговоры от новгородского архиепископа чаще других.
– В трапезную зайди! – совсем уже тихо просипел игумен, благословив Неупокоя. – Кутья с винной ягодой уж больно удалась.
Кутью в обители варили для поминальных кормов перед Родительской субботой. «Господи, как же рано умирать тебе! – мысленно возрыдал Неупокой. – Как сладко тебе ещё всё житейское».
Впрочем, кутья из привозного сарацинского пшена – риса с изюмом и инжиром, сваренная на цельном молоке и заправленная не конопляным, а коровьим маслом, была действительно сладка. Губы у подавальщиков лоснились, они уже поели после братии. Арсений не заставил себя упрашивать, с поклоном принял глиняный ковшик с медовой бражкой, стыдливо называемой в обиходнике сычёным квасом. Поев, отправился к ключнику, по-гречески – економу, что означает «устроитель дома». Тот ставил вновь прибывших на довольствие, отводил в келью. И, несмотря на тягостное впечатление от игумена, Неупокоя не оставляло счастливое сознание, что он вернулся к себе домой.







