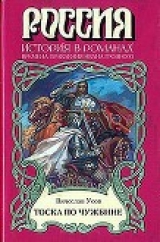
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц)
5
В самом названии деревушки Нави таилась чертовщина: нави – это мертвецы, особенно те неспокойные, что встают из гробов. Самые сильные – навьи чары... Ни монастырским старцам, ни крестьянам не могло нравиться это название, но, видно, человеку не под силу запросто переиначить старину.
Тропа в долину речки Пачковки шла по заросшему орешником оврагу с круто подрезанными склонами и сухим дном. Неподалёку от его устья Арсений набрёл на пещеру, ископанную в плитняке и глине синевато-серого мертвенного цвета. Глину использовали на горшки, плитняком выкладывали стенки сараев и напогребиц – происхождение пещеры было понятно. Но на Неупокоя при виде этой разверстой земляной пасти напала неодолимая тоска. Даже пройдя пещеру, он едва гасил желание внезапно оглянуться, будто кто вылез из неё и подкрадывается к нему... Наконец увидел он блеснувший под серым небом разлив воды: выше деревни речка была перегорожена плотинкой мельницы.
Мельница, видно, не работала – навес её просел, опоры загнивали, вода бесцельно переливалась через притопленное колесо. Отсюда тропка пошла в обход деревни и огородов, убранных чисто, с кучами блёклой свекольной и морковной ботвы – на корм скотине.
Деревня была для Псковщины обычной, три-четыре дома. Земля здесь холмистая, угодья разделяются лесами и неудобями на склонах. Деревне Нави ещё повезло, что пашни раскинулись на безлесном, давно освоенном водоразделе, а при овражном устье пушились сочные луга.
Жили здесь братья Прощелыка и Лапа Ивановы, Мокреня и Тереха-половник, давно простившийся с крестьянским званием и более работавший на монастырь, чем на себя. Та же судьба в ближайшем будущем ждала Мокреню. За Ивановыми по книгам не числилось ни льгот, ни недоимков.
Каждый хозяин выбирал для двора место по душе, отнюдь не в ряд. Заметного на посторонний глаз различия между дворами не было. Щелевидные волоковые окошки подслеповато выглядывали из-под кровли, солома над ними была одинаково черна от дыма, по утрам выдыхаемого избой. Для света в горницах были прорублены косящатые окна, но сквозь слюду или пузырь солнце едва пробивалось, к зиме же их и вовсе завешивали рядном для сохранения тепла.
Всё же Неупокой, пожалуй, угадал избу Мокрени: на её дворике маялась тощая кобылка, словно ей тошно было заходить в грязноватый сарай, просвистанный ветром. В другом дворе конюшня из плитняка вмещала стойла три.
Людей не было видно. Он, бормоча уставное, торкнулся в избу почище: «Во имя Отца и Сына...» Дверь, сбитая из толстых плашек, неожиданно легко распахнулась. Холодный свет разом охватил девку – ширококостную, груболицую, в длинной рубахе. Цвет посконного полотна был сероват, как небо в тот день; тем резче светился клюквенный румянец щёк и тёмная, до фиолетовости, полнокровность губ, будто накусанных или нацелованных... Девка стояла молча, туповыжидающе, прозрачно заглядевшись в глаза Арсения. Вдруг вздумалось, что, подойди он к ней, коснись, ударь, она не шелохнётся, стерпит всё. Он сиплым голосом спросил хозяев.
– Мужики гуляют, – хохотнула девка, вся передёрнувшись под рубашкой. – Перво в избе гуляли, ушли на омут. А я одна.
«Изыди, сатана!» – мысленно воззвал Неупокой и зло спросил:
– Где омут?
Девка прошлёпала босыми пятками по луже перед избой, махнула вниз по речке:
– Тамотко! Али проводить?
Почудилось ему нежное лукавство в её ожившем взгляде или уже греховное мнилось во всём, даже в округло нависших, дождём набухших тучах? Он натянул куколь и почти побежал по тропинке, плотно заросшей по краям ярко-зелёным спорышей. И холод не брал эту травку, деревня устилалась ею, словно войлоком.
С Покровской – ближней к первому октября – субботы крестьяне отмечали завершение полевых работ. К трём дням гулянья им разрешалось сварить пиво и поставить медовуху – так же как на Пасху, Рождество и престольный праздник. Чего не выпьют, целовальник или монастырский пристав должен был опечатать до следующего гулянья. Сегодня это предстояло Неупокою – отныне он вместе с игуменом отвечал за нравственное здоровье крестьян.
Просторный лужок обрывался к омуту каменистым уступом, со стороны лесочка луговину обегали плакучие берёзы. Вроде и солнца не было, а луговина светилась яшмовой зеленью. С берёзовых вершин стекала позолота. На краю обрывчика, вокруг раскинутого полотнища, сидело шестеро мужиков. Полотнище-скатёрка, расшитое алым узорочьем, было щедро уставлено жбанами и мисками. У костерка возилась с каким-то варевом женщина, две другие мелькали цветными душегреями между берёзами – искали поздние грибы.
Узрев Арсения, мужики поднялись и поклонились – не сказать, чтобы слишком радостно. Смиренно дождались, когда он благословит их трапезу, после чего старший по возрасту Прощелыка Иванов просил отведать хлеба-соли. Тут были оба Ивановы, их сыновья, вошедшие в рабочий возраст, Мокреня и Терёха-половник. Юноши – лет по тринадцати – пятнадцати – сидели скромно, им наливали только квас, заправленный мёдом, а мужики были навеселе, если это слово применимо к их мрачноватому, усталому опохмелению – кончался третий день гулянья.
Арсений не отказался от крепкого, подсыченного мёда. Пресная трапеза приелась, да и научные изыскания последних дней иссушивали душу. Хотелось тёплого, простого, как хлебы из печи.
– Место вы отыскали красное, – одобрил Неупокой.
– В Покровскую субботу мёртвых поминают, – откликнулся Прощелыка с нехорошим смешком. – Мы одного забыли, вот – припомнили.
– Кого?
Прочие уставились на Прощелыку с остережением; но тот не внял:
– В сём омутке пристав утоп, Царствие ему Небесное.
Шириной омут был на три маха, ребёнок переплывёт.
Волжанину Неупокою стало смешно и грустно.
– В нём разве с жерновом на шее можно утонуть. Как он свалился-то?
Прощелыка отмолчался с нарочитой загадочностью. В Неупокое проснулся рыскающий зверь, не вовсе, видно, сгинувший.
– Может, он купался, сироты? День жаркий был?
– Жа-аркой! – радостно поддакнул Мокреня.
– Стало быть, сердце от холода не прихватило, судорога не повела! И пьян он не был, откуда у вас вино среди лета?
– Вестимо, у нас хмельного нет!
Последнему приходилось верить – по сельским местностям кабаков не было, во Псков крестьяне не поволокутся, чтобы поить пристава. Неупокой спросил, намеренно понизив голос:
– Вы ведь не любили его? За что?
Крестьяне вовремя сообразили, что отрицать известное – себе дороже.
– За что его любить? Он нас неволил... Испей-ка мёду, отец Арсений!
Из-за края глубокой чаши, выточенной из берёзового капа, Неупокой оглядывал их разогретые хмелем лица. В нём родилась уверенность, что пристав был убит. Кем?
Лапа, пожалуй, первым отпадал. К зрелым годам пережитое, как и тайные страсти человека, пятнают облик его. В каждой ужимке и ухватке Лапы Иванова проступала простодушная семьянистость. Если его и можно заподозрить в преступлении, то не страшнее кражи острамка сена из монастырского стожка, и то нечаянно, во внезапном всплеске хозяйственной жадности. Чего стоили одни редеющие, блёклые волосики, падавшие из-под шапки на короткий загривок, неприметно переходивший в пригорбленный хребет. И во внимательных, но не скрытных глазах его, выпяченных губах и даже плотно спутанной бородке, налезавшей на уголки губ (Умной учил: гляди на уголки!), сквозила одна откровенная мысль: как бы спроворить свои крестьянские дела ловчей, чем прошлым летом. Ещё заметно было, как ценил, а может, и искренне любил Лапа своего старшего сына: с нечаянным лукавством он придвигал к нему не в очередь мису с разварной щукой, а жбан с пивом убирал подальше.
Сыновей-отроков ещё нелепей подозревать. Младое озорство поигрывало в них, но ранние трудовые навыки уже неизгладимо легли на их простые лица, взбугрили и опустили плечи, огрубили пальцы, вылепив общий образ терпения, упорства и доброты. Неумолимые потребности крестьянского хозяйства ещё не раздражили их, как Прощелыку, не придавили, как Мокреню; ребята смотрели на людей и в будущее с неистребимой доброжелательностью и надеждой. Такие убивать не смогут, если им, как их сверстникам дворянам, не остервенить сердца военной наукой.
Для мести, для сведения денежных счетов нужно быть очень грубодушным, чтобы убить, и очень хитрым, чтобы лицемерить в застолице. Один Прощелыка был достаточно зол и себе на уме. Как раз к нему у Арсения было неприятное дело.
– Что ж, христиане, хлеб в амбарах, – начал он трудный разговор. – Завтра – Покров. После заутрени ждут вас старцы с оброчным хлебом и государевыми деньгами. Вот насчёт податей: кому непосильно внести пищальные да ямские деньги, старцы ссуду дадут.
Длинное и острое лицо Прощелыки скосила понимающая улыбка. Мокреня вяло спросил:
– Каков рост?
– Ты ещё с прежней «истиной» не разобрался, – осадил его Арсений, имевший указание Мокреню и половников не обнадёживать. – Ссуда тем, кто не брал.
– И брать не хочет, – уточнил Прощелыка сквозь зубы.
Тут была хитрость чисто монастырская: денежная ссуда – «истина» – давалась в рост, доходивший до пятой доли. Крестьяне, умевшие считать не хуже старца-казначея, прибегали к ссуде лишь с голоду или для семенного хлеба. Старцы же через Трифона старались навязать побольше ссуд для выгоды обители.
– Экой ты супротивник, – укорил Неупокой Прощелыку, подражая неискреннему голосу Трифона. – Старцы ревнуют о твоём доме более, чем ты. Купил бы вторую лошадь, хозяйство оживил.
– Оброк я им даю! – крикнул, забывшись, Прощелыка. – Подати государевы плачу, разве ямчужные поборы задержал... Чего им надобно?
Ямчужные деньги – на изготовление пороха – в прошлом году неожиданно возросли, выбив из колеи многих хозяев. Неупокою ничего не оставалось, как исполнить последнее наставление Трифона:
– Ей, я не ведаю, чем ты старцев прогневил, Прощелыка. Только ты бы не гневил их больше. Время ныне неспокойное, государевы дьяки на всякие работы сбирают мужиков, та же посоха в случае войны... Старцы оборонят, кого похотят, от сыщиков, а коли не похотят? Тебе бы с ними в мире жить.
Он сам не ожидал, с какой готовностью примет Прощелыка это условие:
– Я государям моим не супротивник!.. Алтына три возьму на вспоможение, коли пожалуют.
Не станет старец-казначей путаться с деньгами меньше рубля. Но до этого Неупокою уже не было дела. Лапа и Мокреня обиженно заговорили о своём:
– Он ссуды не просил, ему навеливают, а мы просили, нам не дают. Отчего так?
Если бы Арсений знал... Хитрюга Трифон так и не открыл ему причины разного подхода к мужикам. «Сам разберусь», – надеялся Арсений.
Еды на столе осталось мало, с избытком – пива и медовухи. Хмельное плохо приживалось в здоровых крестьянских желудках, сладко наполненных кашей, рыбой, пряжеными пирогами с капустой и репой. Чувство предельной сытости было не так привычно им, чтобы бездельно заливать его хмелем. Тем более что завтра – трудный день счета и расплаты, когда рассудок превыше силы.
– Я, Лапа, перед старцами попечалуюсь за тебя, – пообещал Арсений. – Не ведаю, отчего не дать тебе землю на посилье. А ты, Мокреня, не обессудь, дорога тебе одна – в половники али детёныши...
Мокреню будто шилом ткнуло, он взвился всем вялым телом, едва не сверзившись с уступа, и завопил петушьим сорванным голоском, тыча в реку:
– Прежний-то пристав эдак же наставлял меня! Чим я вам не хрестьянин?
Его стали увещевать – тебе-де старцы добра желают, коли у тебя хлеб сам-два родится, а корова вечно гнилой болтушкой травится... Бог тебе дал рукомесло, ты древодел искусный, вот и кормись.
Неупокой добавил:
– Мельницу бы наладил – вовсе завалилась она у вас.
Его слова были покрыты разочарованными выкриками:
– А, хто бы говорил!.. Старцы сами запретили нам!
Оказалось, мельницу на Пачковке, построенную Мокреней с крестьянами двух деревень, монастырские старцы велели завалить, говоря: у нашей-де обители своя млыня есть на сильной речке Бдехе, в два колеса, муку молоть и крупы можно рушить, даже масло бить; а вы, крестьяне, лишаете нас денег за мельничное дело. Утопший пристав сам колёсную ось у крестьянской мельницы рубил.
Пожалуй, у Мокрени был крепкий зуб на пристава – не слабее, чем у Прощелыки.
Неупокой внимательнее оглядел его. Грязновато-бурая от въевшейся земли рука Мокрени была, в отличие от тела, ловка, привычна к деловому топору, зубилу. Особенно сильны, не по-крестьянски долги казались пальцы, сжавшие горло жбана с пивом.
День истекал, как сыворотка сквозь решето под каменным гнетом; его же положил Господь, чтобы мы знали пределы радости, труда и сна. Густые облака на западе приобрели желтоватый цвет творога, притомлённого в печи. Ради обязанностей пристава игумен разрешил Арсения от стояния часов, но к вечерней службе он должен был вернуться.
– Что ж, христиане, время опечатывать ваш мёд.
– Да, сколь корова ни мычи, а в стадо надо...
Мужики, хоть и крестьяне, одинаковы: при мысли о надвигавшемся трёхмесячном воздержании и жажда пробудилась, и в утробе нашлось довольно места для тёмного пива. Варить его научились псковичи у соседей – немцев и чухонцев. Сладкое было пиво, с имбирной горчинкой, а ударяло в голову, как круглая пищальная пуля. Потом запели, горемычные, и небо уронило на них немного слёз.
– В чьём дому станете хмельное хранить, кто в ответе?
– У Лапы, – отвечали крестьяне дружно. – Лучшего погреба на деревне нет, от века у Лапы держим.
Прощелыка резко засмеялся:
– Про Лапин погреб Мокреня песню сложил. Что, христиане, оскоромим отца Арсения?
В трезвом виде он вряд ли позволил бы себе подобную развязность. Неупокой лишь строго опустил глаза. Юноши Ивановы с готовностью запели, а сам Мокреня, для виду помахав на них руками, стал поправлять и присоединился к ним:
У кого сладка жена,
У кого красна изба,
У кого добра корова,
А у Лапы Иванова —
Погреб! Погреб! Погреб!
Были в песне ещё два срамных стиха, их спели потише, чтобы не донеслось до лесочка, где жёны с робкой настойчивостью скапливались на опушке, ведая конец гулянья. И те стихи кончались дружным: «Погреб, погреб, погреб!» – звучавшим всё угрюмее, словно крестьяне что-то забивали в землю... Впрочем, Неупокою это могло почудиться, уж очень мрачный надвигался вечер. Он всматривался в разошедшегося Мокреню, думал: не землю бы тебе пахать, а с глумцами бродить по городам и весям, радовать людей. Евангельская притча о зарытых талантах творится, видно, вечно.
Свернув намокшую скатёрку, пошли в деревню. Догадливые девки, оставшиеся в избах, оживили подтопки, чтобы обсохнуть загулявшим мужикам. Изба покраше, принятая Неупокоем за богатую, принадлежала Мокрене, у Лапы же строения были прочны, но неказисты. Двор его жался к лесистому косогору, огородец тянулся до самой речки. В конце огородца стояла банька, ближе к дому – конюшня, напогребица, дровяной навес. Хлев с тремя коровами, десятком овец и курами примыкал к жилой избе, под единой соломенной кровлей.
Утоптанная до каменной твёрдости тропинка вела наверх, на всполье, к строго нарезанным пашенкам.
Погреб у Лапы Иванова и вправду был хорош. Просторную, как горенку, яму он перекрыл сосновыми плахами с проконопаченными пазами. Сверху присыпал слоем листа и песком. Стены чисто обмазал голубой глиной, а по углам укрепил ивовым плетнём. Пол земляной, частью заложенный брусками на деревянных катышах – для припаса, боящегося посторонних запахов. Сюда поставили остатки медовухи и пива. Опечатанные и как бы забытые, они до Рождества наиграются, наберут крепости для святочного гулевания – со страшными машкерами и воплями. Даже Арсений, не домашний человек, с завистью оглядел Лапины зимние запасы – квашеную капусту, мочёную бруснику с яблоками, солёные грибы под слоем духовитого сока и с вылезающим из-под гнёта дубовым листиком, жбан с конопляным маслом и несколько кругов коровьего, скопленного за лето и перетопленного по-чухонски. Жена Лапы, тётка Вера, плотная и розоворукая, заметно пахнущая здоровым потом, вместе со всеми простодушно-радостно обозревала своё богатство, слушала похвалы. Нашла какой-то непорядок, стала передвигать тяжёлые бочата и корчаги, соблазнительно отставляя каменный округлый зад... Арсений первым полез из погреба по лесенке, коряво, но надёжно сбитой из берёзовых жердин.
Отведать хлеба-соли на верхосытку он отказался, заторопился в монастырь. Холодная морось била в лицо, под непослушный куколь. По груди разливались холод и сырая скука. Никак он не мог понять, чем огорчил его поход в деревню Нави, что уж такого грустного усмотрел он у них. Подобных деревушек в России тысячи... Может быть, понимание, что тысячи, и угнетало, ибо во всём, что он услышал и увидел за пределами Лапиного погреба, угадывалось глубокое неблагополучие, непрочность нынешнего крестьянского хозяйства.
Наутро, в понедельник, к монастырю поволоклись возы, Дождь излился за ночь, на юго-востоке зарозовело, засинело ознобленное небо. Венчальными свечами потянулись к нему верхушки сосен на горе, над местом, где Каменец несытыми губами припадает к речке Пачковке... Медлительное шествие телег, полных плодов земных, выглядело и радостно и грустно: чужое отбираем – даром. Если взглянуть с Изборской или Наугольной башни, ползущие по дорогам возы и люди могли внушить даже тревогу – будто идут на приступ... Спаси нас Боже от этих мыслей.
Лучшие земли и деревни располагались к югу от Печор, в далёких Паниковичских лесах. Они были воистину царским даром Ивана Васильевича за кровь игумена Корнилия. Обильные возы из Паниковичей только показались на дальних подступах, а жители Нави, Живоглядки и хуторков-починков, раскиданных по Пиузе и Пачковке, уже подтягивались к Никольским воротам. Снимая валяные колпаки, мужики крестились на железную маковку Николы Ратного, после чего устраивались на своих телегах в несуетливом ожидании.
В обители, напротив, суетились: из пещерной церкви во время службы вызывали то подкеларника, то старца-купчину, а келарь и казначей вовсе не стояли ни заутрени, ни часов. Посельский старец Трифон мрачно сверял свои записи с расходной книгой казначея. Как водится, к приёму были готовы не все амбары, не домыты бочки для мёда, а келарь неубедительно скулил, будто не может уследить за всяким тунеядцем. Игумен негромко и не надрывая сердца выговаривал ему, Трифон не отпускал Арсения и иных приставов – не по делу, а на всякий случай. Но едва отошла служба первого часа дня, Никольские ворота растворились и старцы в благолепии, с молитвой выступили навстречу мужикам.
Полезно было напомнить мужикам, что те везут припасы не стяжателям дворянам, а богомольцам, для дома заступницы всех обиженных и ради поддержания сил монахов, потребных для молитв.
Но скоро благолепие и показная взаимная любовь сменились счётом: зашелестели книги прихода и расхода, списки льгот и недоимков, мысли иноков и крестьян улетели далеко от божественного. Всем нашлась работа: каждый воз следовало не только сдать-принять, но и разгрузить, распределить по кладовым. Неупокоя закрутил истинно рыночный сполох.
Он по-прежнему не понимал, куда гнёт Трифон. На словах посельский старец желал одной уравнительной справедливости. Он ласково беседовал не только с Терёхой-половником, но и с безнадёжным должником Мокреней, особенно когда тот согласился зиму поработать с другими монастырскими детёнышами «за серебро», то есть за плату с учётом долга. Работа – чистить хлевы, возить назём на пашню. А с Лапой Ивановым пошла жестокая торговля.
Расходы и прибытки у Лапы были сочтены заранее. В излишке получалось одиннадцать алтын – стоимость мерина, коли старец-купчина убавит две деньги. Тогда Лапе сам Бог велел поднять пустошь на посилье. Трифон жался, пустоши не отдавал.
С Прощелыкой, взявшим-таки ссуду в двести денег, то есть рубль, Неупокой сопровождал последние возы к амбарам.
– Ты хотел меньше взять... На что тебе такие деньги, Прощелыка?
– Сам же ты, отче, пугал меня посохой. Возьмут на войну пушки таскать, на кого мои останутся? А и сынка возьмут – не легче... Я отцу Трифону не супротивник.
– Бог даст, войны не будет. Литве и свейским не до нас.
– Нет, отче, слух идёт... Во Пскове с посадских недоимки по пищальным деньгам выбивают, да велено пути к границе досмотреть.
Только теперь Неупокой заметил, что погода поворотила на холод, с востока засквозило, будто в разбитое окно. Прознабливало до сердца... Странно: что ему война? Как говорится при пострижении: «Раб отрекается мирских надежд...»
Возы скрипели тяжко, будто свозили в монастырские амбары не зерно, а смертоносный железный дроб.







