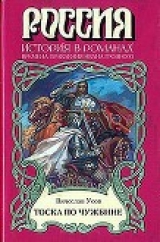
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
7
С дождями и морскими ветрами улетела золотая осень. Осталась чёрная. Дорога между Вольмаром и Венденом набухла влагой, местами стала непроезжей. Русский боевой табор так и не снялся из-под Вольмара до Покрова. Андрей Яковлевич Щелкалов, приехавший «кручиниться» от имени царя, видимо, заразился вялостью и неуверенностью воевод – Голицына, Сицкого, Татева... Дети боярские, вконец осоловевшие от холода, безделья и местного предательского пива, пошучивали, что в русском войске ныне сразу два дьяка – Щелкалов и Клобуков, да, видно, против Ходкевичева – писаря, взявшего Венден, их бумаги не тянут, надо ещё писать. Словно поветрие, в полках распространились усталость и неприятие войны, цели которой исказились и отдалились, завесились туманами. Хотелось воротиться на зиму домой и просто жить, а не умирать под чужими стенами.
Михайло Монастырёв, как мог, глушил в себе эти опустошающие сомнения. Горюя об отозвании в Москву Дмитрия Хворостинина, он прибился к его брату Петру, устроившему так, чтобы сотня Монастырёва вошла в его полк. Князь Дмитрий, уезжая, завещал брату «не ослаблять узды», держать людей в боевой готовности, жестоко наказывать за отлучки и пьянство. Михайло гонял свою сотню в дозоры и объезды по дальним замкам, где в постоянном ожидании нападения или немецкой измены сидели русские воеводы и стрелецкие головы. На мызу свою Михайло махнул рукой, как большинство дворян, испомещенных в Ливонии. Страна сия, как видно, долго будет болеть войной, а значит, бесхозяйственностью, хлебным недородом и голодом, подобным прошлогоднему на Севере. «Наше дело, я чаю, не хозяйство, а воинская служба, – делился Михайло с другом Шишкиным. – Давал бы государь двойное жалованье против нынешнего да двор в Москве али в ином городе, кто где приписан. С землёй же пусть крестьяне разбираются, нам не поднять её». Шишкин не соглашался с ним: «Служилому без земли пропасть. Жалованье сегодня есть, завтра его урежут, скажут – казне невмочь. И без того жизнь наша непостоянна, мы хоть зимой в деревне, на своих припасах, отсидимся да отогреемся». Наверно, так рассуждало большинство, только Михайле было тоскливо воображать, как он, вернувшись на Шелонь, станет вымучивать оброк из мужиков.
Куда как проще было командовать детьми боярскими. К исходу сентября сотня Монастырёва не вовсе потеряла охоту воевать и встретила известие о походе с радостью. Их назначили в охрану пушечного наряда, отправленного к Вендену заранее.
Решение князя Ивана Юрьевича Голицына – приурочить выступление к Покрову – вряд ли было удачным. Праздник был установлен в память чудесного спасения войска, укрытого покрывалом Богородицы в безнадёжном положении. Если воеводы, зубоскалили шутники, возлагают надежду на то же чудо, не след идти под Венден. Утром первого октября, отстояв праздничный молебен, русское войско под сирым дождичком двинулось на юг.
Наряд был послабее, чем прошлым летом: две «Девки», «Волк» и «Змей Парновский». Посошные крестьяне, раздражённые бессмысленной потерей лета, тоже пошучивали не по-доброму (мрачного смеха вообще в ту осень было лишку, как водится перед слезами): полюбился-де нашим «Девкам» немецкий молодец, вдругорядь тащатся к нему, как непотребные. Михайло их не обрывал, понимая, что настроение у всех и без того тяжёлое, нестойкое. Скорее бы запели «Девки» в полный голос да «Волк» подвыл.
Медленно разворачивалась, раскрывалась водораздельная равнина на подходах к Вендену, слегка приподнятая в середине, как будто вспухшая от воды. И угрожающе, и холодно чернели по краям её, по склонам к невидимой Гауе опустелые и ободранные леса.
Была у воевод надежда, что по такому неприветливому времени, по непролазным дорогам литовские войска не поволокутся из-за Даугавы на помощь к Венденскому замку, одиноко затерявшемуся среди русских владений в Лифляндии. Правда, во время одного объезда к северу от Вольмара Михайло получил странное известие о шведах, якобы совершавших угрожающее, но нелепое в военном смысле движение от Пайды к югу... Мира с ними не было, но после отнятия у русских Пайды шведские воеводы как будто успокоились.
мечтая разве о захвате Нарвы. Соперничая в Ливонии не только с русскими, но и с Литвой, они ещё ни разу не объединились даже с принцем Магнусом. Тот, кстати, снова изменил и передал свои владения, пожалованные ему царём, под покровительство Батория. Вести о шведах не насторожили Голицына: «У свейских свои заботы, им не до Инфлянт».
Всё же Монастырёв нет-нет да и осматривал осенний окоём, тревожась всякий раз, как на лесных опушках показывались чьи-то стреноженные лошади или пехота, при ближнем рассмотрении оказывавшаяся ватагой крестьян, идущих на общинные работы. Война войной, а латыши неторопливо и незаметно обихаживали родную землю, ещё не зная, кто победит, но веря, что немецким крепостным порядкам пришёл конец. И любо было видеть, как всё у них получалось чисто, прочно и удобно, и многим детям боярским вздыхалось при воспоминании о собственных заброшенных имениях. Хотелось поскорее отвоеваться – и домой...
...За год немецкие умельцы отремонтировали стены замка Вендена, заделали пробои валунами, выделявшимися окантовкой свежего раствора на тёмном, выщербленном ядрами поле. Никто теперь не вёл переговоров с русскими, не отворял городских ворот. «Девок» и «Волка» пришлось установить не перед замковой, а перед внешней, городской стеной. О том, как брать тройные укрепления, не хотелось пока и думать. В первый же вечер русские и литовцы обменялись десятком ядер – без последствий. Посошным было приказано ломать окрестные дома на мызах, валить деревья и сколачивать лестницы.
Не теряя времени на укрепление табора, наскоро вырыли окопы-шанцы для укрытия пехоты перед приступом. Воеводы наметили два места, где городская стена была слабее. Все работали в прямом смысле без оглядки, даже без разъездных дозоров по тылам. Когда на третий день, готовясь к приступу, наряд и войско распределялись вдоль городской стены, Пётр Хворостинин, командовавший Сторожевым полком, всё-таки разослал дозоры, но было поздно.
Скрытно пройдя лесами по долине Гауи, шляхетский полк и роты гофлейтов правителя Инфлянт Ходкевича внезапно появились с севера. Один его отряд с ходу ворвался в табор, поджёг шатры и порубил посошных. Тем временем гофлейты подступили к шанцам и, поддержанные пушкарями со стены, произвели расстройство в рядах стрельцов. Михайло, выполняя задачу по охране пушек, не поскакал на выстрелы, а велел сотне своей держаться двойной цепью, отнюдь не отрываясь от пушкарей. К северу от табора, на оголённой равнине, развернулся бой между конными. Издали он выглядел нелепо и путано, как это часто бывает на войне, и непонятно было, кто одолевает. Численный перевес, почти двойной, был на стороне русских.
Главнокомандующий князь Голицын и воевода Фёдор Васильевич Шереметев оказались почему-то не там, откуда они могли руководить сражением, а возле пушек, нацеленных на градские ворота. Монастырёв кинулся было к Шереметеву с просьбой о подкреплении, тот суетливо отмахнулся. Меж тем за наряд отвечал он. Михайле показалось, что на грубом, вечно недовольном лице Фёдора Васильевича зыблется обыкновенный страх.
И не к месту, а вспомнилось дурное об этом человеке: и то, что жалкий крестик его, единственного неграмотного боярина, стоял под постановлением Земского собора 1566 года, возобновившего эту несчастную войну; и запись в Разрядной книге о войне с татарами, как Шереметев, захваченный врасплох, со страху потерял свой саадак; и угодливое его участие в последнем Соборе, едва не положившем начало новой опричнине и под нажимом государя приговорившем к смертной казни думных людей, осмелившихся указать на бедствия страны... Прежде каждому такому дурному делу находилось оправдание; соединившись, они накладывали на Фёдора Васильевича некую тень. Предчувствуя недоброе, Михайло воротился к своим, а Шереметев и Голицын остались возле пушкарей. Две сотни детей боярских, сопровождавших воевод, держались поодаль, не обнаруживая желания усилить оборону пушек.
Поглядывая на лысое взгорье, где с каждой минутой всё шире и злее развёртывался бой, воеводы о чём-то тихо переговаривались. К этому времени определилось ядро сражения – в полуверсте от табора, в людской и конской свалке. Стрельцы и драбы с самопалами туда и близко не совались – свои перемешались с чужими, не в кого стрелять. Наши как будто потеснили литву и немцев, те подались с открытой равнины вниз, в залесённую долину, теряя выгодное положение и высоту. И в таборе стрельцы дружными залпами отогнали драбов, сунувшихся за добычей.
Но не успели они запыжить новые заряды, как беда обрушилась на них с неожиданной стороны.
Если равнина к северу от Вендена тянется без ложбин не на одну версту, к юго-западу местность иная: от городской стены со рвом – до полуверсты ровного поля, по краям подрезанного двумя лесистыми лощинами, а дальше землю помяло в гряды, с кустарником и лесом по низинам. По-умному здесь следовало бы поставить сильный боевой заслон, ибо даже конному полку нетрудно подобраться по межгрядовым западинам к самому табору. Чёрные всадники (тусклое солнце било им в спины и в глаза стрельцам) выпростались на горизонте, словно их родила сама земля, и их плащи, доспехи, железные шапки с полузабралами сохранили её цвет. Их было много, тысячи четыре, и шли они неразрывными рядами, правым рогом захватывая табор, а серединой и левым рогом устремляясь к месту боя. По прямой посадке всадников и тяжёлой рыси перегруженных коней в них безошибочно угадывались шведы, по-видимому гофлейты Тодта, знаменитого генерала. Однажды он уже разбил русских после взятия Пайды. Об обращении его гофлейтов с пленными ходили такие слухи, что русские пушкари, оставленные тогда без охраны, повесились на пушечных стволах.
Прошло минут пятнадцать, и табор был смят, стрельцы порублены, а шведы, не разрывая цепей, захлестнули и стали вдавливать конное русское войско в болотистое понижение перед долиной Гауи. Там уже разбирались и изготавливались к новому удару литовцы и немцы. Насколько можно было видеть издали, московские полки – Большой, Левой и Правой рук – разъединились, распались на отдельные толпы по нескольку сотен человек, утратив руководство и взаимодействие.
Вскоре из низины стали вырываться то одинокие всадники, то сразу десяток-два, отплёвываясь стрелами и пулями из коротких пищалей, и утекать по дороге к Вольмару. Это был верный признак не просто поражения, а полного разгрома. Немногочисленный Сторожевой полк, куда входила сотня Монастырёва, был рассредоточен для бережения обоза и наряда...
Михайло снова кинулся к Голицыну:
– Князь, пушки станем взрывать али обороняться в шанцах?
Голицын не ответил. Большие люди умеют не замечать меньших, особенно когда те задают трудные вопросы. Михайло обратился к Шереметеву. Фёдор Васильевич был не только ликом груб.
– Да твори что хошь, а хошь – поцелуй моего мерина под хвост! Время нам пушки взрывать?
Чёрные и узкие, как просяные зёрнышки, зрачки его метались в покрасневших, с болезненной желтизной белках. Михайло не был уверен, что Шереметев уясняет обстановку.
О чём-то своём думал воевода, далёком от того, что выло и кричало, звенело саблями и грохотало копытами вокруг. До пятисот гофлейтов и шляхтичей, легко отличимых щегольскими доспехами, едва прикрытыми цветными мантелями, уже скакали к пушкам, обтекая шанцы. Свободным оставался один проход – между городской стеной и табором.
– Тебе поручены пушки, боярин! – крикнул Михайло, едва сдерживая злость и ещё сильнейшее желание огреть коня нагайкой и улететь в свободный проход. – Тебе и нашу судьбу решать, и честь...
– Поди-ка, поди-ка прочь, – забормотал Шереметев, не отвлекаясь от своих глубоких мыслей и в то же время живо шаря глазами по сторонам. – У тебя есть начальник – Хворостинин. В его руках и честь твоя... Гей, молодцы!
Он махнул рукавицей, сотня его телохранителей живо стянулась к нему. Слегка помедлив, к ним присоединились и люди князя Голицына. Все они чуяли, что в этой безнадёжной обстановке боярин Шереметев – единственный человек, способный принять спасительное решение и взять ответ на себя.
Пушкари тоже оборотились к нему – главному своему начальнику. Не оставляя станин с тяжёлыми стволами, они издали ловили всякое слово и движение боярина. Прикажет бросить или взорвать? Посадит на коней за спинами своих детей боярских? Вместе с посошнымн при наряде оставалось человек сто, все безоружные, с одними ножами. Вражьи кони размажут их копытами по насыпям шанцев, по полозьям станков. Шереметев смотрел не на них, а на Голицына, в раздумье стоявшего поодаль с одним оружничим.
– Иван Юрьевич, поди-ка!..
Голицын будто против воли тронул кобылицу. Та в два поскока оказалась в кисло пахнущей толчее меринов, принявших её с сердитым пренебрежением. Монастырёва Шереметев больше не видел, да и вообще не видел никого и ничего, кроме свободной полосы пыльной, помертвелой травы вдоль городского рва и туманного спуска в лощину.
Михайло вдруг заметил, как неухоженна, неряшлива траченная сединой борода Фёдора Васильевича и как из-под железной шапки выбились пряди отросших волос. Боярин запускал себя в походной жизни, забывал расчёсывать и холить бороду, брить голову хоть раз в неделю. Михайло отвернулся к пушкарям. Не стал смотреть, как Шереметев и Голицын первыми поскакали, как наперченные, вдоль рва, увлекая своих людей – две сотни отборных рубак. Со стены по ним шмальнули из дробовых пушек, но лишь один меринок свалился в траву, придавил всадника и задёргался, заверещал на краю рва. Никто не оглянулся.
Посошные и пушкари смотрели теперь на одного Михайлу. Он рявкнул:
– Стволы-то разверните, оглоеды!
Станки у «Девок» были с колесом, их разворачивали в считанные минуты. Галоп не медлил, налетал, от шанцев были уже видны красные лица всадников, железные пластины на латах и юшманах, а у передних – даже пушистые, с вислыми концами шляхетские усы. Только заметив, как перестроилась сотня Монастырёва, перекрыв удобные подъезды к пушкам, шляхта перевела коней на рысь, потом на шаг. Станковые пищали и пушки уверенно уставили навстречу им чёрные рыла, пушкари споро разобрали железные шкворни, раскалённые в кострах. Осталось поднести их к торчащим фитилям...
Возможно, шляхтичи и кинулись бы сдуру под выстрелы, да трезвые гофлейты, привыкшие соизмерять опасность с деньгами, правильно рассудили, что лучше обождать. Сзади к ним подходили новые сотни – усталые, отмахавшие своё, утолённые злобой и убийством до отвращения, как сыт бывает гофлейт-бездомовник продажной любовью. Всем и Монастырёву было ясно, что русские, зажатые меж войском и стенами, будут расстреляны и перемешаны с землёй. Михайло в последний раз окинул просветлённым взглядом почернелые поля, недостижимый лес, покинутый птицами, и обида, и тоска, и возмущение против ранней смерти вошли в него. Ничего больше не хотелось, только простого человеческого слова. Неподалёку от него стоял пушкарь и молча плакал.
Заметив, что Михайло смотрит на него, он чёрной рукой мазнул по щеке и сказал:
– Ты один нас не бросил, осударь. А мог. Нам бы тагды взрывать себя, и с пушками.
– Без меня легче могли бы сдаться. Вам не бесчестно, люди вы простые, не родовитые.
– Нет, осударь, нам пощады от воинских людей не ждать. Нас пуще всех не любят, мы-де издали стреляем, нас не достать. А уж достанут... Да и по делу: попади раз-другой под наш дроб, навек озлобишься.
Михайле грустно было расставаться с иным, более героическим представлением о причинах самоубийства пушкарей. Он торопливо спросил:
– Чем у тебя заряжено?
– Железной сечкой.
– Я велю – запалишь?
– Куды я денусь, осударь?
В руках Михайлы была не только собственная жизнь. Словно в напоминание о том, что с ними станется, из города шваркнули ядром. Оно зарылось в насыпь и зашуршало... Дети боярские из сотни Монастырёва молча смотрели, как множится толпа конных на ровных подступах к шанцам. Стальные стебли сабель в их руках пошевеливались и клонились, как от ветра.
– Нет у нас иного выхода, робяты, – сказал Михайло. – Помереть с честью... Сколько народу глядит на нас, позор наш или славу по трём царствам разнесут!
Никто не отозвался, лишь ветер усилился, подвыл. А над отрядом литовцев, подобравшимся ближе других, взвился бунчук с чёрным конским хвостом, обычно сопровождавший ротмистра. В образовавшемся проходе появился человек, которого Михайло никак не ожидал увидеть, – князь Полубенский!
Вице-регент Инфлянт, утративший эту должность вместе с доверием короля, получил счастливую возможность восстановить доброе имя участием в походе шведско-литовской армии. Никто не ожидал, что с помощью Георга Ганса Речь Посполитая и Швеция так быстро договорятся о совместных действиях. Клещи, скреплённые хитрым немецким болтом, сомкнулись на горле русского войска, не только плохо подготовленного и истомлённого четырёхмесячным бездействием, но и развращённого победами прошлого лета.
Князь Полубенский ехал прямо на пушки в сопровождении трубача и оружничего с бунчуком. Он сразу узнал Михайлу. От изумления он потянул повод, конь стал переступать бочком, как застыдившаяся девица на гулянье. Александр Иванович не сразу укротил его.
– Так ты... голова у них?
– Я.
Михайло с усилием удержался от титулования князя. Он понимал, что Полубенский не захочет обнаружить их давнего знакомства и с удовольствием убьёт его, свидетеля своей измены.
– Войско ваше порублено, а воевода твой вязнем сидит у нас, – заговорил Полубенский спокойно. – Пушки и пищали ваши заряжены, и дури в головах людей твоих довольно, чтобы сгинуть без пользы. Мы лишней крови не хотим. Отдай мне саблю, я всем вам жизнь и сохранение чести обещаю.
– Про воеводу моего... того не может статься, что он в плену!
– Я лгу, по-твоему? Але мене его, Петра Хворостинина, на аркане волочь тебе на очи? Да як ты смелость маешь сомневаться в моих словах?
Михайло, насильственно улыбаясь, помолчал ровно столько, чтобы князь Полубенский вспомнил все подробности их первого знакомства.
– Сохранения чести даже ты нам обещать не можешь, князь. А коли я оскорбил тебя, готов ответить... саблей!
Поединок вдруг показался Михайле простейшим выходом из унизительного положения.
– Мне с тобой невместно на поединок выходить. Я своего служебника выставлю, из шляхтичей.
– Напрасно так думаешь: Монастырёвы – из князей Белозерских.
Он видел, что Полубенский злится, ему неловко, неприлично пререкаться с русским головой, но он всё время помнит о камне у Михайлы за пазухой. Если его раздразнить, он драться не откажется.
Князь подал коня вперёд. Михайло близко увидел его бешеные глаза и резко пожелтевшее лицо.
– Ну, я доберусь до тебя, холоп московский! И особливо до подлых пушкарей твоих. Сдохнуть хотите? Я препятствовать не стану!
– Чем тебе пушкари-то помешали? Люди подневольные.
– Не рыцарское то оружие – пушки. Смолоду ненавижу.
– Ты всегда по-рыцарски поступаешь?
– Я ваш Изборск без пушек взял!
– Да и я на Трикат ни ядра не стратил.
Сейчас он выхватит саблю, определил Монастырёв. Но прежде надо выкрикнуть условие поединка, тогда у Полубенского не будет выбора.
– Князь! Коли Господь даст мне победу в честном бою, обещай отпустить моих людей с оружием. А уж со мной – как знаешь.
Сабля Полубенского со скрежетом вернулась в ножны. Он стал спокоен, даже задумчив. И Михайле будто кто промыл очи – он увидел перед собою пожилого, крепко усталого от военной и разгульной жизни человека с нездоровым сердцем. Драться с ним на равных Михайле стыдно. Да князь и не станет, и шляхтича не выставит, а просто махнёт рукой, и драбы перестреляют их с двух сторон, как рябчиков.
– Вот теперь ты поймёшь, – сказал Александр Иванович, улыбнувшись одними светлыми, бесстыдными глазами, – что не из всех положений можно с честью выйти и жизнь сохранить. Чем-то приходится поступаться. И я не токмо собственную жизнь оберегал там, под Вольмаром и Трикатом. Вспомни, якой громадой вы навалились в те поры и скольконадцать нас было у каждом замке?
Михайло подумал две минуты. Сбросил себя с седла и подошёл к ближайшей пушке. Это был «Волк». В руке у пушкаря ходуном ходил остывающий шкворень.
– Твоя милость! – выкрикнул Михайло. – Пушкарей не бей!
– То моё слово. Саблю...
Монастырёв ударил саблей по стволу. Кусок клинка с елманью отлетел в сторону. Трубач поднёс к губам мундштук, протяжный мирный звук разнёсся над осенним полем и канул в дальнем лесу.
В бою под Венденом были убиты воеводы Сицкий, Воронцов, Тюфякин и Салтыков, доверенный соглядатай царя. Попали в плен Пётр Хворостинин, Татев, дьяк Клобуков. Как спасся Андрей Щелкалов, осталось неизвестным. Именно он донёс в Москву, что Фёдор Шереметев и Иван Голицын сбежали, бросив пушечный наряд.







