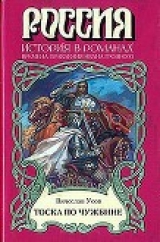
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц)
9
Венден и Вольмар были самыми мощными крепостями Лифляндской земли. Трикат, Роненбург (Рауна) и Смильтен – слабее и малолюднее, но в них по-прежнему сидели немцы и литовцы. Их надо было выбивать из замков, время поджимало – скоро Рождество Богородицы, после него «всякое лето кончается»... В боевом таборе, частью уже свёрнутом для движения на север, собрался военный совет.
Большинство воевод – Шуйский, Юрьев, Сицкий – высказались за осаду Рауны и Триката всем войском. Литовцы сдадутся при виде великой силы. Богдан Бельский помалкивал, зная, что государю хочется остановиться в Вольмаре. Иван Васильевич поглядывал на Афанасия Нагого – у того в запасе проходная пешка.
В шатёр был вызван князь Полубенский.
Выглядел он нехорошо, хотя в еде и пиве ему отказа не было. Разгром Вендена, самоубийство его защитников, татарские художества и издевательство царя над бургомистром наглядно показали князю Александру, что зверь, чью мимолётную симпатию он вызвал доносом на принца Магнуса, не прячет своих когтей. Судьба Александра Ивановича оставалась тёмной, он даже речь боялся завести о возвращении в Литву. Чувствовал себя вязнем – пленником, всецело во власти своенравного и необъяснимо жестокого человека, заложником за тех литовцев, что засели в Трикате, Смильтене и Рауне.
Ещё мучительнее было сознавать, какими лукавыми тенётами опутана его душа. В Литве ему придётся отвечать не только за истинные свои грехи – в них-то он отчитается перед панами радными, но и за то, что наплетут, подбросят подозрительному Остафию Воловичу русские шпеги... В шатре царя он понял, что ему придётся платить по новым счетам.
– Государь напишет товарищам твоим в Трикат, – вкрадчиво начал Нагой. – Ты отвезёшь государеву грамоту да на словах объяснишь, чтобы не вредили себе...
Служить царю парламентёром князь Полубенский вовсе не хотел. Мало ли что придёт в голову какому-нибудь тупому драбу в Трикате, разгорячённому слухами о Вендене: сперва пальнёт, потом подумает! Да и со старыми друзьями стыдно говорить, когда они на стене долг исполняют, а ты внизу. Нехай сперва спустятся да глянут в очи Нагого альбо самого царя.
– Я лепше тоже составлю грамотку, – заспешил Полубенский. – Они грамоте верней поверят!
– Ин напиши, – прервал его Иван Васильевич с какой-то пренебрежительной угрозой.
Через час Нагому было передано письмо, составленное без забот о стиле, но с откровенным расчётом, что паны радные тоже когда-нибудь его прочтут.
«Божьей милостью его царского величества вязня от князя Александра Ивановича Полубенского в Трикат... Ведается о том, что государь царь православный все городы Ливонии моцью величества своего и через огнь мечом и огнём побрал, а противящихся карали; ино яз, будучи вязнем, взят моцью, и царь православный жалованье своё и людям моим показал, живот дал и противников покарал. И вы бы ся государю царю не противили, ведаючи такую моць государя самого, войско и наряды великие, отдержатися не можетесь, занеже от короля нет нам отсеки и надежы от панов рады. А яз вам помочи не могу, а присяга от вас уж прочь... И пишу вам и в другой, и в третий, чтоб се есте государю не противили, вышедши добили челом, а не дали себя казнить. А яз вам по правде сказываю и Богом ся обещаю: поведёте не так, тое кровь наведёте сами на собя».
С таким письмом вместо осадных пушек в Трикат был послан Фёдор Молвянинов с сотней детей боярских и полусотней стрельцов. Для связи с Нагим и государем ему дали в товарищи Михайлу Монастырёва, впервые упомянув его в Разрядной книге. Именная запись в военной летописи была великой честью, но главная награда ждала обоих по взятии Триката.
Спускаясь по Вольмарской дороге в долину речки Абулс, узрев на её высоком берегу кладбище, церковь и замок, Михайло живо вспомнил свою холодную ночёвку. Разлив с заболоченными берегами выше замка выглядел нынче стылым и белёсым, как все озёра в начале осени. Было седьмое сентября, листья на ивах висели истомно, и много попадалось жёлтых. Тростник по берегам бурел и оголялся, скопления его прямых, тесно торчащих стеблей тоже напоминали об осени, усталости и тщете усилий – будто запасливый татарин, притомившись, вдруг вывернул из колчана остатки стрел и они без толку воткнулись в землю.
На броде их не упредили ни выстрелом, ни криком. Крохотное предместье было по-прежнему заброшено, лишь замок выглядел живым и грозным. Державцы Ян Бычковский и Щасный Малиновский заботились о своём хозяйстве: кусты под стеной были вырублены, дорога по ложбине оголена, ров прочищен. Русский отряд остановился перед подъёмным мостом.
Ров рассекал единственную седловину, соединявшую замковый холм с высоким берегом. Справа в низине зеленел лужок, слева поблескивал разлив с камышами, а прямо под мостом, на выносной стрельнице, торчали деревянными болванами немцы-драбы.
Князь Полубенский послал с Молвяниновым своего послуживца Кос-Малиновского, родича державна Щасного. Кос-Малиновский первым направил коня ко рву. Он крикнул по-немецки, потом по-польски – вызывал державцев. «С чим вы явились?» – откликнулись из башни. «Грамота государя царя Ивана Васильевича, – перешёл Кос на русский. – Да князя Александра Ивановича Полубенского!» Минут десять шли переговоры на трёх языках – на башне тянули время. Потерявший терпение Молвянинов дал знак сыну боярскому, вооружённому длинной пикой. Тот насадил на остриё заранее приготовленный свёрток с письмами и, крупом своего коня потеснив кобылу Коса, протянул пику через ров.
Через железную дверку из башни с опаской вышел драб в коротком кафтане со стальными наплечниками, в фигурно изогнутой железной шапке с козырьком. Он схватил письма и скрылся почти бегом, под гогот детей боярских. Ещё минут через пятнадцать со скрипом опустился мост, и тот же драб, выглянув из окошка над смотровой площадкой, махнул рукой: просим, гости дорогие!
Пожалуй, нигде в Инфлянтах, кроме Триката, башни и выступы стены не зависают с такой навязчивой угрозой над подъездной дорогой. Каменным, неживым угрюмством тянет от этих стен, напоминая о нелюдимых меченосцах с крестами на нагрудниках, давших монашеский обет ради завоевания чужих земель – даже не в радость себе, но для утоления какого-то властолюбивого зуда... Отряд, медленно двигавшийся по хитро растянутой дороге, был в полной власти пушкарей и стражи на стене. Всех можно было уложить двумя залпами из затинных пищалей. Литовцы вряд ли посмеют открыть огонь, и всё же сознание хотя бы временного бессилия перед людьми, ненавидевшими пришельцев, передалось даже коням: те дёргали шеями, отжимались от стен, рискуя оскользнуться в ров, подрезавший дорогу справа, и плохо слушались поводьев. Наконец двойные – сперва сплошные, затем решетчатые – ворота пропустили детей боярских и неожиданно закрылись перед отставшими стрельцами.
Дети боярские схватились за сабли, сшибаясь и гремя железом в узком проходе перед бергфридом. Двор от ворот до стены был шагов сто пятьдесят. Бергфрид имел вид шестиугольной башни в три-четыре яруса. Справа теснились какие-то сараи, клети, напогребицы. Не развернуться. У сараев сгрудилось два десятка драбов с ружьями-самопалами.
Навстречу Молвянинову вышел немолодой шляхтич. Кос-Малиновский соскочил с коня, потянулся с лобызанием. Это был Щасный Малиновский, державец замка.
Щасным – счастливым – он не выглядел. Бодро пушились одни усы, наплывавшие на сизые щёки и почти достигавшие тяжёлых подглазий. Во времена мирные были они предметом любования латышских жёнок из замкового предместья, на чьи полновесные бёдра сам Щасный поглядывал с полнокровным вожделением... Ныне растерянные и сердитые глаза Щасного откровенно тосковали – бес вас принёс, и что мне робить, я не ведаю! Письмо Полубенского давало некоторое успокоение; только имеет ли право пленник освобождать его, державца королевского, от присяги? Малиновский понимал, что не имеет, да вот поди ж ты: кому охота помирать?
– Пошто стрельцов отсёк? – рявкнул Молвянинов и двинул на Щасного коня.
– От гвалту, пане милостивый! Глянь, сколь тут немцев с самопалами. Стрельцы ли, немцы ли задерутся, я в ответе. Не гневайтесь, Панове, мы же вас в замок пустили по князя Александра письму. Слезайте с коней да погомоним за горелкой!
Мягкое «г» влажно и просительно перекатывалось на толстом языке Малиновского. Молвянинов упёрся было:
– Впусти стрельцов!
– Я их впущу. Ты их удержишь, покуда мы в горнице сидим?
Фёдор подумал и первым соскочил с коня. Детям боярским наказал: «С сёдел не сседать, сабли держать наголо!» Вдвоём с Михайлой они вошли в жилые горницы, где ждал их другой державец – Ян Бычковский, совсем уже старый человек, едва поднявшийся со скамьи. Стол был накрыт. Молвянинов уставился на блюдо с окороком, сглотнул слюну. Путь от Вольмара до Триката неблизкий, утром не ели... Щасный, великий любитель застолий, стал потчевать московитов и сам не отставал, торопясь залить последние сомнения.
Молвянинов, умягчившись сердцем, постановил:
– Нехай драбы оружие сдают, а у шляхты я сабель не трону. С Литвой у нас мир.
– Хорош мир, – проскрипел Бычковский. – Князь Полубенский не под пыткой ли грамоту до нас писал?
Этому старику (лет шестьдесят, прикинул Монастырёв) была, как видно, не страшна смерть. Он бы и в замок московитов не пустил, да Щасный забрал всю власть. Другие литовцы ни в осаде сидеть не захотели, ни московитам кланяться и подались на юг, к Ходкевичу. В замке остались драбы, которым не уплатили денег. Они сказали, что без денег не уйдут.
– Князь Полубенский, – веско ответил Молвянинов Бычковскому, – за государевым столом меды пил.
– Стало, купили, – буркнул старик потише.
– То дело совести князя Александра, – сыто откликнулся Молвянинов. – Наше дело – драбов разоружить.
Щасный был рад увести гостей во двор, покуда вздорный Бычковский не затеял свары. Но разоружить драбов оказалось непросто.
Они по-прежнему стояли во дворе замкового двора, только теперь их стало больше – к ним присоединилась стража со стен и башен. Монастырёва и Молвянинова встретил сомкнутый строй доспехов – побитых, небогатых, но заслуженных. Из-под козырьков железных шапок смотрели одинаковые, ослепшие от недоверия и ненависти глаза, похожие на ружейные дула. И дула, выразительные, как глаза. В первых рядах посверкивали копья – на случай, если дети боярские, игравшие саблями, бросят на драбов своих коней.
Щасный что-то сердито крикнул немцам. Те дружно завопили, зарычали, но в голосах их звучала не угроза, а какая-то скаредная обида. Как будто дети, не поделив игрушек, жалуются старшому – разбери нас... И тогда Михайло, всмотревшись в лица, исполосованные морщинами и шрамами, увидел, какие они по-разному несчастные и неприкаянные, измученные бездомьем и грязной работой. Немцами называли не одних выходцев из империи, с холодной истовостью защищавших собственную жизнь и отнимавших чужую по денежному договору; мелькали бледные и длиннолицые, с нежданной искрой веселья в незлобивых глазах шотландцы, черноусые и носатые французы, даже жмудины из Западной Литвы... Их объединяли обездоленность и искреннее равнодушие к заповеди «не убий».
Уж если они решатся убивать, им не придётся горячить себя, как простодушным детям боярским. По всей нечеловеческой науке, передаваемой от старших к младшим в ротах и полках, как в воровских ватагах передаётся преступный навык, они уложат достаточно детей боярских прежде, чем те достанут их своими саблями. Вдруг вздумалось Михайле, что такие люди, нанятые на деньги Батория, соберутся со всей Европы воевать Россию... Устоит ли перед ними дворянское и стрелецкое войско? Устоит ли он, Михайло, самоучкой навыкший махать саблей и вертеться на татарском седле? Стало не то что страшно, но неуютно, скучно.
– Чего они орут? – спросил он Щасного.
Всё оказалось просто: драбы жалели ружья. Они купили их на свои деньги и таскали по всем странам и войнам, как плотники не расстаются с заветными, своей заточки топорами. Ружья у драбов были дорогие, с пружинными замками. Русские называли их самопалами, их оставалось, запыжив пулю, вскинуть на сошки, спустить курок и ждать отдачи – сильного, но втайне дружеского удара в железную прокладку на плече (так девка, покуда у неё руки лоханью заняты, отбивает тебя крепким задком, но ты-то знаешь, что дверь в подклет она перед тобою не захлопнет). Сдашь самопалы, потом их у русских не допросишься.
– Пусть они пули да зелье отдадут, а самопалы – их имущество, – предложил Щасный.
Молвянинову не хотелось устраивать кровавую свалку из-за ружей. Но и оставить драбов вооружёнными без разрешения государя он не мог. Он отозвал Монастырёва:
– Скачи с поляками в Володимерец, доложи, что в замок нас впустили, а самопалов не отдают. Нехай Малиновский сам перед государем ответ держит. А я покуда стрельцов введу, по башням расставлю. С Богом!
Вновь запылила под копытами Вольмарская дорога. Испуганно выглянул из-за леса шпиль древнего костёла. Монастырёва и Малиновского сопровождала полусотня детей боярских. Копыта их коней бодро топтали чужую землю, отныне принадлежавшую России. Скоро во всех немецких замках, во вновь построенных церквах заголосят православные попы, на мызах будут введены московские порядки... Чистую душу Михайлы властно захватывал имперский зуд завоеваний, ему было весело сознавать, что и его труды легли в основу победы в этой почти бескровной войне. Погоняя боевого мерина резким свистом, он уже прощал государю-победителю то, что, стоя в ожидании казни на Поганой луже, поклялся не забыть даже в аду или раю...
...Царь приказал спросить Щасного Малиновского:
– Отчего драбы самопалы не отдают, али ты им не начальник?
Михайло, отдыхая, не слышал, что ответил Малиновский. В «Разрядах» записали невразумительное: «Мы не говаривали, чтобы не дать!»
– Гладит Молвянинов литву по шёрстке, – возмутился государь. – Послать туда кого позлее!
Нагой отправил в Трикат племянника Андрея с Игнатием Татищевым. На следующий день они донесли, что немцев и литву из замка вывели, казну переписали и самопалы у драбов отняли. Князь Полубенский составил ещё две грамоты – в Рауну и Смильтен. Они сдались ещё охотней, чем Трикат.
10
«Бывшему нашему боярину и воеводе, князю Андрей Михайловичу Курбскому.
Вспоминаю тебя, о княже, со смирением...»
Грозное вдохновение настигло Ивана Васильевича в Вольмаре. Победа воскресила в памяти больших и малых его врагов, и захотелось докричаться до каждого из них, доругаться по прошествии десятка лет.
Если князь Курбский и ждал ответа государя на своё второе, оскорбительное, письмо, то ныне перестал. Не поднималась у Ивана Васильевича рука писать, покуда невесёлые дела в стране подтверждали пророчества врагов. Но вот он в Вольмаре, где Полубенский принял и перебежчика Тетерина, и князя Курбского, в этом гнезде измен и провокаций, и Полубенский по его слову грамотки пишет, сам себя загоняя в яму или под расплавленный свинец, а Тимофей Тетерин, прикусив язык, более ядовитый, чем у князя Курбского, дрожит в походном таборе Ходкевича за Даугавой... Но раньше надо разобраться с князем.
«Аще и паче числа морского беззакония мои... яко же и ныне грешник я, и блудник, и мучитель!» Отчего самоунижение так сладко перед тем, как с языка стечёт самая горькая укоризна, убийственная для врага? Вот она: «Писал еси, что я растлен разумом... Вы ли растлены или я, что я хотел вами владети, а вы не хотели под моей властью быти и я за то на вас опалялся?»
В казнях виноват не царь, а те, кто вызывает его священный гнев!
На этой здравой мысли и следовало бы построить грамоту – краткую, как удар копья. Но вспоминается проклятое письмо, обиды увлекают в частности и понуждают отвечать на мелкие уколы Курбского. Случалось ведь, что Иван Васильевич в своём дворце не государем чувствовал себя, а приживальщиком. Вырвалось: «А Курлятев почему меня лутче? Его дочерям всякое узорочье покупай, а моим дочерям проклято да за упокой. Да много того. Что мне от вас бед, всего не исписати». Дочери у Ивана Васильевича умерли в младенчестве, Курлятев тут ни при чём. Но он не вычеркнул упоминание о дочерях – так показалось складно, жалко...
Если на слово не надеть узду, оно летит беспутно, увлекая в бездорожье, в грязь. И вот уже никак не отказаться от обвинений, вздорность которых очевидна: «А и с женою вы меня почто разлучили?.. А будет, молвите, что я о том не терпел и чистоты не сохранил, ино все мы человеки. Ты чего для поял стрелецкую жену?»
Нагой сказал бы: государь, остановись – при чём тут стрелецкая жена и блудни давних лет? Ты о высоком писать хотел, о своей победе и торжестве над князем... Никто не решился выбросить ненужных слов из государева письма. Они ложились на бумагу слюнными брызгами, осадком тяжкого дыхания, вылетавшего из самой глубины его изболевшейся груди.
Он сам вернулся в колею: «И я досады стерпети не мог, за себя есми стал. И вы начали против меня болши стояти да изменяти, и я потому жесточайши почал против вас стояти». Вот и опричнина объяснена. Само самодержавство вещало из уст его, и он не сдерживал себя, как не смиряют воплей своих вдохновлённые свыше пророки. Всякое его слово – свято!
Самодержец должен побеждать. Ведь для того и нужна безраздельная власть над народом, ради того он и покоряется ей, чтобы одерживать победы. И вот пришла победоносная война. «Сего ради трость наша наострилась к тебе писати. Якоже говорили вы: «Нет людей на Руси, некому стояти». Ино вас нет, а ныне кто претвёрдые грады германские взимает?» Победитель не может быть не прав, иначе – почему он победитель?
«Писан в нашей отчине Лифляндской земле, во граде Волморе, лета 7086, государства нашего 43, царств наших: Российского – 31, Казанского – 25, Астороханского – 24». Не дата – очерк новых границ российских и побед. Соображай и кайся, князь!
Осталось отхлестать словесами Тимоху Пухова, он же Тетерин, бывший стрелецкий голова со слишком бойким языком, за что и сослан был в Антониев Сийский монастырь.
Оттуда он бежал в Литву, задев Ивана Васильевича и боярина Морозова прощальным письмом: ты, воевода, сидишь в Юрьеве, как в тюремной стрельнице, и ждёшь, когда тебя казнят... Хочешь, чтобы и я ждал того же? Образ тюрьмы-стрельницы получился многослойным, вся Россия – такая стрельница... Поскольку юрьевский наместник Морозов вскоре действительно был казнён, хлёсткое сравнение Тетерина запало многим. Он раньше князя Курбского обосновал право гонимого бежать от деспота.
За это право приходится платить бездомностью, страхом перед преследованием долгорукого царя и – изменой. Тетерин вместе с Полубенским обманом взял Изборск. Иван Васильевич напомнил ему для сравнения, «каковы грамоты привозил к нам от Андрея от Шеина» в начале победоносной Ливонской войны. «А ныне вам пригоже нас туто дожидатися, и мы б вас от всех ваших бед упокоили. А нечево к тебе, страднику, много и писати».
В ту осень в Вольмаре не только скрипели перья, но и звенели чаши. На пир победителей были званы и уцелевшие немцы прощённого Магнуса, и особенно поляки и литовцы, державцы замков, без выстрела открывшие ворота русским. Застолье на берегу задумчивой Гауи было подробно описано князем Полубенским.
Его и замковых державцев посадили на подушки перед царским столом, рядом с Симеоном Бекбулатовичем и царевичем Иваном. Поодаль разместились бояре-воеводы, а на ковре – отличившиеся головы дворянских сотен и стрельцов.
В начале всякого застолья Иван Васильевич подчёркнуто соблюдал обычаи. Преломив хлеб, он передал куски литовцам, заслужившим его особенную милость. Затем им были поданы кубки с заморским вином, после него – горелка. Слуги внесли два блюда с фаршированными лебедями. Иван Васильевич собственноручно разрезал их и, приговаривая удовлетворённо: «Я тут, в Инфлянтах, лебедей нашёл», велел подать кусок Полубенскому. Кос-Малиновский, Щасный, Соколинский получили начинку от лебедей и курицу в шафране.
Шатёр с распахнутым входом стоял на том же высоком берегу, что и Вольмарский замок. За Гауей по волнистой низине разливались робко желтевшие леса, а ближе так же робко дымила очагами ожившая слободка рыбаков. Страна казалась умиротворённой. Правда, вчера казнили ещё полсотни немцев, пытавшихся бежать на запад... Однако с их господством Иван Васильевич решил покончить не одной жестокостью: все мызы, принадлежавшие гофлейтам и юнкерам, были переписаны для раздачи русским дворянам. Если Литва смирится с этим, он сохранит с нею мир.
Вытерев пальцы узорчатым платком, он сказал Полубенскому:
– Я с государем вашим заключу договор об Инфлянтах, как пристойно будет. Чаю, он не останется в обиде.
Меньше всего желавший говорить от имени Батория, князь только молча поклонился. Державцы тоже чувствовали себя стеснённо, покуда вино под курицу в шафране не развеселило их. Подали мёд. У входа вольно расположились музыканты с бубнами, трубами и сурнами. От стола бояр донёсся сытый хохот Богдана Бельского и тенорок Нагого, по посольскому обычаю не забывавшего и за столом толковать о деле. Он почему-то оборачивался к Полубенскому и поощрительно кивал ему.
Князь Александр Иванович надеялся, что уж теперь-то государь и присные оставят его в покое: он расплатился с московитами сполна. Плохо он знал Ивана Васильевича.
Тот, захмелев, по своему обычаю пел псалмы под плясовую музыку, отбивая такт ложками. Благо, что не по головам певчих, как на свадьбе Магнуса... Внезапно до Полубенского донёсся его нарочито просительный оклик:
– Князь! Ты бы ямскую службу исполнил ради меня?
Ямская гоньба служила, кроме прочего, для перевозки писем. Александр Иванович заранее скорчился, вообразив, как станет вручать королю Стефану высокомерное послание царя-победителя.
– Отвези грамотку свояку, – огорошил Иван Васильевич Полубенского.
Тот не вдруг сообразил, о ком речь. Потом вздохнул облегчённо. У князя был двоюродный брат, Александр Андреевич Полубенский. Он и князь Курбский были женаты на сёстрах. Иван Васильевич ещё повеселился по поводу второй женитьбы Курбского, затем огорошил Полубенского задачей:
– Ты во сколько ценишь себя, князь?
Он всё-таки не примирился с таинственным исчезновением казны из Вольмарского замка. Оценить себя человеку трудно, особенно если самому приходится платить. Какую сумму назвал Полубенский, осталось неизвестным, а панам радным отчитался так: «Я принуждён был оценить себя. Меня оценили в 16 тысяч золотых, да к тому ещё прибавил великий князь, чтобы я выкуп ему послал не весь наличными деньгами, а лошадьми, щитами, шишаками».
Пир завершился торжественной раздачей подарков и наград. Первыми снова жаловали литовцев, богаче прочих – князя Полубенского: слуга накинул ему на плечи дорогую шубу, крытую зелёным бархатом и золотым шитьём – «цветами»; Иван Васильевич своей рукой подал князю золочёный кубок с четырьмя крупными яхонтами по граням. Ни Александр Иванович, ни прочие державцы, тоже получившие шубы и кубки, нигде о них не упоминали, но они были отмечены в Разрядной книге, ибо казна государева любила счёт.
Затем награды получили дворяне и дети боярские, отличившиеся в мирном взятии последних замков. Михайле Монастырёву пожаловали на шапку золотую новгородку, для пропитания – мызу на полпути меж Вольмаром и Венденом, для честной службы – назначение в Вольмар, головой над детьми боярскими.
Михайлу не обрадовало назначение. Он торопился на родину, хотел заняться своим имением в Шелони, подумывал о невесте... Нагой сказал, что Михайло нужен здесь, в Ливонии: «Чтобы ты меня без вестей не держал, как обернётся тут после нашего ухода. А я тебя милостями не оставлю...» При мызе числилось двести четвертей средней земли, самый малый оклад. С поместьями в Ливонии случилась такая неувязка: по бумагам жаловали триста – четыреста четвертей, а временно давали сто – двести, с припиской к жалованной грамоте: «Больше покуда невозможно дать». Разочарованный Михайло сидел на обрыве неподалёку от шатра, смотрел на Гаую и вспоминал, как впервые поразило его её тополиное серебро... До него слабо донёсся уже не очень твёрдый, но звучный голос государя, напутствовавший литовцев:
– Скажите королю Стефану, что я желаю мира, а рука моя высока!







