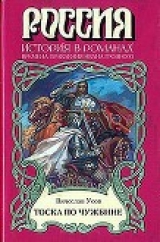
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
3
Диспут о вере с пастором Куконоса, города-замка на полпути от Режицы до Риги, разгорелся не случайно: Иван Васильевич давно искал случая нанести немцам не только военное, но и духовное поражение, подкрепив строительство церквей словесным торжеством православия. Он знал, что Лютерова ересь – Реформация опалила империю именно пожаром диспутов, в которых протестанты одерживали верх над католиками. Иван Васильевич был убеждён, что диспут даст ему возможность показать немцам победоносную истину православия, единственно верного учения.
Его приподнятое настроение питалось и военными успехами: восьмого августа войско достигло Даугавы и самого крупного на ней, не считая Риги, города – Динабурга. Границу по Даугаве между литовскими и русскими владениями Иван Васильевич признавал и соблюдал. Войсками в Динабурге командовал поляк Соколинский, ближний человек князя Полубенского. Как шли переговоры, осталось неизвестным, но город Соколинский сдал охотно.
От Динабурга двинулись по долине Даугавы, к Риге. Без боя сдался замок Лаудон. Заминка в Чиствине стоила жизни нескольким немцам, их жестокая казнь утолила гнев Ивана Васильевича, а лёгкое взятие Берсона вернуло расположение. Двинувшись к Куконосу – Кокенгаузену, – он отрядил вперёд Фёдора Елизаровича Ельчанинова проведать, что делается на Рижской дороге. Уже совсем недалеко от Риги стоял городок Крейцбург. Ельчанинов увидел горящее предместье, завалившиеся ворота и убегавших жителей. Здесь побывал отряд князя Трубецкого. По донесению Ельчанинова, стена старого города развалилась от жара, а в новом замке дома сгорели, мост и кровли обрушились... Дорога на Ригу была чиста.
На стане перед Куконосом, посреди неоглядной равнины, тяготевшей к Даугаве, уже могуче раздвигавшей берега, к царю явился пастор. На священников в русском понимании он мало походил. Его скорее следовало называть вероучителем, наставником – так просты были его одежда, речь и поведение. Но то, что он явился просить царя не разорять город, даже если бюргеры не сразу уговорят литовцев сдать его, показывало его духовную власть над жителями и их доверие к нему. Ведь пасторов у лютеран не назначают сверху, а выбирают из прихожан. Во всяком человеке, утверждал Лютер, довольно искры Божьей, чтобы стать священником. Служба у них проста.
Иван Васильевич воспользовался случаем. Пастор был приглашён в шатёр, накормлен и утешен, диспут же начался как бы нечаянно, однако при достаточном стечении народа – русских, пленных немцев и литовцев, прибившихся к войску торгашей и немногих посадских Куконоса, решившихся сопровождать пастора.
Иван Васильевич был, разумеется, знаком с основами Лютеровой ереси. Он сердцем чуял в ней опаснейшего, худшего врага, чем католичество, – врага не только православия, но самого порядка жизни на земле, основанного на вечном распределении людей по трём сословиям: одни воюют и господствуют, другие молятся, а третьи пашут землю и занимаются рукомеслом. Их уравнение есть разрушение власти, значит, путь к погибели. Ибо как ни возглашай равенство, жизнь всё равно разделит людей на сильных и слабых, хитроумных и простодушных, и уж тогда никто не защитит слабых и простых – безвластие!
Лютер, возразил пастор, не говорил, что люди равны по способностям, но они равны перед Богом, а следовательно – в правах. По поводу священства: католики считают, что у священника всегда в запасе так называемая благодать, он может наделять ею других, связывая их с Богом. Откуда у священника благодать? Разве её можно передавать друг другу рукоположением, словно наследственное богатство? Читать же Евангелие может всякий, оно переведено Лютером на немецкий. Кто постигает его, тот может толковать его по-своему, лучше священника. Разве не случается у вас, православных, что поп глупее прихожан?
Иван Васильевич изволил засмеяться. Это бывает, что поп глупее. У нас в каждом приходе найдётся с десяток прихожан умней попа. О своих богомольцах он уж не говорил... Стяжатели и умственные ленивцы. Это не значит, что православие дурно, просто люди такие подобрались. А были – Иосиф Волоцкий, Максим Грек, митрополит Филипп, Геннадий Новгородский... Он намеренно перемешал иосифлян и нестяжателей, единым православным строем выставив их против немецких ересей... Он был доволен началом диспута – пастор не замкнулся в страхе перед царём, показал коготки. Иван Васильевич направил диспут в выгодное русло.
В кирхах, заметил он, отменены молитвы и таинства, кроме крещения и литургии. Но ведь обряды, даже если от нас сокрыт их глубинный смысл, соединяют души с Богом. Как это происходит, нам неизвестно, в мире много тайн. Какие у Лютера зацепки – замахиваться на основы веры, завещанные от первых христиан? Христос молился, ветхозаветные и новые пророки свершали таинства перед ковчегом, возносили жертвы... Люди всегда стремились соединиться с Богом в тайном действии.
Пастор ответил, что Христос не возносил молитвы в нашем понимании, а только просил избавить его от страданий, да и то тщетно. Пышные службы нужны не для единствования с Богом, а ради возвышения священников над мирянами. Богу же надо служить в скромности, Лютер призвал к дешёвой церкви...
Последние слова нашли внезапный отклик у русского царя. Сколько он греха на душу взял, чтобы сделать Русскую Церковь дешёвой! Ему ли не понять Мартина Лютера?
– Без службы с пением и общей молитвы, – произнёс он тихо, – не холодно на душе?
– В кирхе Евангелие читают... И поют.
– Какое это пение! Козлогласие.
Русские расхохотались, а когда толмач, с трудом подбирая слова, перевёл, немцы и пастор как-то одинаково усохли ликами и опустили глаза. Они показывали, что бессильны перед глумлением, но готовы пострадать. Их молчаливое сопротивление впервые шевельнуло то злое, нетерпимое, что вечно, словно полусонный зверь, жило в Иване Васильевиче.
– Вы признаете Вселенские Соборы? – спросил он строго.
– Мы признаем одно Евангелие.
– Какое? Сколько?
– Их четыре...
– Их множество! Но на Соборах были избраны четыре. Как вы можете не признавать Соборов, а читать только признанные ими Евангелия?
Пастор озадаченно молчал. Но Иван Васильевич недолго радовался своей ловушке. Бес гордыни увлёк его в область, где православие и католичество возвели за тысячу лет громоздкое и запутанное строение – пантеон святых. Почему Лютер их не признает? Он ведь считает, что вера – в деянии! Вся их жизнь – деяние.
Немецкий пастор сдержанно объяснил, что, почитая угодников и деятелей древней Церкви, не следует приписывать им чудесных способностей. Особенно странным кажется ему учение о мощах, а уж если собрать по церквам все обломки креста, на котором был распят Спаситель, можно построить дом... Тут засмеялись немцы – раньше, чем толмач справился с переводом. У Ивана Васильевича свирепо отекла нижняя часть лица – верный признак близкого бешенства. Пастору это было невдомёк.
Он продолжал:
– Апостолы толковали слова Христа. Мы полагаем, что и нынешний человек может толковать их по своему разумению, не соглашаясь с отцами Римской церкви. Господь дал человеку разум, чтобы он думал, а не за него думали. Конечно, одной веры в воскресение Христа довольно для спасения, но мысли человеческой нужна свобода. Те же, кого вы называете святыми, могли ошибаться, как люди. Бог не дал права одним людям господствовать над душами других!
– А над телами? – вкрадчиво спросил Иван Васильевич.
– И над телами! – восторженно откликнулся пастор. – Человек ценен сам по себе. Не исполнение обрядов, а достойная жизнь служит спасению!
Его недаром избрали пастором бюргеры Кокенгаузена: они из поколения в поколение вырабатывали и передавали этот взгляд на жизнь как на свободный и честный труд. Пастор был из их числа, он только глубже других воспринял общие мечтания.
– Что ж, разве государь не властен над телами и душами подданных? – пророкотал Иван Васильевич, сдерживаясь из последних сил.
– Не властен!
Вот за что он ненавидел Лютерову ересь: она перекликалась с ересью жидовствующих новгородцев[21]21
...с ересью жидовствующих новгородцев... – Жидовствующие – новгородско-московская ересь – движение конца XV – начала XVI в. в Новгороде и Москве. Отрицала авторитет Церкви и церковные обряды, отвергала многие догматы православия. Сторонники ереси использовались Иваном III в борьбе с боярством и Церковью; с укреплением самодержавной власти подверглись гонениям.
[Закрыть], с дерзким и путаным учением, созревшим при его деде и отце в среде посадских. Иван Васильевич верно угадывал, где смыкаются западная и восточная ереси, как опытный воевода определяет «причинные места» на стыках стен и башен вражеской крепости.
– Смел же ваш Лютер, если берётся спорить со святыми, – начал он заключительную разгромную речь, после которой всякому станет ясно, какое опасное заблуждение – лютеранство.
Он приостановился, ожидая той минуты хищного взлёта, когда, по многолетнему опыту, доказательства и убийственные насмешки извергаются как бы сами собой, черпая из его перегруженной памяти именно то, что нужно. Ближние люди знали, что теперь надо молчать и долго-долго слушать. Пастор не знал.
Приняв вступление царя за новую подначку к возражению, он заявил:
– Я бы сравнил Мартина Лютера с апостолом Павлом, исходившим всю Грецию и Иудею, после чего в «Послании к римлянам»...
Глаза Ивана Васильевича налились не кровью – чёрной желчью. Всё крупное, тяжёлое в плечах и животе тело его передёрнула судорога бешенства, а резко задрожавшая рука, окованная перстнями, зашарила у пояса. На поясе был нож, Иван Васильевич не расставался с ним в походе. Но что-то задержало его руку, притворившуюся – почти безотчётно, но вовремя, – будто ей не разомкнуть упора, удерживавшего в ножнах лезвие. И так же бессознательно рука рванулась в сторону, пальцы растопырились в болезненной, голодной мольбе, связки меж ними растянулись, как перепонки на лягушачьей лапе, вот-вот порвутся: дай! дай!
И Афанасий Фёдорович Нагой вырвал из-за пояса оружничего нагайку, сплетённую из тонких ремешков, с костяным грузиком на конце, и сунул замусоленную рукоять в страдающую, жаждущую руку.
Нагайка перехлестнула лицо пастора, прилипнув к нему на мгновение, как к потному крупу жеребца.
Он отшатнулся и разинул рот – взвыть или плюнуть в лицо царя-варвара... Нагой только глянул страшными глазами на Богдана Бельского, единственного, кого не окостенил государев гнев. Тот схватил пастора за узенькие, неподатливо съёжившиеся плечи и вышвырнул из шатра. Над табором разнёсся крик царя:
– Пошёл ты к чёрту со своим Лютером!
Хронист занёс в свои анналы и этот крик, царское слово не пропало втуне, а полетело над Ливонией, как верещание сокола...
Свидетели рассказывали после, что царь «едва не убил» пастора. Что ж, мог убить... Если бы захотел. Ангел-хранитель удержал его в самое беспамятное мгновение, ибо убийства пастора ему ливонцы не простили бы. У царских ангелов-хранителей – державный ум. А через несколько минут за войлочным пологом шатра послышались крики сторожей и конский топот.
В боевой табор явился посланец принца Магнуса князь Иван Белосельский в сопровождении Михайлы Монастырёва и Рудака. Письмо и вести, привезённые ими, были так важны и ошеломительны, что о пасторе забыли, и тот, тихонько плача, убрался в Кокенгаузен.
4
«Я, король Ливонии, взял под свою руку Венден и послал своих людей взять Кокенгаузен...»
Перечисляя замки, занятые им в Ливонии, Магнус давал понять, что немецкий тыл его крепок, население надеется на него и готово отстаивать свои суверенные права. Замки действительно сдавались Магнусу легко, немцев и многих латышей охватило и боевое и верноподданное воодушевление, мызники и гофлейты заметались по стране, торопясь внушить забытые надежды возможно большему числу людей и затащить их в Магнусово войско. Принц становился силой – своенравной и неуправляемой.
Он засел в Вендене. Оттуда по стране рассыпались гонцы. Суть его воззваний сводилась к тому, что у литовцев мало сил для обороны от Москвы, русские хуже литовцев, а стало быть, надо поддерживать третью силу: он, Магнус, может опереться не только на русского царя, но и на императора Максимилиана, и на Данию. Если все замки откроют ему ворота, царь остановит свой опустошительный поход, и Ливония мирно оживёт под рукой короля-немца.
В письме к царю, однако, чувствовалось и опасение, принц не хотел полного разрыва с московским владыкой. В знак верности он приказал капитану Боусману отпустить пленных русских лазутчиков, а Белосельского просил внушить царю, что Магнус остаётся верным его слугой. Михайло в свой черёд поведал, что вся Ливония, где он ни побывал, в руках немецких, а не литовских гарнизонов. Исключение составляли Вольмар и Трикат. Уже и суд вершится именем Магнуса, все ждут его прихода. Русских боятся и не ждут. Когда они ехали в русский табор, их обогнало несколько десятков гофлейтов, направлявшихся в Кокенгаузен. Магнус и тут опередил царя.
В царском шатре собрались Фёдор Михайлович Трубецкой – дядя воеводы Тимофея, всё ещё гулявшего по Инфлянтам, Иван Петрович Шуйский, Никита Романович Юрьев и Афанасий Фёдорович Нагой. Рядом с отцом сидел царевич Иван Иванович. Всем этим людям царь доверял и в трудную минуту по-деловому спросил их мнения: решалось направление похода, возможно – исход войны.
Одно – ежели у тебя в тылу стоят союзники, которые заставят местных жителей возить под Ригу пропитание для войска, а вероятных противников отсекут; другое – когда союзник оборачивается врагом. Никто теперь не мог предугадать поведение немцев, едва ослабнет давление русских войск. При движении на Ригу русским угрожали: с севера и востока – Магнус, готовый перекрыть пути подвоза, и Ходкевич, затаившийся за Даугавой. По сведениям разведки, совпадавшим с вестями Полубенского, полк Ходкевича насчитывал четыре тысячи драбов и конной шляхты, воинников отборных и обученных. Ближе к Риге стоял с неведомым числом людей Христофор Радзивилл. Сговорятся они с Магнусом, отрежут русским обратный путь, особенно если осада Риги затянется до поздней осени, зажмут между враждебной Ливонией и неприступными стенами... Общее мнение записали так: «Король Арцымагнус учинил не гораздо через договор». На этом основании – отказать ему в признании власти над городами и замками, а считать их «псковскими пригородками».
Их ещё предстояло взять. Счёт полетел на дни. Двадцать восьмого августа к Вольмару была послана разведка и воротилась с ценным вязнем – гофлейтом Магнуса, вёзшим его грамоту в Ерль. Содержание грамоты было уже не ново, зато гофлейт без пытки рассказал, что Магнус отправил капитана Боусмана из Вендена – занять Вольмар. С Боусманом пошли восемьдесят человек. Немного, если учесть, что в замке Вольмара засел сам Полубенский, на дух не выносивший Магнуса. Но в посад Боусман войдёт, бюргеры его впустят и помогут при осаде замка.
Сразу стало не до Риги. Иван Васильевич даже в Кокенгаузен не заехал, послал туда Мустафу Будалея с татарами. Те изрубили Магнусовых гофлейтов и взяли из жителей полон, какой им приглянулся. Полки же повернули на север, к Вендену, безвозвратно оставляя распахнутую, манящую на запад Даугаву.
Магнусу государь послал ответ через того же безотказного Ивана Белосельского: «Прислали к нам твои люди, а того неведомо, хто имянем писал твою грамоту; и в твоей грамоте писано, что тебе сдались: город Кесь, город Нитов, город Шкуин... городок Кокенгауж. И по той твоей грамоте, сложась с нашими недруги, нашу вотчину отводишь; а которая у них казна, и ты тое казну у нас теряешь; а как еси был у нас во Пскове, и мы тобе тех городков не поступывались, одну есмя позволили доставать Кесь (Венден), да те городки, которые на той стороне Говьи-реки... А и сами в твоих городках будем; а денги у нас и сухари, каковые случились, таковы и везём; а будет не похочи нас слушати, и мы наготове, а тобе нашу вотчину отводить непригоже. А будет тебе не на чем на Кеси сидеть, и ты поди в свою землю Езел да и в Датцкую землю за море, а нам тобя имати нечево для, да и в Казань нам тобя ссылати – то лутчи; только поедешь за море, а мы с Божьей волей очистим свою вотчину Лифлянскую землю и обережём».
Монастырёв остался в государевом полку. Нагой теперь не отпускал его, даже ночных отлучек не одобрял – ты-де понадобишься вскоре, у какой латышки тебя искать? Подробно расспросив о Полубенском, решил: «Будет наш!» Но настроение у Афанасия Фёдоровича было пасмурным: кончалось лето, скоро дороги развезёт дождями, а Риги и близко не видать. Всё могло быть иначе, если бы не проклятый Магнус.
В ближайшем окружении Нагого появилось новое лицо – Станислав Соколинский, бывший комендант Динабурга, куда он был назначен Полубенским по давней дружбе. Сдав замок русским, он, видимо, готов был к новым услугам. Монастырёву трудно было относиться к нему с приязнью, но Афанасий Фёдорович намекнул, что в скором времени им, может быть, придётся трудиться вместе, так что лучше сойтись. Во время долгих переходов Соколинский развлекал новых друзей рассказами о литовских делах и короле Стефане Батории. Он Обатуру, подобно большинству литовцев, не любил.
Тем ценнее было его признание, что король Стефан – человек образованный, закончил университет в Падуе, и в то же время решительный и умелый воевода. Он знал немецкий, французский и латинский языки, но польского, тем более литовско-русского, не знал. Канцлеру приходилось переводить его речи, что раздражало шляхту. В высших кругах стали изучать латынь. А врач у Обатуры – итальянец, антитринитарий, то есть еретик, не признающий троичности Бога. Баторий незлопамятен – Литва целый месяц после коронации не признавала его, но магнатам не мстил. В частных же разговорах Баторий твёрдо обещает, вернувшись из-под Гданьска, заняться подготовкой к войне с Московией.
Нагой внимательно слушал Соколинского. На краковский престол сел неглупый и опасный правитель, на уме у него – война. Надобно упредить его в Инфлянтах, покуда не воротился из-под Гданьска, закрепиться в городах и замках.
На подходе к Вендену из разных полков было выделено две тысячи шестьсот детей боярских и стрельцов. Их под командой Богдана Бельского и Деменши Черемисинова отправили к Вольмару с таким наказом: «Индрика Бушмана (Генриха Боусмана) и немцев переимати и самим ехати в город, а мелких людей побита, оставити Бушмана и иных от равных. Да и к Полубенскому послать в вышгород (замок), что царское Величество милость ему покажет и к королю его отпустит, и он с ними бы не бился, а к ним бы из вышгорода вышел, а как Полубенский выйдет, приставить к нему пристава, и нужи бы ему не было никоторыя; а которая его казна будет, и ту бы казну у него поимати, да и лошади добрыя... А не будет Полубенского в городе, и им у Володимерца (Вольмара) не стоять, ехати к государю. А буде учинится Богдану и Деменше весть, что Полубенский вёрстах в 20 или в 30, и Богдану и Деменше со всеми людьми за Полубенским гонять, чтоб дал Бог угонить». Поимка князя Александра больше занимала государя и воевод, чем взятие Вольмара.
На следующий день, когда войска уже расположились на подступах к Вендену, от Бельского пришла «посылка»: «Прислали к государю, чтоб государь велел к ним прислати, кто знает Полубенского в рожу».
В лицо Полубенского знали многие пленные, но Соколинский собственным примером лучше других мог внушить вице-регенту, чего от него ждут. Приставом к Соколинскому назначили Монастырёва. В тот же вечер они ускакали на север, к Вольмару.
5
От Вендена до Вольмара – примерно десять немецких миль или пятнадцать – двадцать вёрст хорошо укатанной дороги. Капитан Боусман явился под городские стены вечером двадцать седьмого августа. После недолгих переговоров бюргеры отворили ему ворота предместья. Вечернюю службу он отстоял, вернее – отсидел, по лютеранскому обычаю, в церкви Симона, напротив замковых ворот. Они были на запоре, но мост через ров опущен, что выдавало неуверенность литовцев. В замке засели ещё и немцы, превосходившие их числом.
Откосы серебристой Гауи и правый борт долины впадавшего в неё ручья затрудняли подходы к стенам. Единственная слабина – ворота перед соблазнительно опущенным мостом. Из верхних окон церкви Симона можно стрелять в замковый двор, да и ворота с надвратной башней не устоят перед прямыми ударами ядер. Во времена строительства Вольмарского замка пушек в помине не было.
Но и у Боусмана не было тяжёлых пушек. Зато были союзники среди защитников замка, глухо раздражённые службой под началом жестокого и вздорного Полубенского. Но главная надежда была на бюргеров, ненавидевших князя за поборы и за то, что он литвин. Отдавшись под покровительство Речи Посполитой, жители Южной Ливонии ожидали более действенной защиты от Москвы, больших свобод и меньших затрат на содержание литовских войск. Уход Ходкевича за Даугаву вызвал у них такое возмущение, что литовцы стали опасаться за свои жизни. И Полубенский укрывался в замке уже не только от русских, но и от немцев и латышей.
С утра двадцать восьмого августа у церкви Симона собрался народ. Со стены замка, где Полубенский встретил тревожный рассвет этого несчастного дня, видно было, что большинство собравшихся вооружены: кто пикой, кто дедовским мечом, а больше боевыми топорами и ручницами-пищалями. По прилегавшим улицам рыскали конные гофлейты Боусмана, князь даже оценил примерно их число – сто семьдесят. В принадлежавших литовцам городских домах остались слуги. Гофлейты убивали их. Число убитых – сорок шесть – князь Полубенский, вероятно, преувеличил ради сгущения красок. Из церкви вышел пастор. Он долго говорил, но явно не о христианских добродетелях, из коих главные – смирение и любовь. После его речей на церковную башню полезли люди с ручницами и тяжёлыми пищалями.
Жилые строения бурга – почти двухэтажные, с высокими мезонинами. Слева от главной улицы дома строились в неуставной близости к замковому рву. И на их крутые крыши залезли стрелки, в нетерпении обрушивая черепицу на головы толпившихся внизу. У Полубенского чесались руки – вдарить во всю эту немецкую толоку железной сечкой. Но пушкарями в замке служили немцы. Он не решился дать им такой приказ. «Станут подламывать ворота – вдарим», – неведомо кому пригрозил шляхтич Голубь. Он крикнул вниз, чтобы подняли наконец мост через ров. С подъёмным механизмом тоже управлялся немец. Цепь на зубчатом колесе заело.
Выстрелы из церковных окон согнали со стены и пушкарей и драбов. Князь Полубенский вспомнил, что в недрах северной стены, над глухим овражным склоном, есть потайные воротца, не открывавшиеся сотню лет. Он велел сыскать кастеляна и вместе с ним спустился по истёртой кирпичной лесенке в нижний ярус угловой башни. Сопровождал их Голубь с факелом.
Строили рыцари на совесть и с выдумкой. Живя среди враждебного народа, готовились к опасным неожиданностям. Потайной ход был укрыт слабой кирпичной кладкой. Её раскидали, хитрый запор у железной дверки разбили клевцами и воротились на свои посты.
Здесь дело приняло тяжёлый оборот. Когда стоишь в крестьянской одежонке под замковой стеной и с робостью рассматриваешь валуны, будто подземным жаром сплавленные с плитняком и грубым цементом, она действительно выглядит непробиваемой. Но ежели за дело возьмутся мастеровитые ребята, знакомые с железом и огнём, зубилом и деловым топором, рукотворное строение может затрещать и без пушек. В нижних бойницах башен были вмурованы решётки. Их стали выламывать железными шкворнями. Конечно, взломщиков было легко перестрелять. Но немцы в замке и даже литовцы стрелять опасались, затягивая время и призывая к миру, что должен был по чину делать пастор. Тот, напротив, благословлял стрелков и взломщиков, только что сам не хватался за ручницу.
Решётки выломали зря – в подошвенные бойницы мог пролезть разве отощавший ребёнок. Наступили сумерки. Бюргеры и гофлейты стали швырять факелы и горшки со смолой под ворота. Те лишь снаружи были обиты железными листами, основа – деревянная. Сухие брусья затлели, засов треснул от жара. Ворота выдержали удары брёвнами, но расшатались. Всем было ясно, что к утру гофлейты ворвутся в замок.
Дальнейшее поведение Полубенского, туманно описанное им самим, настолько далеко от рыцарского идеала, что ему можно доверять. Вице-регента спустили на верёвке прямо под ноги капитану Боусману. Князь уверял, что его «взяли на слово»; он же воспользовался ночными переговорами, чтобы сохранить свою казну. Договорились, что гофлейты не станут разорять защитников замка, убивать и бесчинствовать. Боусман имел приказ – доставить князя Полубенского Магнусу, а замок занять без крови. Ещё Полубенский пишет, что был ранен в руку при разрыве орудия. Но это уж придётся оставить на его совести. Наутро он проявил слишком большую для раненого резвость.
Боусман тоже не забывал о войсковой казне литовцев. Её оценивали в сорок тысяч гульденов. Судьба её после захвата замка немцами осталась тёмной, тем более что Боусман через неделю уже ни в чём не мог признаться даже под пытками.
Одно сомнения не вызывает – ночью, во время пирования, он князя не к мёду посадил, а в башенный подвал. Наверно, победители немало выпили за здравие короля Ливонии. Князю оставалось скрежетать зубами и клясться посчитаться с Генрихом «за контемпт и луп», то есть за бесчестье и грабёж. В высокое оконце, забранное решёткой без слюды, свободно тёк рассветный ветерок с кисловатыми запахами замкового двора. Перебивавшее его сырое дыхание Гауи было слаще пивного сусла... Князь помнил тропку вдоль ручья к песчаным плёсам, а дальше – на дорогу в замок Трикат. Боусман не знал о потайных воротцах.
Побег остался бы пустым мечтанием, если бы утром, холодным и похмельным, сонные вольмарские сторожа не увидели бесчисленных – так показалось – войск на Венденской дороге. То подходили конные сотни и стрелецкий полк Бельского и Черемисинова.
Боусман оказался в более трудном положении, чем Полубенский. Долг коменданта призывал его в Венден. Пленник и его казна требовали особого присмотра, их тоже следовало доставить Магнусу. Оборонять разбитые ворота Вольмара со ста семьюдесятью гофлейтами против нескольких тысяч русских – занятие сомнительное. В конце концов, за Вольмар отвечал теперь Юрген Вальке, присягнувший королю Магнусу. А русские разъезды отсекли дороги, ведущие на юг и запад...







