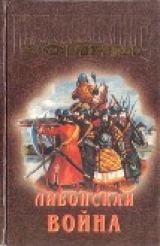
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 54 страниц)
Февраль отпуржил, отгремел в студёные литавры и унёсся на своих белых ветрах, оставив под заборами, под избами, в затинах, в тупичках и тесных московских закоулках белые, вспухшие сугробы, похожие на сдобные хлебы.
Март, будто выбравшись из-под стрех после вольготного зимовья, сразу же напустил тепла, и в одну неделю пышная сдоба сугробов опала, ужалась, стала серой и чёрствой. Под ногой захлюпала сизая, как простокваша, жижа, а по крышам, на водостоках, поссучились тугие водяные жгуты, принявшиеся хлестать землю длинными, расчаленными концами и смывать с неё эту сизую жижу.
В Китай-городе: на Никольской, на Варварке, на Ильинке, в Зарядье – на Великой улице, поочистились от снега мостовые и вновь подставили свои чёрные шершавые хребты под неугомонное шарканье подошв.
Заблестели над Кремлем купола, пообтаяли венцы стрельниц и перевясел, их чёрная мережка наложилась на белые стены соборов, сгрудившихся под блестящими куполами, свисающими с неба как громадное паникадило.
Зима отступилась… Весна пришла в одну неделю, и хоть по ночам ещё схватывались заморозки и крепкий ледок стеклил лужи и ручьи, к полудню, однако, всё опять растоплялось, разбухало, на Неглинной, на Яузе, на Москве-реке натаивал обильный наслуд, а на прибрежной кромке льда уже начали вылущиваться глубокие щербины.
Во вторую неделю марта Сава-плотник со своими артельщиками наконец-то управился с Печатным двором. Вырубив над крыльцом артельную метку, Сава запихнул за подпояс топор и, отойдя подальше в сторону, с напускной строгостью нацелил на своё детище пристальный взгляд.
– А што, братя, – крикнул он артельщикам, – добра избёнка?!
– Как не добра!.. – гуднули артельщики. – В болярах таковой хоромины не сыщешь!
Фёдоров, стоявший среди артельщиков, выступил наперёд, поклонился им.
– Спаси Бог вас, умельцы, за дело ваше гораздое! – с радостной слезой в голосе сказал он, повернулся к Саве, так же низко поклонился и ему. – Спаси Бог тебя, Сава Ильич! К доброму и славному делу ты руку свою приложил. И коль место сие достойно станет памяти, ты, Сава Ильич, с товарищи причастен будешь к памяти сей!
– Мы на таковое не замахивамся, – гордо сказал Сава, подходя к дьякону. – Што нам твоя избёнка, отец дьякон?! Мы и подивней здали[152]152
Здать – создавать, строить.
[Закрыть]. Покрова на рву… Деревянное дело – наше! В слободе государевой, в Александровой, – нашего топора хоромы! Да нешто мы по тем делам гордыбачиться учнём? Наше дело – топорное, отец дьякон, воля – государева! Вон куды бей поклоны. Не повели он, так и не быть бы и храму на рву, да и твоей избёнке також не быть бы! Всё от государя, отец дьякон… Нешто не бортника за мёд хвалят?!
– Истинно, Сава Ильич!.. Государь всему голова, и воля его – восем, опричь воли Господа. Мы же – руки его послушные, вверенные ему владыкой нашим вышним… И коли владыка наш вышний, Господь Бог наш, вкладывает в нас великую хитрость[153]153
Хитрость – здесь: умение, искусность.
[Закрыть] в делах наших, чтоб мы угодливей служили государю земному, неужто хочет он, чтоб мы умаляли его дар? Господь одаривает нас на добро, и ему угодно видеть добро безымянным, но не умалённым. Посему-то, Сава Ильич, я и преклоняюсь пред тобой и пред твоими товарищами. Писано: от плода уст своих человек насыщается добром, а воздаяние человеку – по делам рук его.
– Добер же ты, отец дьякон, на говурю, – умилился Сава и ещё раз оглядел добротно и искусно срубленную избу печатни. – Расколупал душу!.. Гляди, намерюсь да насеку: рубил Сава с товарищи!
– Так насеки, – пригласил его Фёдоров.
– Как, братя? – подсмеялся Сава. – Хотца вам таковой блажи?
Артельщики загалдели – вперебой, каждый своё, а некоторые лишь отмахнулись. Сыскался и такой, что понял Фёдорова совсем иначе.
– Уж не хочет ли отец дьякон отбояриться от нас говурей да поклонами? – спросил он встревоженно.
– Вона! – захохотал Сава. – Вишь, отец дьякон, мы люди каки!.. У нас свои обычки: мы тебе работу, ты нам плату.
– Како ж без платы? – развёл руками Фёдоров, огорчённый сомнением артельщиков. – Будет вам исплачено сполна. А были бы у меня свои, я бы и свои пожаловал – за труд ваш гораздый и усердный, а наипаче за то, что чаянья мои к свершению приблизили. В избе сей великое дело свершиться должно.
– Лепо, коли радость в душу вступает, – сказал кто-то из артельщиков, по-доброму позавидовав радости дьякона. – Мы також ныне в кабак пыдем!
– Ступайте! – благословенно вымолвил Фёдоров. – Каждому – своё… Так Господь рассудил.
– Ан, бают, отец дьякон, что дело сие быдто чёрное, – со степенной простоватостью сказал Сава. – Не по-божески быдто делать книги иным обычаем, окромя рукописания?!
– Пущай говорят, Сава Ильич! Таков обычай злонравных и неискусных в разуме людей. Зависти ради многие ереси умышляют они, желая благое во зло превратить. Они движутся во тьме, влекомые убогими страстями, и воинствуют во имя своих убогих страстей, но не во имя истины и добра. Ибо ненависть, наветующая сама себе, не разумеет, чем движется и что утверждает.
– Ох, до чего же дивно ты гуторишь, отец дьякон! – взволновался Сава.
– Сказал бы ещё чего, отец дьякон, – попросил кто-то из артельщиков. – Уважь, отец дьякон!
– Уважь, отец дьякон, – запросили наперебой и остальные. – Пригожая говуря, она душу тешит и сладит, как мёд.
– Простому человеку доброй говури, случатся, и вовек не очуть, так что не откажь, отец дьякон.
– Како ж не к месту говорить? – смутился Фёдоров. – Ради красного словца доброго речения не сотворить.
– Пошто не к месту? Об чём рек, об том и речи…
– Скажу я вам, умельцы, на прощание… Бог мне вкладывает сие в уста… Дело, к коему вы ныне приложили руку, – самое великое с тех пор, как Русь просветилась святым крещением! Ибо брани наши великие, в коих мы прославили имя Христа и отечество наше, несли нам свободу и избавление от угнетателя… Труды наши мирские несли нам благоденствие… Верность Богу нашему даровала нам благодать и озаряла наши души спасительным светом, наставляя нас на путь праведный… Но сие озарит наш разум, что дарован нам Всевышним не толико на разумение ближнего своего, но також на дерзания, равные его, божественным, деяниям, ибо Бог сотворил человека по образу своему и подобию.
– Страшное больно речёшь ты, отец дьякон, – сказал смущённо Сава. – Прям-таки несусветное. Како ж так могёт статься, чтоб человек равные Богу дела творил? Чего ж с белым светом-то станется?
– Верно Сава гуторит, – заволновались артельщики. – Должно быть, и вправду дело сие чёрное?!
– Грех на душу взяли!..
– Вон вы как меня выразумели? – огорчился Фёдоров. – Нет, други мои, Божье человек повторить не сможет… Ни луны, ни солнца, ни земных хлябей, ни твердей небесных ему не сотворить: то дело изначальное, то корень Вселенной. Но иное – вельми гораздое и славное, до чего я по скудости ума своего и домыслиться не могу, – человек непременно станет творить! Непременно, други мои, и книга наипаче поспособствует ему в том! Книга – сие сундук, куда люди из поколения в поколение складывают самое сокровенное, самое мудрое, самое гораздое и потребное. А коли сундук мал – сколько туда закладёшь? Да и не всяк к тому сундуку допущен. Сколь доброго и славного, сотворённого разумом людским, гибнет втуне, не попадая в сей сундук, и сколь разумных втуне плутает на давно исхоженной стезе, не ведая о своём предтече. А будь сей сундук открыт для всех, путь к истине, к добру, к потребным деяниям был бы спрямлён и вельми облегчён.
– Ан в книгах-то, отец дьякон, чужая мудрость писана, – сказал Сава, засматривая хитровато в глаза Фёдорову. – Чужому уму-розуму, стало быть, научают книги. А то – вред! Человеку своим умом надлежит жить!
– Верно гуторит Сава, – завздыхали артельщики. – Како ж тады разглядеть, через книги те, – кто разумен, а кто дурён? Тады, выходит, всяк за разумника сыдет, книги те перечтя?!
– Наберётся иной глупец книжного розуму-то да станет ладному, смекалистому человеку поперёк его дела встрявать да с толку его сбивать… Мутить чужой премудростью его разум! Так и загубит добра человека, от коего миру польза шла, – сказал важно и строго Сава, будто отчитывая Фёдорова. – И расплодятся на земле таковые умники с чужого розуму, как сорное былие, да позаглушат доброе роство – вот уж беда будет! Уж и ноне речётся, што дураками свет стоит. Велико, стало быть, их племя! А от книг твоих, отец дьякон, им и вовсе вольготье настанет!
– Нет, Сава Ильич, – возразил Фёдоров. – Неправота твоя тут… – Фёдоров помедлил, обвёл взглядом артельщиков: умудрёны, лукавы и с виду только простодушны. С такими ухо держи остро! Вон как повернули дело! И хоть не правы по самой сути, а вот же найдись, доведи им это… Не просто довести!
Сава выжидающе смотрел на Фёдорова…
– Неправота твоя, Сава Ильич! – твёрдо повторил Фёдоров. – Истинный ум городьбой не огородишь! А дурак… Дурак, Сава Ильич, что мутовка, речётся в народе, – куда ни поверни, а сук напереди! А от себя так скажу: буде, и вправду на дураках свет стоит, но движется он разумными, и всё пригожее, доброе, потребное на свете – от разумных. Не так ли, Сава Ильич?
– Так-то оно так, – горделиво и заумно усмехнулся Сава, – а токо всякая мудрость – от Бога, отец дьякон. Мы вон без книг тебе хоромы поставили. Постник Барма Покрова на рву також без книг поставили. Всё делается, как мера и глаз укажут да божьим провидением. А книги вреда нанесут непременно! Промеж людей ещё одна лжа разведётся – книжная лжа! Так что мой совет тебе, отец дьякон, кинь сие дело да подавайся к нам в артелю. Житьё наше пригожее и вольное! Ныне в кабак пыдем!
Фёдоров раздумчиво улыбнулся этим словам Савы, мягко, но с достоинством сказал:
– Имею я вместо рала художества рук моих, а вместо житных семян дано мне духовные семена по Вселенной рассевать и всем по чину раздавать духовную сию пищу. Каждому – своё, Сава Ильич!
С треухом, полным серебра, полученного на Казённом дворе за срубленную печатню, шагал Сава в Занеглименье – к бронникам, в их кабак, прозванный на Москве с чьей-то нелёгкой руки «Гузном» – за то, должно быть, что находился он в тесном и тёмном подполье, крепко пропахшем всеми запахами бренного ремесла.
Сава грёб промокшими сапогами по снежной жиже, постно пятил губы и изредка брезгливо цвиркал плевками в попадавшиеся на его пути лужи. Следом за ним, смиренно, как овцы за пастухом, брели его артельщики. Не хотелось им топать в Бронную слободу: и путь не близок, да и кабак уж больно плох… Куда как лучше было устроить братчину в кабаке «Под пушками» – у Фетиньи, но Сава, с той поры как осрамился перед Фетиньей, да и перед всей Москвой, из-за своей неуёмной, хмельной похвальбы, упорно обходил этот кабак. Даже трёпка, что задали мясницкие ему и всей его братии на Кучковом поле, так не обескуражила и не настыдила Саву, как настыдила его хмельная затея с кабатчицей. Избу рубить он ей начал (крест целовал – как тут отступишься?!), до половины сруб вывел – и бросил! Не от лени – от стыда бросил! Извели его насмешками да издёвками: весь торг потешался над ним, толпой сходились, как на скоморошье игрище, глазеть, «како Савка свой позор отрабатывает»! И, сойдясь, так умащивали его скабрёзностями, так отделывали ехидными словесными розгами, такой горячей стыдобой ошпаривали ему душу, что Сава готов был сквозь землю провалиться. Пошёл он к Фетинье отпрашиваться от своего крестоцелования, денежный откуп сулил – какой запросит! – только бы не рубить ему эту проклятую, испозорившую его избу!
Не взяла Фетинья его откупа.
– Мне, Савушка, деньги твои не впрок. Я також позор на душу взяла и за тот позор хочу хоть избу от тебя иметь. От такого славного умельца, как ты, Савушка, избу хочу иметь! Гордиться буду избой, Савушка, – на позоре-то своём!..
Ласкова была Фетинья, льстива, льнула к Саве, играла глазами, смеялась, дразнила его своим смехом, ласковостью своей, красотой… Сава натужно морщился, потел – просил Фетинью снять с него клятву… Христом Богом просил – не вняла Фетинья, лавку в сердцах изломал – не помогло!
– Нет, Савушка, клятвы твоей я тебе не отдам! А коли гоньба тебя так изводит, что и моготы нет, так возьми меня в жёнки! И срам с себя сымешь, и избу в охотцу дорубишь. Возьми, Савушка, я пойду за тебя!
– Э-э, баба! – вздыбился Сава и сам положил конец своим просьбам. – Думаешь, как однова, с хмельной головы, позарился на твой рай, так уж и живот весь свой изведу на те сласти?! Да я двойную гоньбу стерплю, две избы тебе поставлю, а вольную душу свою и живот свой не осужу на истерзание бабьей плотью!
Заказал Сава себе дорогу к Фетинье, а дорубливать избу нанял других плотников, но Фетинья не дозволила им и разу тюкнуть топором, спровадила их к Саве, а на другой день и сама заявилась к нему на печатню, привезла пироги, сбитень – разугощалась, будто у себя в дому. У Савы рожа вытянулась топором – уж такого на свою голову он не ждал! Вызверился он на Фетинью, а та и глаз не смутила, пошла оглядывать печатню и всё всплёскивала руками и радовалась, что и ей так же пригоже будет срублена изба.
Вытерпел её Сава и с облегчением выпроводил, а через три дня она вновь с пирогами и сбитнем – и вновь принялась всплёскивать руками… Артельщики, всегда и во всём стоявшие за Саву, теперь и не знали, как постоять за него, и только молча уписывали Фетиньины пироги да запивали их сбитнем, пряча от Савы свои виноватые, растерянные лица. Понимали они, чего ради, затеяла Фетинья всю эту хитрость: не об избе пеклась она, не нужна была ей изба, ей нужен был Сава.
Артельщики, с которыми Сава частенько бражничал у Фетиньи, давно уже заметили, что Фетинья неравнодушна к Саве. С ним она всегда была уважлива, ласкова, приветлива – другим же и взгляда не даривала. Артельщики и в шутку, и не в шутку натякивали Саве про это: «Поглянь-ка, Савка, кабатчица-то как вабит[154]154
Вабить – приманивать, привлекать.
[Закрыть] тебя!.. Должно, в мужья приглядела!»
Сава все эти натяки пускал мимо ушей, перед Фетиньей же важничал, спесивился, а если и приставал к ней, то не иначе как с какой-нибудь скабрезой и похабщиной, а Фетинья ждала подходящего случая и дождалась – попался Сава в её сети. И не понимали артельщики, почему Сава так рвётся из этих сетей. Такой бабы, как Фетинья, – поискать! Красоты Фетинья была дивной, на всю Москву славилась, да ещё и подальше, куда эту славу завезли московские купцы. Теперь заезжий купчина, если был он наслышан о Фетинье и если в нём ещё не усмирилась мужская сила, не шёл перво-наперво в Покровский собор к обедне, а шёл в кабак «Под пушками» – посмотреть, полюбоваться на Фетинью. И сколько таких она уже отшила – знатных и богатых, не под стать Саве! Как мотыльки на свет, бросались на неё женихи, а Фетинья будто зарок дала провдовствовать до конца своей жизни. Самый богатый московский купец Алтабасов, у которого даже бояре в должниках ходят, приезжал сватать Фетинью с ларцом, полным гурмышского[155]155
Гурмышский – жемчуг высокого качества, из Персии.
[Закрыть] жемчуга, а она – вот тебе! – перед Савой хвостом метёт.
– Э-хе-хе!.. – не без тайной зависти вздыхала Савина артельная братия, насмотревшись на Фетиньины ухищрения. – Поди выразумей то бабье нутро… Всё в ём наниче[156]156
Наниче – наоборот.
[Закрыть].
– Недаром речётся: антихристово племя!
А кое-кто, кому Фетинья не только пирогами и сбитнем тронула душу, но и своей весёлой добротой и бескорыстной, странной бабьей тягой к Саве, начинал советовать ему:
– Ты бы, Савка, оставил пеньтюшиться да поял[157]157
Поять – взять в жёны.
[Закрыть] Фетинью. Баба она – будто сам Бог её сотворил!
– Бросай, Савка, лотрыжничать, хвать ужо!.. Ставай на Божью путю, плоди чад да копи деньгу на помин души своей грешной!
Не терпел Сава такой говори. Вот и сейчас наперекор всем потопал в Занеглименье. Попробовали было артельщики упросить его пойти к Фетинье, да где там!.. Навесил губы, заграбастал шапку с серебром – и волком, без оглядки, как от гона. Артельщики повздыхали-повздыхали, да и следом: куда денешься – доля каждого в шапке, а шапка у Савы – ему делить заработанное, он голова в артели, ему, стало быть, и место для дележа выбирать.
Кабак у бронников был набит битком. Дозволенные по случаю рождения царевича братчины уже плыли под всеми парусами по весёлому морю хмеля. В лучинном чаду муруго проступали блаженные лица, как у святых угодников со старых икон, горласто и яро вопила чья-то слезливая радость, в углу, напротив двери, по-собачьи выла волынка, к которой невпопад пристраивалось несколько исхрипших голосов. Капало с потолка, зловонило… С улицы вслед за открываемой дверью вливалась холодная сырость… Кабатчик по-змеиному прицеливался в каждого входящего, недобро хватался рукой за свою сивеющую бороду, похожую на тесак.
У порога кто-то неловко подбил Саве руку, чуть не вытряхнув шапку с серебром.
– Но!! – грюкнул Сава сапогом в зад этого нерасторопу. – Расступись! Сребро несу!
Кабатчик зажал бороду в ладонь, как нож, жирным, гадливым голосом хрипонул:
– Поди, Савка, вон! Вишь чаво!..
– Ты ин што? – шутовски раззявился Сава. – Умлел? Вона, поглянь! – и бухнул перед ним на стойку шапку с серебром.
– О-о! – протянул смачно кабатчик и отвесил треснувшую, с запёкшейся кровью губу. Глаза его усмиренно прижмурились.
Сава небрежно кинул ему за губу щепоть монет, кабатчик языком переправил их в рот, давясь слюной, сказал:
– Тады – что ж!.. Кой-кого вышибу, выслободю тебе место, Сава Ильич!
Пропуская мимо ушей крики и брань, посыпавшиеся на него со всех сторон, кабатчик с деловитой сосредоточенностью и невозмутимостью выкинул из кабака с десяток самых подгулявших, некоторых попересаживал, некоторых потеснил, но место Саве и его артельщикам всё-таки нашёл.
Не всем досталось место за столом, несколько артельщиков уселись на полу, под стенкой. Чуть поодаль от них, в углу, тоже на полу, сидел лохматый мужичина, спокойно посасывающий из выщербленного скопкаря не то медовуху, не то бражку… Лучина в этом углу давно догорела и погасла, и мужик, видать, был рад этому: он сидел, вжавшись в самый угол, в тень, скрывавшую его лицо, сидел молча, и, если бы время от времени не прикладывался к скопкарю, можно было подумать, что он спит.
Кабатчик, раздавая Савиной братии корцы, скосился в угол, посверлил мужика подозрительным взглядом, покривил недовольно губы, но смолчал, ушёл, однако не успокоился… Притащив братину с медовухой, поставил её на стол перед Савой, вновь повсмотрелся в угол – теперь уже зло и настырно.
– Ишь притаился! – хрипло сказал кабатчик и огляделся по сторонам, не то опасаясь чего-то, не то ища поддержки. – Уж не лазутник ли, а? Впервой вижу… Не бывало такого у нас ранее… Не бывало! Глаз у меня памятлив. Кто таков?
– Отстрянь от человека, – заступился за мужика Сава. – Какой он тебе лазутник?! Горе, буде, у человека сталось… Садись к нам, добра человек, – позвал он мужика и высыпал из треуха на стол серебро. – Эх жа и гульнём ноне! Всю тоску и хмурь из души долой выпихнем!
– Ты, Сава Ильич, не встревай, – отмахнулся кабатчик. – Глаз у меня памятлив – не бывало его у нас ранее. Кто таков, ответствуй? – задиристо, но не очень смело потребовал кабатчик.
– Добра человек, – спокойно ответил из угла мужик.
– А как лазутник?
– Вот дуролом!.. – гыкнул глумливо мужик. – Нешто я тебе сознался бы?!
– А как стрельцов кликну да в приказ?!
– Коль тебе дела иного нет, ступай кличь, – невозмутимо ответил мужик.
– Отстрянь от человека! – вновь вступился за него Сава. – Вишь, душа его по миру пошла! В страстях[158]158
В страстях – здесь: в горечи, в страданиях.
[Закрыть] он! Донеси ему взвару – я заплачу!
– Ты, Сава Ильич, не встревай!.. Пущай сказывает: кто таков и каким именем кличут?
– Крестил поп Иваном, да прозвали люди болваном, – попробовал отшутиться мужик.
– Ты турусами не отъезжай! Приговорочки мы сии слыхивали! – не отступался кабатчик. – Мне указ даден: тёмных людишек высматривать и за приставы отдавать! Сказывай, именем которым кличут? – угрозливо потребовал кабатчик.
– Кличут меня Малюта, – не очень охотно ответил мужик.
– Ишь ты – Малюта! Завсегда так: как меньшой в семье, так и Малюта… А по святцам как?
– То Богу ведомо, а тебе ведать не пристало.
– Ишь ты, не пристало?! – хорохорливо помотал головой кабатчик, но желание допытывать этого уж больно смелого и странного мужика у него пропало. Что-то зловещее и жуткое было в нём, в его затаённости, в его смелости, в его невозмутимости, – и кабатчик отступился.
– Лихо ты его!.. – весело сказал Сава, заглядываясь на мужика. – Малютой, речёшь, кличут? Пущай знает наших, Малюта! Ух, рюха! – глумливо погрозился он в сторону кабатчика и, схватив щепоть монет, кинул их на соседний стол. – Гуляй, братя, не жалей души! Ноне Сава в жиру, а назавтра – по миру!
Кабак загудел от восторга. Сава схватил щепоть побольше, кинул монеты к потолку. Поднялся переполох – все кинулись расхватывать деньги… Сава довольно избоченился, выпятил губы, глядя на эту жадную, пьяную возню, – глаза его стали блестящими, как мочёная ягода.
– Будя, Савка, – вмешались артельщики. – Не делены ещё деньги…
– Своё раздаю! – пресёк их Сава. – Наливай, братя, мёду, праздничать учнём! Царю да царице радость, а нам – праздник! А колокола-то, колокола как играют! – Сава прислушался к долетавшему в кабак торжественному перезвону, перекрестился, с почтением сказал: – Се в Кузнецах, у Козьмы-Демьяна. Пров Иванов в звонарях тама! Пображничаем, братя, да пыдем Прова послушаем: люблю я, братя, гораздый звон.
– Эка сыскал звонаря – Прова! – бросил кто-то Саве. – У Никиты Бесов Мучителя, за Яузой, – вон иде звону послушать!
Сава лакомо высосал корец медовухи, потаращил глаза, поплямкал губами, ещё полез корцом в братину – выдул и второй корец, утёр губы, подмигнул в угол Малюте…
– Слыхивали и тот звон, – сказал он степенно и важно и вновь посмотрел в угол – перед новым человеком Сава особенно любил выставиться. – Еремейка Деревянная Нога в звонарях у Никиты… Верно? То-то! – напыжился Сава и вновь запустил в братину корец, но пить повременил – выговорил гордо: – Я жа тому Еремейке ногу-то делал, а ты указуешь, иде нам гораздого звону послушать!
Сава опорожнил корец и вновь глазами в угол – проверить, слушает ли его Малюта? Малюта довольно щурит свой зоркий глаз и уже не прячется в тень, не прикрывается скопкарем: кроме Савы, на него уже никто не обращал внимания, а Малюте только это и нужно было.
Прибыл Малюта в Москву накануне рождения царевича, привёз из Стародуба наместника Василия Фуникова да городского воеводу Ивана Шишкина, взятых им оттуда по приказу Ивана. По приказу Ивана пошёл он и в кабаки – послушать хмельные разговоры черни. Трёхдневные братчины, дозволенные царицей, пришлись очень кстати, да вот и Сава нынче подвернулся ему на удачу: такой болтун и панибрат и сам выболтает все свои три короба, особенно если пропустит с полдюжины корцов, да и других затравит…
Малюта выбрался из тени, подсел поближе к артельщикам – это польстило Саве. Он передал ему свой полный корец – Малюта не отказался, перелил в свой скопкарь медовуху, корец вернул Саве.
– А лихо ты его! – опять вспомнил Сава про кабатчика, потешенно скосоротился и, довольный собой, захохотал. Он уже начинал хмелеть: маленькие глазки задиристо запрыгали в глазницах, бритый подбородок и шея засочились потом – Сава истомно раздёрнул ворот рубахи.
– Слышь, Савка, а како ж серебро промеж своих делить станешь? Ты ж сверх пяти дюжин счёту не ведаешь!
– Подай мне тыщу – разделю! – самодовольно осклабился Сава. – И про звон гораздый скажу: без ног гораздого звону не учинить, потому что чутья у звонаря – вся в ногах. Земля звон отдаёт, а он и чует ногами, а ухами того не учуять – в ухах под самыми колоколами всё сливается. Коли с больших на малые зачинает сходить: бум! бум! бу-м-м!.. – да в перебор: дзюлю-дзилинь!.. дзюлю-дзилинь!.. – вот тута главное – не упустить большого боя. Чтоб он покрывал перебор, растягивал его и чтоб не глушил, не то будя как в пустую кадку. Без ног гораздой протяжности не удержишь! А Еремейка-то большой звон в деснице держит, а под ней у него древяница… Вот он и не чует большого звона, и оттого перебор сухо бьёт, будто горшки трощит.
– Ты сам – будто горшки трощишь! С кем-то ты гуторишь?
– А с тем, кто звону гораздого не разумеет!.
– Гли-ка нань!.. Ему про Фому, а он про Ерёму! Тебе-то уж про серебро изрекли…
– Серебро разделю!.. Делить – не топором рубить! Давай поболе!
– Куды поболе?! Поди, целого пятерика огрёб?
– Пятерика?! – торжествующе удивился Сава и размёл монеты по столу. Они посыпались сквозь щели на пол – артельщики кинулись собирать их. – Семнадцать рублёв с полтиной да три алтына без деньги!
– О Господи!.. За едину-то избу! – раздалось чьё-то жалобное причитание. – Аки раб труждаешься переписью денно и нощно, две псалтыри в году написал Болдинскому монастырю… А и то – три рубли с полтиной.
– Возблагодари Господа и за то! – отпустил потешенно Сава. – Твоему рукомеслу скоро вовсе истеря выйдет: печатать книги учнут!
– Нешто скоро? – скорбным, слабым голосом спросил переписчик, будто спрашивал о своей смерти.
– Да через год!.. А то, гляди, и поране…
– О Господи!.. – перекрестился переписчик.
– А ты ж како мнил?! – блаженно возъехидился Сава. Он уже был хмелен, каверзен, про Малюту давно позабыл: страсти, разожжённые хмелем, распылались в нём буйным огнём, распустил Сава пышный хвост своего зазнайства, и теперь весь белый свет был для него запанибрата. – Дело-то – государево, и оплошки в ем не будя! Я государеву волю ведаю: она тверда, что кремень! Рек он мине: Сава Ильич, дело твоё гораздое, изведанное, ты, деи, и Покрова с Постником ставил, и хоромы рубил для меня в слободе, и посему желаю, штоб ты руку свою, стало быть, приложил и к сему делу!
– Во, колокола льёт! – умилился кто-то.
– Добёр же верзить[159]159
Верзить – нести чушь, врать.
[Закрыть], галагол! Государь ему рек!.. А буде, он ешо табе в зубы заглядывал?
– Иль по кугмачу твому пустому гладил?
– Сами вы галаголы! – самодовольно избоченивается Сава. – Нешто нет моего дела в Покрову?.. То-то! А хоромы в Александровой слободе? – Сава победно оглядывает питейную братию, корчит презрительную рожу и небрежно отмахивается рукой. – Тык и молчите! Тащи мёду! – кричит он кабатчику. – Живо! Ишь, не докличешься, балахвоста! Всё нутре пересмагнуло![160]160
Пересмагнуло – пересохло от жажды.
[Закрыть] – Вонзив локти в стол, Сава вальяжно продолжает: – Тык вот… речёт мне государь таковы слова, чтоб я, деи, руку к тому делу приложил, понеже дело сие – самое великое!.. с той поры, как Русь святым крещением просветилась!
– Ишь ты!.. – опять умилённо поддели Саву. – А ешо чево табе баба на торгу гуторила?
Саве хоть и не верили, но слушали с вниманием: ладно и весело говорил Сава, бахвалился и врал, теша свою распутную душу, а заодно потешая и чужие. В кабаке такому говоруну всегда рады.
Даже волынщик, забредший в кабак заработать деньгу-другую, перестал терзать свою волынку и раззявил рот на Савину болтовню. Пересел поближе к Саве и переписчик. Он единственный слушал Саву с тревогой и не иначе как верил ему, остальные же лишь потешались да раззадоривали Саву.
Сава дождался кабатчика с медовухой, присосался прямо к братине… Глаза его истомно пучились – хмель распирал его, мутил, но кураж был сильнее хмеля, и Сава, поотдышавшись, важно сказал:
– Будут потеперь на Расеи книги печатные и розуму вам, дурням, прибавят… А буде, и убавят!
Сава глумливо захохотал, лицо его зашлось багровой испариной. Переписчик совсем обник от этого Савиного хохота, только глаза его, растерянные и злые, смотрели на Саву как на самого заклятого врага.
– От своего труда хлеб свой стяжаем, – сказал он скорбно и зло. – Нежели государь по миру нас пустит? Книга печатная – погибель наша!
– В Кержаче вона, сказывают, мужик да жёнка в круге ходят, и Дух Святой, сказывают, нисходит на них, – сказал кто-то из дальнего угла. – И об земь их бьёт, и в исступлении держит, а посля того исступления мужик той да жёнка благовестят…
– Лжа! – выхекнул кто-то утробно, как после тяжёлого удара, и заковыристо выматерился. – Лжа! Откель им ведать то благовестие?!
– Написано: нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано, – сказал всё тот же голос в углу.
Кабак разом притих… Малюта поднялся с пола, направил в дальний угол свой насторожившийся глаз. Один Сава остался равнодушен к услышанному. Протяжно икнув, перекрестил рот, с тоской спросил:
– И чиво?..
– Про книги також молвят… Не нужны, молвят, книги все – ни старые, ни новые, бо спастись по ним нельзя. Нужна, молвят, единая книга – книга золотая, голубиная – сам Дух Святой! А книги все прочь – потопить в реке иль пожечь в огне и итить на святое место кликать на землю превышнего Бога!
Малюта вышел из-за спины Савы, прошёл в угол к говорившему, приткнулся к его лицу своим оскалившимся лицом и торопливо проговорил:
– Ну-ка вразуми, вразуми… Не очул я твоих словес!
– Ты чиво? – откачнулся от него в ужасе мужик. – Чиво ты?.. Бог с тобой! – перекрестил он Малюту и намерился вылезти из-за стола, но Малюта навалился локтем на его плечо и со зловещей ласковостью повторил:
– Вразуми, вразуми добра человека… Не очул я твоих словес!
– Да он чиво, братя? – закричал мужик и пополз с лавки из-под Малютиного локтя. – Рожа-то – ух! – страх Господень!
Кто-то потянул Малюту сзади за кафтан, Малюта вырвался и опять к мужику, уже сползшему с лавки на пол, но сзади вновь ухватили Малютин кафтан – теперь покрепче!
Из-за стойки выскочил кабатчик, заметушился, запричитал:
– Людя!.. Христом Богом!.. Не трожьте бельмастого! Не трожьте бельмастого, людя!
Чуяла его искушённая душа зловещую тайну Малюты, но для других Малюта был только косматым мужичиной, таким же, как и все они, – без тайн и без зловестий, и они принялись расправляться с ним с таким же яростным завзятьем, с каким нередко расправлялись друг с другом.
Сава кинулся на выручку Малюте… Такого только и ждала его лихая душа, падкая до буйства и злочина. Раздразнённая хмелем, она в любой миг готова была сорваться с цепи – и сорвалась. За Савой поднялись и все его артельщики… Отчаянный вопль кабатчика, умолявшего не трогать бельмастого, потонул в горячем рыке двух дюжин яростных человеческих глоток. Бронники и кузнецы, которых было большинство в кабаке, были дюжим народцем – вскоре Савина братия стала выползать из кабака с вышибленными зубами, с расчаученными носами, с разорванными губами, отплевывающиеся, отхаркивающиеся кровью…
Малюта с Савой держались дольше других, зато и досталось им больше всех: Малюта с трудом выполз из кабака, а Сава и выползти не смог – вынесли…








