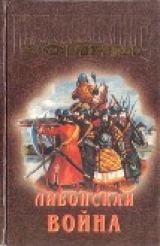
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 54 страниц)
В ту же ночь по приказу царя татары перебили в Полоцке всех монахов-бернардинцев и разорили все латинские церкви. Предводительствовал татарами сам Левкий, не снявший с себя даже рясы и креста. Так в своём иноческом облачении, с крестом на шее и носился он в санях от одной церкви к другой, круша и размётывая алтари, иконостасы, амвоны, сдирая с икон золото и серебро, выгребая из ризниц церковную утварь и глумясь над попами-католиками, пытавшимися защищать свои святыни.
К утру изнеможённый, пожелтевший ещё сильней, но довольный и возбуждённо-радостный, заявился он в градницу, где всё ещё – какой уж день! – шумел победный пир и царь великодушно и щедро раздавал подарки воеводам.
Иван был весел и встретил Левкия приветливо, но было в его веселии что-то отпугивающее – какая-то лихорадочная напряжённость, как будто веселился он с закушенной злобой, и Левкий поспешил унять в себе свою радость. Отойдя от царя к краю стола, он с осторожинкой уселся на прежнее место и стал старательно изображать упокоенную кротость.
– Как поуправился, поп?
– Гораздо, государь! Рукою Господа карающей воздано неправедным, и вредным, и порочным! Почудимся же человеколюбию Господа нашего!
– Не кощунствуй, поп! – насупился Иван.
– Воздавая человецем на сем свете, Господь уменьшает им кару на том, государь! – выкрутился Левкий. – Человеколюбие его разнообразно!
– Не мудрствуй, поп!..
Левкий кротко, но с довольнцой прищурил глаза; на горле у него, под дряблыми морщинами, зашевелился кадык – как вползший под кожу клещ.
– Басман, вина святому отцу! Уж больно лёгок он в мысли!
Федька зачерпнул из ендовы губастым осеребрённым ковшом, медленно обошёл вокруг стола, медленно наполнил стоявшую перед Левкием чашу рдяной мальвазией. Глаза его ненавистно блеснули, будто не вино, а кровь свою влил он Левкию в чашу. Не по нутру, ох как не по нутру было Федьке прислуживать кому-нибудь другому, кроме царя. Он стряхнул на пол остатки вина из ковша и показно быстро отошёл от Левкия. Тот посмотрел ему вслед, скорбно смежил глаза, но пальцы его тут же потянулись к чаше, восторженно общупали её и чуть-чуть приподняли над столом, чтобы насладиться не только осязанием её, но и её тяжестью.
– Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, – святое имя его! – выговорил он медленно, с придыханием и россвистом. – Он прощает все беззакония твои, исцеляет недуги твои, насыщает благами желание твоё…
За воеводским столом кто-то не то хмыкнул, не то икнул… Глаза Левкия враз юркнули в подбровье и притались там. Он по-собачьи начутил ухо, словно прислушивался к чему-то, и тихонько, торжествующе шепнул самому себе:
– Боже, как умножились враги мои!
– Что ты там шепчешь под нос себе, поп? – со смехом спросил Иван. – Злую силу отваживаешь?
– Напиток сей благословляю, государь, в коем растворена твоя щедрая милость к нам – чернцам, хранящим в сердцах своих заветы Господни любви и сострадания к ближним. – Левкий ублаженно приспустил веки, поднял чашу, но, прежде чем пригубить её, успел ещё метнуть чёрный взгляд в сторону воеводского стола, и там взгляд его не остался незамеченным, хоть и был он мгновенен, как выстрел.
– Да святится имя твоё, государь! – громко, подобострастно сказал Левкий.
– А что, святой отец, – вдруг спросил Иван, – сысканы ли все израдцы, бежавшие от нас в сии пределы?
Левкий брязгнул чашей об стол, обтёр рукавом рясы обмоченную вином бороду и вмиг стал прежним Левкием – злоумным, лукавым, надменным, жестоким и жёлтым-жёлтым, как адов огонь, в котором неизбежно должна была сгореть его душа.
– Сысканы, государь? Все до единого…
– Велел я прорубь пробить к рассвету…
– И прорубь пробита, – с угодливой злорадностью поспешно присказал Левкий.
– Воеводы!.. Не поехать ли нам поглядеть, как будут топить израдников?
Левкий с восторгом вылупил на Ивана глаза. Тысяцкие и дворовые воеводы тоже подняли восторженный галдёж, но за большим воеводским столом было тихо – именитые молчали.
– Так что ж, воеводы?.. – Иван через силу улыбнулся. – Царским приглашением гнушаетесь? А буде, зрелище такое не по вас?
– Пир нам более по душе, – громко сказал со своего места Серебряный, сказал спокойно, бесстрастно, не выдав Ивану ни единого своего чувства. – Но и приглашение твоё нам не в тягость. Вели встать из-за столов, и мы последуем за тобой.
Шуйский с Пронским обкосили Серебряного презрительными взглядами, но смолчали, только Щенятев что-то буркнул себе под нос и отсел на самый край стола.
– Тогда – последнюю чашу, воеводы! Поди, уж брезжит?
Последнюю чашу выпили молча – и будто отрезвели от неё: все стали какими-то сосредоточенными, замкнутыми, каждый старался быть незаметным, старался не выделяться, но не настолько, однако, чтоб казаться мешкающим или выжидающим. Царские глаза были всевидящи, и никто не хотел привлекать к себе их жестокий, испытывающий взгляд.
Из-за столов встали недружно, но споро, не засиживаясь, не утягивая поясов, не оправляя кафтанов, не углаживая бород… За воеводским столом остался только один Щенятев. Сидел отрешённый, с тяжёлой истомой в глазах.
– Ты что же, Щеня?.. – уже от порога спросил Иван. – Утяжелел от хмельного?
– Дозволь мне остаться, государь, – привстав с лавки, спокойно и твёрдо сказал Щенятев.
– Не на брань мы идём – на прохладу!.. – Иван оглядел столпившихся перед ним воевод. – И указу моего никто не слыхал! Верно иль нет, воеводы?
Все согласно гуднули в ответ.
– Почто ж тебе моё дозволение – на волю твою?! – вновь, с ехидной издёвкой, обратился Иван к Щенятеву. – Оставайся, коль тебе забавней приятельство братин и недоедков.
От градницы, через город и посад, Иван ехал в санях вместе с князем Владимиром и Левкием, а за острогом, по выезде из ворот, пересел в седло.
Светало. Мороз выстудил воздух до хрупкости – он легонько потрескивал при дыхании. На Двине паровали проруби. Белёсая марь застилала всю реку.
Подъехали к реке. Иван высмотрел на берегу положину, спустился по ней на лёд. Вслед за ним осторожно спустились сани с князем Владимиром и Левкием. Воеводы остались на берегу.
– Ну, где израдники? – вертнулся в седле Иван. – Поп, тебе говорю!
– Уж тут, государь… В полночь ещё велел свести их к леднице… Темрюшка-старшой стережёт их с черкесвой, – пропел ублажающим голосом Левкий, выставив на мороз из-под шубы одни только губы. – Заждем часец дробный… Мрява изыдет, проглядней станет.
– Душа из тебя изыдет! – бросил насмешливо Иван, видя, как старательно Левкий прячет себя от мороза.
– Измерзся дюже ныне, государь, – жалобливо вздохнул Левкий. – Лютая ночь, а аз ея прокатал всю без обогреву и опочиву.
– Своей волей прокатал!
– Божьей, государь!..
Иван отвернулся от Левкия, тронул коня, отъехал на несколько шагов. На середине реки, сквозь разжижавшуюся рассветную пепелесость в белых закублинах пара завиднелась кучка людей. Иван направил туда коня. Сани с князем Владимиром и Левкием медленно двинулись следом. Воеводы, чуть помешкав, тоже спустились на лёд и поехали к середине реки.
Иван наехал на прорубь, на самый её край, – конь испуганно всхрапнул, попятился… Чёрная, дымящаяся вода, окаймлённая по низу проруби тонким, узорчатым ожерельем свежей наледи, легонько пошевеливалась и как-то странно всплёскивалась – как будто всхлипывала.
– Эй, кто там прёт без разбору? – крикнули из-за проруби.
Иван пыхнул в усы белые струи, хлестнул коня плёткой, быстро объехал прорубь. Навстречу ему кинулся кто-то в длиннющей шубе, волочившейся за ним рыжим клином, – видать, с чужого плеча, – в барашковой кучме[117]117
Кучма – вислоухая меховая шапка.
[Закрыть], заиндевелой так, что нельзя было понять, какого она цвета, с сулицей в руке… Иван уже замахнулся на него плёткой, но человек вдруг метнулся под копыта его коню с отчаянным выстоном:
– Государь!.. Государь!.. Не признали тебя! Не гневайся, государь!
– Не пугай коня… Отступи! – Плётка в руке Ивана поуспокоилась; он подобрал её хлыст к рукояти, ласково погладил ею коня по холке. На оступившего человека не глянул даже, будто того и не было вовсе.
Скользя и падая, чуть ли не на четвереньках, к Ивану спешили остальные. Не добежав шагов пяти, свалились на колени и позамерли обмякшими хохластыми комьями. Из-под нахлобученных треухов и малахаев торчали только одни смёрзшиеся клины бород, похожие на засохшие, измасленные кисти.
– Так-то вы встречаете царя, – с надменной укоризной сказал Иван. – Как холопа – распутным[118]118
Распутным – здесь: уличным, грубым, от слова распутие – улица.
[Закрыть] криком! Небось во хмелю, как ярыги кабацкие?! А как я вас всех извелю – в прорубь?! И тебя, Темрюк! – высмотрел Иван под одним из малахаев блестящие, чёрные глаза старшего царицыного брата. – Тебе-то уж не пристало слепым быть: в моём доме живёшь и корм мой ешь! И молчи, не оправдывайся! Где подлые? Поднимись и указывай!
– Да вон же они, государь!.. – приподнявшись с колен, виновато и удивлённо проговорил Темрюк, указывая рукой на противоположный берег.
Только теперь Иван разглядел скучившихся у противоположного берега людей. Они были раздеты до исподнего, а некоторые – вовсе донага, и их белые рубахи и тела сливались с белизной льда, с белизной заснеженного берега, потому-то Иван и не смог поначалу разглядеть их в белёсой, загустевшей морозной мгле, покуда рассвет не иссосал её.
– Поуспели уж и ободрать, – с издёвкой и не без злобы бросил Иван. – Ретивы!.. До полезного дела были бы так сноровны, как до грабежа.
– Пошто же добру зря изгибать, государь? – громко сказал какой-то мужичина, охлобучившийся двумя шубами, – не то ратник, не то посошник, и, видать, не робкого десятка. – Нам добро то…
– Молчать!! – взбешённо крикнул Иван. – Как посмел ты, мерзник?! Как посмел?! Темрюк!.. В прорубь его!.. В прорубь!
Темрюк и ещё несколько человек схватили мужика, потащили к проруби… Мужик упёрся, но тут же и сник. Возле самого края проруби тащившие чуть замешкались, и мужик успел крикнуть:
– Господи, смерть примаю! Возьми меня!
– Стойте! – крикнул Иван, но мужик уже полетел в прорубь. Чёрная вода тяжело взболтнулась, выплеснулась на лёд чёрными брызгами и мгновенно застыла на нём блестящими крапинами.
– Бог примет его, государь, – сказал умиротворяюще Левкий, вылезая из саней и подковыливая поближе к Ивану. – Дерзок был смерд, но христианин истинный: с именем Господа отошёл в его пределы.
Иван снял рукавицу, медленно перекрестился, подумал: «Передо мной не поимел страху – перед иными, поди, и вовсе не осмирял души. Зря сгубил смерда. Таковых бы сыскивать приняться…» Вслух с досадой спросил:
– Что за люди с тобой, Темрюк?
– Мои люди, государь, – черкесы… Да охочие… Вызвались израдцев твоих топить. Я за то им посулил рухлядишко… Своей волей посулил, государь… Указу-то не было иного. Велено было – в прорубь… Святой отец с тем указом меня к ним приставил… О рухлядишке ж и слова не было молвлено.
– Ну-ик, разгалаголился! – напал на Темрюка Левкий. – Сулил – так отдал! Царю ин пошто обжужжал слух напраслиной?! Неужто ему рухлядишко то потребно? Не за тем он наехал…
– Отступи, поп, назад, – недовольно бросил Иван, – и не лезь в мой разговор. Не то быть и тебе в проруби – на прохладу мою…
Левкий хихикнул – потешенно, беспечно, но от этой царской шутки (а может, не шутки?) его так жигануло холодом, словно его вдруг оголили на этой лютой стуже. На Ивана он не посмел глянуть, но перед Темрюком – со всей тонкостью искусного притворщика – изобразил невозмутимое спокойствие. Что бы ни подумал Темрюк о нём и как бы ни воспринял слова Ивана, он, Левкий, должен показать ему себя – от этого в конце концов зависело, что будет думать Темрюк впоследствии и о нём самом, и об отношении к нему Ивана.
Знал он, ох как хорошо знал он чужие глаза, перед которыми так же опасно вздрагивать от любого царского окрика, как и таять от каждого его ласкового слова. Вздрагивающего – презирают, честолюбца – опутывают сетями, которые вьют из его же собственного честолюбия. Левкий не хотел ни того, ни другого. Презрения к себе он не выносил: он страдал от него, как от хвори, и никакое отмщение не могло избавить его от этого страдания, сетей же боялся, так как знал, что всех не перехитришь, всех потаённых ям не обойдёшь, а от соблазнов не устоишь. Вокруг Ивана всё было непрочно: не только то, что зависело от него, но и то, что от него не зависело, и Левкий хоть и шёл добровольно по этой непрочной, зыбкой почве, но шёл с опаской, осторожно – ещё осторожней, чем он ходил по твёрдой земле из-за своей хромоты.
Левкий призапахнулся, как-то шутовски настобурчился и поковылял назад к саням с таким видом, будто исполнял невесть какую важную просьбу Ивана.
Иван даже оглянулся на него… Воеводы, обтеснившие сани, враз расслабили свои насупленные лица, думая, что Иван оглядывается на них.
Левкий окинул воевод презрительным взглядом и, повернувшись к ним спиной, стал с намеренной неуклюжестью забираться в сани, наставляя на них свой вытопыренный зад. Воеводы вытерпели издевательскую выходку Левкия, только Алексей Басманов вдруг поспешно, словно опомнившись, отделился от воевод и поехал к Ивану.
– Так, говоришь, вызвались моих израдцев топить?.. – чуть скосив глаза на приблизившегося Басманова, спросил Иван у Темрюка и, не дав ему ответить, повелел: – Пусть поднимутся… Хочу поглядеть на них.
– Эй! – крикнул Темрюк. – Государь велит вам подняться!
– Пусть приблизятся…
Иван стал пристально вглядываться в приближающихся к нему людей.
Тайной заумью и испытывающей безжалостностью были полны его глаза, и люди шли к его глазам с каким-то паническим смирением – кроткие, убогие, и рухлядишко, которое они сняли с несчастных и в спешке абы как понатащили на себя, только дополняло их убожество и делало их куда более несчастными, чем те, которых они собрались убить за это рухлядишко.
Иван высмотрел среди них одного – на нём на единственном ничего не было надето, кроме своей одёжины: залощённого короткого кожуха и полукафтанья под ним из казённой крашенины, и шёл он без страха, спокойно и сосредоточенно, как будто было у него к царю какое-то важное дело.
– Ты же почто без доли? – спросил Иван, спросил с интересом, внимательно рассматривая остановившегося в шаге от него мужика. Красноватое от мороза, широкое, скуластое лицо его, обросшее чуть ли не сплошь рыжей бородой, было больше похоже на уродливую скоморошью маску, чем на лицо человека. Из-под обвисшей брови холодно выблескивал бельмастый глаз, только потому и заметный в глубокой глазнице, что был с бельмом. Другого глаза Иван на его лице не нашёл, но он был – Иван чувствовал на себе взгляд этого невидимого глаза.
– На дрянь мне подлые обноски, государь? – без всякой рисовки, бесхитростно, просто ответил мужик. – Я по иной воле – от ненависти к израдникам. Дозволь, государь, я их всех сам перетоплю.
Глаза Ивана восторженно вспыхнули: что-то забушевало в нём, зажгло его, но он сдержал себя, только с натугой и жадью, по-песьи, сглотнул слюну. Шея его напряглась, будто он изо всех сил тянул её из себя.
– Дозволяю… – осторожно, боясь, как бы не дрогнул и не сорвался от волнения голос, выговорил Иван и снова сглотнул слюну.
Мужичина почтительно и благодарно поклонился, отступил от Ивана к проруби, деловито и повелительно покричал в сторону противоположного берега:
– Эй, там!.. Э-эй! Давай, гони их сюда!
Рассвело. Порассеялась белая изморозная тмистость, разгустился пар над прорубями, чётко проступили берега, уныло приткнувшиеся к ледяной корке реки. От одного из них – от левого – к середине реки медленно двинулась белая толпа – безмолвная, ужасающая толпа привидений. Пятеро верховых черкесов, стронувшие её поначалу с места, теперь осторожно и как бы с опаской ехали осторонь.
Мужичина терпеливо топтался около края проруби, изредка сплёвывая в тёмную воду, словно его донимала тошнота или он стремился ещё и осквернить своими плевками прорубь, в которую должны были быть брошены эти несчастные, чтоб его месть им была ещё более беспощадной.
Люди приблизились к проруби и попятились от неё в ужасе.
Иван брезгливо и зло переморщился. Ужас этих обречённых людей, казалось, вызывал в нём ещё большую ненависть к ним. Спина его свирепо взгорбилась, из руки в руку пошла гулять плеть.
– Мнится мне, что уж где-то встречал я сего бельмастого, – вдруг и непонятно зачем сказал Басманов. Может, хотел отвлечь Ивана, а может, ему невмоготу стала изнуряющая, заупокойная тишина, от которой противно покруживалась ещё не освободившаяся от хмеля голова.
Мужик стащил с себя свой залощённый кожух, покрякивая и пережимая плечами, закатал излинявшие рукава полукафтанья, свирепо поулыбался самому себе, потёр руки…
Остальные охочие в нерешительности стояли поодаль, перетаптывались, переглядывались, не зная, что им делать: то ли тоже закатывать рукава и приниматься за своё страшное дело вместе с этим косматым свирепцем, который и на них нагонял страх, то ли отстояться в стороне, не мешая ему самому порасправиться с этим бедным, полуживым от мороза и страха людом.
Черкесы защёлкали плетьми, пытаясь подогнать замерших от ужаса людей поближе к проруби. Но ни плети, ни разозлённые кони, подминавшие их под себя, уже не могли заставить этих людей сделать ни одного шага навстречу своей гибели. Они сбились в кучу так плотно, словно вросли один в одного, и, казалось, никакая сила уже не сможет их разъять, разорвать, отделить друг от друга. Как свежие раны, зияли на исстывших, синюшных лицах глаза, и не было уже в них ничего человеческого, и даже ужас исчез из них… Глаза доживали последние мгновения, и эти мгновения были уже безбольны для этих людей, неощутимы – мгновения спасительного забытья, которое, как исповедание, облегчало их конец.
Бельмастый подошёл к передним, обрыскал их оценивающим взглядом, выбрал одного, осторожно взял его за руку, осторожно, как поводырь слепца, повёл к проруби. На краю подшиб ему ноги и проворно отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от взметнувшихся брызг.
Иван терпеливо дождался конца… Когда последний человек улетел в прорубь, бельмастый с облегчением отдышался, поободрал щепотью наледь с бороды, повернувшись лицом к взошедшему солнцу, широко окрестил себя и только после этого обратился к Ивану:
– Воля твоя исполнена, государь. Дозволь теперь пойти вон с глаз твоих?
– Подойди, – приказал ему Иван.
Бельмастый приблизился к Ивану, остановился в полушаге, покорно опустил голову.
Иван высвободил ногу из стремени, носком сапога поддел мужика под подбородок, поднял его голову, вонзил свои глаза в его глаза…
– А иных… – голос Ивана сорвался на шёпот, – по моей воле також перетопил бы?
– Коли в том нужда, государь, – тоже шёпотом ответил мужик.
Иван отпустил его голову, вдел ногу в стремя.
– Служилый? Смерд? Холоп?
– Служилый, государь… По Белой записан я…
– Имя твоё?
– Имя моё не знатно, государь… Малюта Скуратов, Лукьянов сын, крещённый Григорием.
– Припоминаю тебя, Малюта… – Ноздри у Ивана вздрогнули. – Хочешь быть у меня слугою… Малюта? – спросил он с волнением, словно боялся, что тот не согласится. – Слугою… и моим особином?
– Кто же сего может не хотеть, государь? На сем свете нет службы честней, чем служба тебе!
Иван сдержанно улыбнулся, сделал повелевающий знак рукой. Алексей Басманов подъехал к нему.
– Коня Малюте Скуратову, – не оборачиваясь, через плечо бросил Иван.
Басманов медленно слез с коня, подвёл его к Малюте.
– Покуда – боярский конь тебе, Малюта, – снова улыбнулся Иван. – Садись в седло… Мы едем на пир!

Книга вторая
НАВСТРЕЧУ ЛИХОЛЕТЬЮ
Глава первая
Зима. Февральская стужа не ослабевает, но солнце уже полезло вверх по отлогому склону неба, и с каждым днём его блестящий зрак всё прилежней и метче нацеливается на землю, и всё чаще и чаще прорывается сквозь густое месиво облаков неудержимая лавина света. В погожий полдень на солнце – хоть шубу снимай, а по утрам выдубленная, заскорузлая стынь так сжимает воздух, что он становится густым, как взбитое молоко. Белые дымы над избами пробуравливают его насквозь и застывают в нём громадными остроконечными сосулями.
Привратная стража проездных башен детинца жжёт по утрам в затинах костры, греясь поочерёдно у их спасительного огня и обадривая себя разговорами о скором приходе весны:
– Трещи не трещи, а уж минули водокрещи. В Сретенье зима с летом встретилась!
– Истинно! Не к Рождеству пошло – к великодню!
В полоцком детинце жизнь не замирает даже ночью. Отгремела победная пальба, отзвонили на Софии торжественные колокола, отславословили попы на литургиях, освятив великую государеву победу, отшумели заздравные пиры, но жизнь в городе не стала спокойней. Присутствие царя по-прежнему держит её в напряжении.
Две недели живёт царь в детинце победителем, две недели рассылает из полоцкой твердыни похвальбные грамоты порубежным государям о своей победе… Даже в Киевскую православную митрополию, подданную польского короля, послана грамота, уведомляющая киевский клир о том, что «исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра-митрополита, о граде Москве, что взыдут руки его на плещи врагов его…».
Две недели вьётся над полоцким детинцем победное русское знамя, провожая и встречая скачущих из Полоцка и в Полоцк гонцов, взывают сурны и трубы на подворье перед градницей, где большие воеводы встречают на Красном крыльце особо почётных посланцев. Стелют перед такими красные килимы, и царь милостиво допускает их к руке, обласкивает и одаривает подарками.
Едут не только иноземные посланники, едут послы и от русских земель – от новгородских, псковских, тверских, владимирских, суздальских, ярославских, едут от Смоленска, от Коломны, от Рязани, от Венёва и Каширы, от Тулы и Волоколамска, от Ростова и Мурома, Вологды и Устюга, едут бояре и дети боярские, дьяки и головы волостные, едут губные старосты и монахи, иереи и просто излюбленные люди, выбранные городским сходом, чтобы приветствовать и поздравлять царя с великой победой. Но таких послов не ждёт царское радушие, и мягких килимов не стелют перед ними, и трубы не возвещают об их въезде в главные ворота детинца… Встречают их разрядные дьяки да подьячие, а то и вовсе сотские или десятские государева охоронного полка, и тотчас развозят по гостиным и постоялым дворам, чтобы не толклись на подворье перед градницей и, не дай Бог, не устыдили бы царя перед иноземными посланниками. К царю их поведут, но не поодиночке, как иноземцев, а разом всех, сколько их наберётся за день, и после утренней молитвы царь выйдет к ним, поклонится низко-низко, прикасаясь рукой к полу, и скажет что-нибудь приветливое или привлечёт к себе кого-нибудь из стоящих поблизости и благодарственно поцелует в лоб, отчего у остальных благоговейно подкашиваются ноги и глаза наполняются умильно-восторженными слезами. После их отведут на Сытный двор, накормят, напоят, переоденут в казённые дорогие одежды и, как станет нужда, выведут на подворье к граднице и поставят перед Красным крыльцом двумя рядами, вдоль килимов, по которым окольничие поведут к царю иноземных посланников. Но и такой чести не всем случается удостоиться, потому что на всех не хватает собольих шуб, бобровых шапок и червлёных сапог с парчовой мережкой, да и не перед каждым иноземным посланником выстраивают почётные ряды, и не каждому с благоволением подставляет царь руку для поцелуя.
Посланец от польского короля и от литовской пановой рады, прискакавший в Полоцк самым первым, три дня просидел под запором, на скудной пище, без свечей, без слуг, покуда приставы не отвели его к большим воеводам, а те, узнав, что он привёз королевскую грамоту к царю с просьбой о замирье до присылки больших послов, отослали его с приставами назад и ещё два дня держали под запором, улучшив корм, но по-прежнему не давая свечей и слуг в услужение. Только спустя пять дней был он позван к царю. Царь принял от него грамоту и, услышав, что больших послов снарядят только к Успенью, рассердился и велел выдворить посланника ни с чем, но потом передумал, вернул его и сказал, что для королевского челобитья разлитие крови христианской велит унять и от Полоцка в дальние места поход отложить.
Посланник запросил у царя грамоту к его слову, но царь не стал даже слушать его, а большие воеводы ответили ему, что дело делается королём не чиновно[119]119
Не чиновно – не в установленном порядке.
[Закрыть], и потому царю, победителю Полоцка, зазорно слать королю таковую грамоту.
– Пусть король полагается на царское слово, – сказали большие воеводы. – Оно так же твёрдо, как и записи через крестное целование. До Успенья войне не быть! А станется большим Королёвым послам наехать раньше Успенья, государь расслушает их и пожалует, понеже государь всегда на мире стоит и чужих вотчин не ищет, а свои прибирает.








