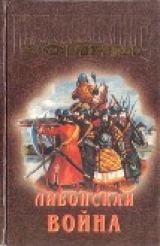
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 54 страниц)
– Пусть подымутся, – сказал снисходительно Иван, скрывая досаду. – Впредь же пусть ведают: им не перед кем тут преклонять колена! Я – государь и слуга их единочасно. Ибо служу я не столу своему, а земле своей и народу своему. И венец мой – лишь тяжкий жребий, выпавший на мою долю! Лишь тяжкий жребий, – скорбно, со слезой повторил Иван, – и более ничто…
Кто-то из нищих вдруг всхлипнул – с тревожной, отчаянной жалобностью и скорее от страха, чем от Ивановых слов.
– Пусть подойдут, – тихо сказал Иван.
Захарьин сурово поманил нищих к царскому столу.
– Чаши им!.. Вина! – повелел Иван. – Пусть Русь пьёт сама своё здравие!
Стольники раздали нищим чаши, ковши, взятые с поставцов (даже за боярским столом не было столь дорогих чаш и ковшей!), виночерпии поднесли им вина.
– Пейте… братия! – ласково и властно сказал Иван. – Пейте своё здравие!.. И будет то здравием Руси нашей матушки! Нет тут иных, достойных испить чашу за Русь! Я, государь её, також недостоин! Ибо через слабость мою, неразумие и доверчивость Русь была в держании недостойных. И сколико бед познала она от их держания… Чем искуплю я, презренный, страдания её?!
Иван сурово и зло вздохнул, потупился… В палате вновь стало тихо – недолго порадовались царской затее… Вон как обернул он её!
Нищие покорно припали к ковшам и чашам, усердно и осторожно, боясь и жалея пролить хоть каплю, опорожнили их.
– Радуюсь вам, братия, – печально и как-то отрешённо улыбнулся Иван. – Радуюсь и завидую… Убогости вашей завидую! Сказано убо: довольствующийся малым пребывает в покое. Но… у каждого своя судьба. – Улыбка сошла с его лица, осталась одна отрешённость. – У каждого свой крест.
– То святая правда, государь, – вдруг вымолвил один из нищих. Выпитое вино уже разлилось багровыми потёками по его лицу, и первый напор хмеля, видать, поубавил в нём робости. – Доля что божья воля! Никуды от неё не подеться – ни тебе, царю, ни последнему псарю. Что судьбой сужено, то Богом дадено. Всякая судьба есть божье вознаграждение, ибо солнце сияет на благие и злые.
– Мудро речёшь, старец…
– Тако в народе речётся, государь. Мы своими дорогами ходим, ради Христа милостыним… Кто хлеба краюху подаст, а кто доброе слово, бо не хлебом единым жив человек, но добрым словом такожде.
Иван быстро, в злорадном нетерпении потянул со стола свою чашу, прихлебнул из неё – раз, другой, третий, и так же быстро, хищно слизал с губ алую влагу.
– А что ещё речётся в народе?
– Всякое, государь… И мудрое и глупое, и доброе и лихое.
– А про меня что рекут?
Иван снова облизал губы, будто мучимый жаждой. Жестокие глаза его завораживающе улащивали мужика.
– Про тебя… токмо доброе рекут, государь.
– А лыгаешь, старец! – Иван бухнул чашей об стол, расплескал вино. – Лыгаешь, поганый! И клятвы с тебя не возьму… Сам ведаю, что рекут про меня в народе! – Иван почти сполз с трона, навалился грудью на стол – натужившийся, нетерпеливый, злой и радостный… Но вдруг, словно напугавшись пустоты за спиной, резко откинулся к спинке трона, вжался в неё, упёршись руками в подлокотники. – Рекут, что я царство попам да льстецам отдал! По их мысли ходить стал! Из их рук царствую! Рекут, что бояре власть возымели, каковой и от прадедов наших не упомнить, и несут царство наше рознь! Рекут, что при отцах наших и дедах крепок был стол московский и грозен!.. А ныне царство оскудело! – Иван сорвал руки с подлокотников, крепко заплёл их на груди. – Верно, старец? Так рекут в народе?..
– Так, государь, – тихо и неожиданно твёрдо промолвил нищий. Седая голова его вжалась от ужаса в плечи, но не склонилась в повинном поклоне.
…Вот так же, лет десять – двенадцать назад, говорил Иван с Лобного места с выборными людьми, съехавшимися по его указу в Москву со всех городов Руси. Говорил о бедах и разорениях, ставшихся в его малолетство, говорил о бессудстве, неправедности и лихоимстве, которые терпел народ от бояр во время его малолетства, скорбел и отчаивался, что не может поправить случившегося, и сулился не допускать отныне новых неправд и разорений, сулился отныне самому стать судьёй и обороной для бедных и немощных…
– …Помнит народ твоё слово, государь, что рек ты под крестами на Лобном месте, – напрягая до твёрдости срывающийся голос, сказал нищий. – Рек ты, государь: «О неправедные лихоимцы и хищники и судьи неправедные! Какой теперь дадите нам ответ, что многие слёзы воздвигли на себя? Я же чист от крови сей, а вы ожидайте воздаяния!»
Он и оправдывался перед Иваном, оправдывался за всю Русь, в недобрых мыслях которой сознался ему, и упрекал его – тоже от имени всей Руси, которая не дождалась от него сулёного.
– …Рек ты, государь: «Буду неправды разорять и похищенное возвращать!..»
– Молчи, старец, молчи!.. Я не открещиваю душу свою… Я пред вами, как пред всей Русью, исповемся… А вы ступайте на её стогны и распутия[201]201
Стогны и распутия – площади и улицы.
[Закрыть] и поведайте всем мою исповедь – пусть осудят и пусть простят. Ибо как царь невиновен я в новых неправдах и похищениях, которые я и сердцем своим, и волей своей, и властью тщился разорить и попрать, но как человек я повинен, ибо слеп я как человек, и слаб, и доверчив… Видя измены от вельмож своих, взял я себе человека из нищих и самых незнатных… От гноища взял и сравнял его с вельможами, ожидая от него прямой службы. Слышал я о его добрых делах и взыскал его для помощи души моей, чтоб печаль мою утолил и на людей, вручённых мне Богом, призрел. Поручил я ему принимать челобитные от скудных и обиженных и разбирать их внимательно. Сказал я ему: «Не страшись сильных, похитивших почести и губящих своим насилием скудных и немощных. Не смотри и на ложные слёзы сирого, клевещущего на богатых, ложными словами хотящего быть правым… Но всё рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь суда Божьего!» После же… для духовного совета и спасения души взял я себе благовещенского попа, мня, что он, предстоя у престола владычного, побережёт души своей. Начал он пригоже, и я ему для духовного совета повиновался… Но потом он восхитился властию и почал совокупляться в дружбу[202]202
Совокупляться в дружбу – составлять партию.
[Закрыть], подобно мирским. Совокупился он и с тем человеком… Имя его да будет проклято! С тем, что взял я из гноища и поднял на высоту великую… И учали они вдвоём советоваться тайно от нас, считая, должно быть, нас слабоумными. Общников своих ввели к нам в синклитию[203]203
Синклития – совет высших чиновников.
[Закрыть] и учали злой совет свой утверждать. Нам же ни о каких делах не докладывали, будто бы нас и не было вовсе. Держать нас також изнамерились, как держали во младенчестве, ни в чём воли не давая… И как спать, и в какие одежды облачаться – всё определили для нас! Но в летах совершенных не восхотел я быть младенцем… Противно то разуму и воле Божьей противно, коей мы на царство помазаны! Ибо царство нам не в кормление дано, но на труд, как ремесленнику иль ратаю, дабы мы подвигнулись трудом своим во славу веры нашей правой и отечества нашего.
Иван выговорился и как-то сразу обмяк, огруз, словно всё, о чём он говорил, он снизал с какого-то невидимого, продернутого сквозь него стержня и, не имея сил остановиться, снизав всё до конца, ослабил этот стержень.
– Вот, старцы, моя исповедь, моё слово и моя клятва, – устало и даже как будто равнодушно прибавил Иван. – Ступайте и разнесите их по Руси… Пусть ведает Русь правду мою и грех мой. Пусть осудит – и пусть простит! Ибо как человек преступил я пред ней, но как царь я чист. И пусть ведает она, что отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке! Да поможет мне в том Господь Бог! – Иван вскинул голову, на мгновение замер. Яркое пламя свечей, стекающее с паникадил, словно подожгло его глаза. – Ступайте, – сказал он тихо, но в голосе его уже не было усталости, не было равнодушия, куда делись и его расслабленность, огрузлость. Выспренний, властный, напрягшийся, словно сдерживающий в себе ещё что-то – более грозное и могучее, он сурово оглядел нищих, как воевода ратников перед боем, и словно вдохнул в них свою суровость, а вместе с суровостью и то грозное и могучее, что рвалось из него.
Страшны стали лица нищих – страшны той блаженной, неукротимой истовостью, что выплеснул на них Иван из своей души.
– Не дарю я вас, дабы не облыгали, не очернили ваших душ злопыхи и недоброхоты. С чем пришли, с тем и уйдите, и пусть не скажет никто про вас: «Царскими дарами движется их речь!» Да и что дары, что злато?.. – Взгляд Ивана стал ещё суровей, голос – проникновенней. Подкупал и вдохновлял этот голос! – Душу свою я вам отдал!
Царские стольники, подхлёстнутые взглядом Захарьина-Юрьева, кинулись отбирать у нищих ковши и чаши. Нищие, словно не зная, чем занять освободившиеся руки, вдруг закрестились, галдёжно понесли своё заученное, извечное: «Спаси Бог!..»
– Ступайте! – нетерпеливо сказал Иван. – Ступайте, братия! Да будет благословен ваш путь! Тебя, старец, – обратился Иван к нищему, с которым разговаривал, – прошу остаться и за наш стол прошу сесть. Гостем дорогим будешь! Тебе первому зачинать заздравную чашу!
– Како ж, государь?! Помилуй Бог!.. – Вместо благодарности нищий в отчаянье повёл руками по своим лохмотьям.
– Не устыжайся своего рубища, старец… Истинное в человеке – токмо душа! Всё прочее – прелукавие… и обуза, и гнёт, от которых душа истощается и грязнет в грехах. А ты блажен, старец! Душа твоя покойна, сердце чисто.
– Блаженны чистые сердцем, – угодливо и великодушно гуднул Варлаам, – им дано лицезрение Бога.
– Проводи-ка, боярин, дорогого гостя к нашему столу, – обратился Иван к Захарьину. – Чаша заздравная уж полна и ждёт его.
Захарьин степенно, с услужливой и чуть показной вежливостью (знал же, какими глазами следит за ним вся палата!), повёл нищего к всходу на помост, помог подняться по ступеням, подвёл к столу, не торопя, усадил на лавку рядом с Темрюком. Михайло разулыбался перед старцем и в порыве хмельной, суматошной любезности даже придвинулся к нему панибратски.
Федька подал старцу заздравную чашу – братину-пролейку с круглым, как шар, дном: не поставишь такую на стол – опрокинется! Идёт она по кругу из рук в руки, пока не опорожнят её до дна, а дно её глубоко – в полведра чаша!
Старец принял чашу, как ребёнка из купели, поднялся с лавки, глаза вперились в царя, будто в образ, – будь руки свободны, так и закрестился бы на него, как на образ. Начал, как молитву:
– Всем рекам река Ерат, всем горам гора Авор, всем древам древо кипарис, лев всем зверям зверь, ты, государь, – царь всем людям и царям! Долго ждала земля наша твоего пришествия, долго ждала твоего возмужания. Не было воли единой над нашей землёй – и радости не было на её просторах. Сыны её неправедные тяжкими прокудами[204]204
Прокуда – вред, зло.
[Закрыть] изнуряли её и казнили муками разночинными. Писано убо: горе тебе, земля, коли царь твой отрок и коли князья твои едят рано. Благо тебе, земля, коли царь твой мужествен и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения! Здравствуй, государь, на благо земли нашей!.. Пребывай в благочинии, в крепости и мудрости, и свершится, как предречено: «Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо!»
Старец отпил из чаши, бережно, любовно передал её стольникам. Те отнесли её на боярский стол – и пошла чаша по кругу, посолонь[205]205
Посолонь – по ходу солнца, с востока на запад.
[Закрыть], из рук в руки, от одного к другому… Потекли заздравные речи, полилось вино… Виночерпии стали властвовать на пиру. Чинно и церемонно разносили они по столам ендовы и братины, ловко, умело и споро наполняли ковши и чаши. Так же чинно и церемонно творились здравицы: принявший заздравную чашу вставал, кланялся на три стороны, стараясь не расплескать вина, говорил своё слово, пил вино – и снова кланялся…
Старшим – боярам и окольничим – дозволялись большие здравицы: говорить они могли сколько пожелают, остановить их мог только царь, и считалось большим почётом, когда царь прерывал здравицу. Младшим – детям боярским, дворянам, дьякам – большие здравицы были не велены, велеречивость для них считалась неприличной, нечиновной, и боже упаси младшему быть прерванному царём.
Раньше на пирах царь прерывал только самых чиновных, самых родовитых… Нынче принялся прерывать чуть ли не каждого, и прерывал зло, нетерпеливо, от нежелания слушать, а вовсе не от желания почтить. Младших же, наоборот, слушал терпеливо, позволял им говорить больше обычного и пил с ними больше и охотней, чем с боярами, и кубки потешельные слал чаще… Раньше младшим, чтоб удостоиться чести получить из рук царя потешельный кубок, великую службу сослужить надобно было либо единым духом осушить до дна заздравную чашу. Службу младших, даже великую, царь редко замечал, ещё чаще её утягивали старшие, а заздравная чаша была велика – показать её дно царю мало кто мог! С чашей в четверть среди бояр справлялся только покойный боярин Хворостинин, меньший брат воеводы Шереметева – Никита да ещё воевода князь Воротынский. Воротынский однажды показал царю дно даже двухчетвертной чаши. Было это на царской свадьбе… Иван, не миловавший Воротынского за его злословие о своей невесте – Марье Темрюковне, не хотел как раз на своей свадьбе с Марьей слать Воротынскому по обычаю потешельный кубок за показанное дно заздравной чаши и повелел подать чашу в две четверти. Думал, что такую-то уж чашу Воротынский не осилит! Но Воротынский осушил громадную чашу, получил от Ивана кубок, да вот только на лавке не удержался: пришлось слугам вытаскивать его из-под стола, тащить прочь из палаты, на улицу, откачивать да везти в поганой телеге домой. Сраму добыл тогда воевода больше, чем почёта!
А среди меньших один лишь дьяк Василий Щелкалов неизменно показывал на всех пирах дно заздравной чаши, чем и привлёк к себе царский взор. Пошёл дьячина в гору, быстро пошёл и потому ещё, что не только в питии хмельного зелья ловок был, но и кое в чём ином!..
Нынче тоже не отступился Щелкалов, хотя нынче, как никогда, долог был путь чаши к нему, и он успел уже изрядно подпить, пока дождался своей очереди.
Приняв чашу, Щелкалов попросил виночерпия наполнить её доверху и, как обычно, обратился к Ивану:
– Дозволь, государь, мне, дерзкому, осушить сию чашу велию во здравие твоё, во славу твою, во многая лета твои!
Пил он долго, мучительно… В уголках его губ то и дело выступали алые, пенистые капли и медленно текли по бороде – казалось, не пьёт он, а заталкивает в себя что-то острое, ранящее его… Осушив чашу, он показал её дно царю и изнурённо, не имея уже сил раскланяться, опустился на лавку. Глаза его остекленели, рот, полный алой закипи, перекорёжило судорогой. Он тяжело и хрипло дышал, покрываясь испариной. Тяжко далась ему нынче заздравная чаша!
Иван смилостивился над ним, послал ему кубок без вина и повелел принять его сидя. Щелкалов попытался было благодарить Ивана, но из его судорожного рта не вырвалось ни единого мало-мальски внятного слова.
– Оставь свои потуги, дьяк, – сказал весело и потешенно Иван, – того и гляди обблюешься иль вовсе помрёшь! Исхабишь нам пир! Пото ль мы тебя пожаловали?! – Иван издевательски хохотнул. – Испросталось чрево твоё, дьячина… Чарочки тебе пригублять отнеле. Не суйся в волки с телячьим хвостом!
Иван, посмеявшись над Щелкаловым, оставил его в покое. Вспомнился ему другой питок – боярин Хворостинин, выпивавший четвертную чашу, как чарку, и заедавший её целой головкой редьки, что тоже было немалым дивом. Бывало, как начнёт Хворостинин хрумтеть редькой, пережмуривая в блаженстве наливающиеся слезами глаза, так у многих от этого хрумта такие корчи начинали проскакивать по лицу, что казалось, будто их сажают на кол.
Вспомнив о Хворостинине, Иван вспомнил и о его сыновьях, спросил: призваны ли они на пир?
– Призваны, государь, – ответили ему стольники. – В Святых сенях обжидаются, чтоб ударить тебе челом.
Иван повелел кликать их в палату.
Братья Хворостинины вошли несмело, поочерёдно… Первым переступил порог Андрей – старший из братьев, за ним – Дмитрий, за Дмитрием – Пётр.
Иван позвал их подойти поближе, и опять братья двинулись друг за дружкой.
– Вижу, в истинном законе взрастил вас отец ваш, – сказал Иван с удовольствием, когда братья приблизились к его столу и поклонились ему. – Назовите свои имена и скажите мне всё, что желаете сказать.
– Меня кличут Андреем, государь, брата моего, погодка, – Димитрием, а меньшего нашего кличут Петром, – за себя и за братьев ответил Андрей. – В летах мы несовершенных, но к службе поспели и умом здравы. Батюшка наш, помирая, наставил нас по сердцу своему и разумению и не хоромы отказал нам, не серебро, не злато, а путь к тебе, государь. Ни в чём более не виделось ему наше благополучие, опричь службы тебе, государь. Смилуйся, пожалуй нас, возьми под свою руку, службу укажи и место достойное.
– По воле своего сердца просите вы службы иль токмо по воле отца своего?
– По воле отца нашего, государь, и по воле сердца своего, – вновь ответил за всех Андрей.
Иван пристально всмотрелся в лица братьев… На меньшем, на Петре, глаза его задержались подольше, и суровей стала их пронзительная острота – будто что-то неожиданное высмотрел он в Петре, такое, чего не было в его братьях.
Пётр обник под взглядом Ивана, понурился…
– Едины ли вы душой?
– Едины, государь, – твёрдо ответил Андрей.
– То гораздо, – усмехнулся Иван. Улыбка его была лукавой, выжидательной.
– Нет… – вдруг еле слышно сказал Пётр, глянул на братьев повинно и потвёрже, но по-прежнему тихо прибавил: – Не едины!
– Молчать тебе годно, братец, коли чтишь завет отца, – сурово и спокойно пресёк его Андрей.
– Нет, пусть говорит, – властно вмешался Иван. – Нешто отец ваш заповедал вам таить предо мной свои души?!
– Рещи, отрок, – сказал ободряюще Варлаам. – Правда в твоих устах – покуда единое твоё достоинство. Так яви его с честью пред государем своим.
– Батюшка наш заповедал нам на смертном одре… садиться на коней и ехать к тебе, государь… Службы у тебя просить… и самим свою удачу поискать, – искренне и тревожно заговорил Пётр. Дмитрий и Андрей осуждающе отвернулись от него, давая понять и ему, и царю, что заранее отмежёвываются от всего, что скажет он.
Осуждение старших братьев было страшней гнева царя, но и оно не остановило Петра.
– Братьям моим, государь, воля батюшкина по сердцу пришлась… ибо сердца их честолюбивы и горды и служба им будет впрок. Моё же сердце покойно, государь… Его не прельщают чины и почести. Я повинился воле батюшкиной, но сердце моё, государь, противно воле той… Сердце моё уж давно избрало иной путь, и кличет оно меня, государь, на тот путь неотступно.
– Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его, – сказал ласково Левкий, но слова его были как заклятье на всё, что высказал и чего не высказал Пётр.
Пётр перевёл свой взгляд на Левкия – острые глаза архимандрита, как жала, впились в него…
– Истинно, святой отец, – сказал он твёрдым голосом. – Учителя мои також наставляли меня Святым Писанием! И многажды-много сказано было мне: избери сердцем и умом путь свой и тори его в меру сил своих, и блюди, чтоб чист был твой путь.
– Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души, – с прежней коварной ласковостью сказал Левкий и посмотрел на Ивана, как будто искал у него поддержки и согласия с собой.
Иван недовольно насупился: не любил он таких взглядов Левкия… Было в них что-то унижающее его, какая-то тонкая попечительность Левкиева ума, которая очень часто была совсем некстати и очень злила Ивана.
– Молчи, поп!.. – сказал раздражённо Иван. – Не лезь в мои разговоры.
Левкий покорно, но скорей лукаво склонил голову. Он словно играл с Иваном в какую-то одним им ведомую игру.
– Каков же тот путь, что избрало твоё сердце? – обратился к Петру Иван.
Руки его властно легли на подлокотники трона, голос приглушился, будто в груди спёрло дыхание. Завистливая, жгучая ревность забушевала в нём – ревность к этому своенравному юнцу, дерзнувшему отстаивать свою волю, точно так же, как когда-то в его годы дерзнул на это и он сам. Но у него был трон, он был великим князем, великим от рождения, кровью отцов своих вознесённый надо всеми, у него была власть, пусть не такая крепкая, как хотелось, но всё-таки власть, он мог повелевать и повелевал, и ему повиновались, и это воодушевляло его. А что было у этого юнца, кроме его дерзкой, своенравной души? Кем был он? Что он мог? Что могла его душа, его воля? Что воодушевляло его, и могло ли что-либо воодушевлять? Какие силы руководили им и заставляли поступать так, как, казалось Ивану, мог поступать только он один. Никогда он не допускал мысли, что среди всех людей, которых он знал и видел вокруг себя, есть хоть один человек, способный совершить нечто подобное тому, что совершил он сам.
И вот перед ним стоял юнец, в котором он узнавал себя, узнавал своё тайное и святое, двигавшее им и возносившее его на ту высоту, с которой он презрительно поглядывал на копошащееся у его ног людское стадо. Он выбирал из этого стада наиболее прилежных и угодливых, он не отказывал им в разуме и даже ценил его, не более, правда, чем угодливость и пёсью преданность, он пользовался их разумом, как пользовался кафтаном и сапогами, он любил их за эту преданность и готов был жаловать и возвышать, готов был оказывать им самые высокие почести, признавая за ними немало таких достоинств, в которых отказывал даже себе, но никогда не допускал мысли, что в душе у кого-то из них может жить такая же страсть, и сила, и целеустремлённость, такая же непреклонность и вера в себя, какие жили в нём.
Первым поколебал его еретик Фома. В пыточном подвале полоцкой градницы, где судьба в образе Левкия свела его с Фомой, он впервые увидел, как велика может быть сила духа и у тех, которым он отказывал во всякой истинности, у тех – простых смертных, не осенённых высокой и святой волей, не избранных ею, не ведомых великим провидением, а уповающих лишь на свою душу и в ней черпающих свою духовную силу, свою веру и истовость.
Но Фома был враг, вероотступник, еретик, и самым сильным чувством, которое он вызвал в Иване, была ненависть. Ненависть заглушила в нём всё остальное, она успокоила его, оправдала и подняла над Фомой. Теперь же Иван был обезоружен: не враг стоял перед ним и не от чего было возникнуть в его душе злобе и ненависти, которые стали бы такими же справедливыми судьями для этого юнца, какими были они для Фомы. Не за что было Ивану ненавидеть этого юнца, и тем сильней зашлась его душа от ревности…
– Мы благословим тебя!.. – сказал напыщенно Иван, и сразу стало ясно, что он кривит душой. – Благословим, ежели ты нуждаешься в нашем благословении и ежели… к добру подвигает тебя сердце твоё!
– Господи!.. Ежли бы я удостоился твоего благословения, государь, – прошептал Пётр, невольно выдавая своё сомнение в этом. На Ивана он не решился взглянуть и не видел, как изменилось царёво лицо – оно словно обернулось своей другой, дотоль невидимой стороной, страшно обнажив свою двуликость.
Пётр посмотрел на братьев… Их гневная отчуждённость словно придала ему силы, он решительно заговорил:
– Всё мне любопытно, государь… И пошто вода на огне кипит и жжётся, будто огонь, а пламенем не пылает?.. А плеснёшь её, сколько угодно разогретую, на огонь, и всё едино загасит она его. А вот ещё, государь, слышал я: в иноземных странах люди водятся презело хитрые и камень чудный сотворяют… Счастье людям приносит тот камень! А вот ещё, – заторопился Пётр, – люди те медь в золото обращают дымом таинственным и чистотел-травою. Слышал я про то от купцов иноземных… То мне страсть как любопытно, государь! Нешто и вправду золото можно чистотел-травою и дымом сотворять?
– Нешто не ведаешь, отрок, – сказал строго Варлаам, – что дым есть облачение сатаны?! И золото, что из дыма, – бесовское!
– Ведаю, святой отец, – доверчиво сказал Пётр, – однако же любопытно!
– Не гораздо твоё умышление! – тыкнул в него пальцем Варлаам – так, словно направлял на него какие-то тайные, злые силы.
– Богатым тщишься стать? – спросил Иван.
– Тщусь, государь!.. Токмо не златом, а разумом! Науки разные хочу постичь, книги учёные перечесть… Отец дьякон от Николы Гостунского, друкарь[206]206
Друкарь – печатник, типограф.
[Закрыть] твой, государь, сказывал, что в иноземных странах печатных книг больше, нежели рукописных, и в книгах тех, сказывал, премудрости многие заключены… не токмо святого божественного разума, но також и разума человеческого.
– А что ещё сказывал тебе отец дьякон? – с утаённой подозрительностью спросил Варлаам.
Густые, проседные брови епископа чутко натопорщились… Пётр, почуяв недоброе, умолк.
– Буде, то, что книги печатные суть разума человеческого изобретение, а не божественного? – с удовольствием подсказал Левкий.
Пётр медленно поднял глаза на Ивана – вопросительные, смятенные и доверчивые глаза. Из самой души смотрели они и не просили защиты, а только снисхождения.
– Отвечай святым отцам, – спокойно и безжалостно повелел Иван.
– Не слышал я такового от отца дьякона. – Глаза Петра враз стали жёсткими, прямыми, дерзкими и уже не выдавали его души – теперь они стояли на страже её. – Но сказывал он, что на славянской земле уж как полвека тому книги печатные делал какой-то сакун[207]207
Сакун – бытовавшее в то время прозвище белорусов.
[Закрыть] из Полоцка, Скорин по прозванию… И сказывал, что роду он был вовсе не знатного – купецкого иль вовсе мужицкого, но тому вопреки наук множество разных постиг, обучаясь во многих городах, в школах великих, коим название римское есть особое.
– Скажи то название…
– Не упомнил я его, государь… Больно трудное языку нашему слово.
– Университас, государь, названье тем школам, – подсказал угодливо Левкий.
– Университас!.. – повторил Иван и издевательски хохотнул. – Како ж ты в науки намерился… а единого учёного слова упомнить не смог? Срамиться ты токмо станешь, отрок… Род свой честный осрамишь да нас, московитов, перед иноземными дурной славой покроешь. Скажут: «Бестолочь московиты, и царь у них бестолков: пускает по свету несуразных людей своих!»
– Пошто же непременно сраму мне нанести, государь? Ежели какой-то сакун, мужик без роду и племени, смог постичь науки многие и презело искусно употребить их на добрые дела, то неужто я, сын княжеский, не подвигнусь более него? Неужто единое запамятованное слово так усомнило тебя во мне, государь?
Иван не ответил, он будто и не услышал Петра, хотя весь был как-то отчуждённо насторожен и чуток, глаза его прямо, в упор, смотрели на Петра, быть может, не так лишь остро и ревниво, как минуту назад: щадящая мягкость и невольное, должно быть, и им самим не ощущаемое сочувствие появилось в его взгляде.
– …Благословение твоё, государь, придаст мне сил и упорства… И ежели Бог подаст мне помощь в трудах моих, не статься никакому сраму, государь, а токмо пользе статься.
Иван молчал.
– Не подаст тебе Бог помощь, отрок, – сказал Левкий, подстёгнутый царским молчанием, – ибо не ведаешь ты, кому уподобляешься и в каки сети пагубные увлекаешь душу свою. Скорин был еретик, и дьявол споспешествовал ему!
– Отпусти меня, государь, в иноземные страны, – с мольбой, но твёрдо проговорил Пётр, не удостоив Левкия даже взглядом. Молчание царя тревожило его, но и вселяло надежду. Понимая неубедительность своих слов и отчаиваясь из-за этого, он всё-таки продолжал говорить: – Отпусти меня, государь… С благословением отпусти, дабы была в моём сердце и твоя добрая воля. И всё, в чём Бог пошлёт мне преуспеть… в науках ли, в ремёслах изящных иль в иных делах гораздых, – всё к твоим ногам положу, государь! Стану служить тебе и отечеству нашему прилежной и полезной службой.
– Коль нужен ты будешь отечеству?.. – тяжело и раздумчиво вымолвил Иван. – И полезен… в науках изощрённый, но дух его позабывший!
Ревность унялась в нём, побеждённая разумом, но внутренний голос говорил ему что-то более убедительное, чем Пётр, и более мудрое, чем подсказывал ему его собственный разум.
– Что пользы человеку от всех трудов его… которыми трудится он под солнцем? – вдруг сказал совсем неожиданное Иван, сказал – как повторил за кем-то. Смятение и злоба были в его голосе – злоба на самого себя за какое-то тайное насилие, свершённое над собой, над своей душой, над своей жизнью, от чего, должно быть, он хотел предостеречь Петра. – Ибо что будет иметь человек от всего труда своего… и заботы сердца своего? – с тяжёлой, кощунственной улыбкой спросил Иван словами Священного Писания – то ли у Петра спросил, то ли у всех окружающих.
Левкий и Варлаам переглянулись: Левкий понимающе, Варлаам недоумённо. Не понял он неожиданной перемены в Иване, не учуял в его словах той злой боли, которую учуял Левкий.
– Что?.. – вновь спросил Иван – теперь уже у самого себя, и, как будто услышав в самом себе какой-то внутренний и недобрый ответ, вновь тяжело усмехнулся: – Понеже все дни его – скорби, и его труды – беспокойство.
– Так глаголется, отрок, в святом писании, – присказал назидательно Левкий, скрадывая ласковым прищуром острую въедливость своих глаз.
– Ибо мудрого не будут помнить вечно, как и глупого! – возвысил голос Иван, продолжая по памяти строки святого писания. – В грядущие дни всё будет забыто!.. И – увы! – мудрый умирает наравне с глупым. Посему паче горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа.
– Истинно, государь, – качнул подобострастно головой Варлаам. – Истинно!
– Сам ли ты, государь, выбрал горсть с покоем? – сказал тихо Пётр, глядя Ивану прямо в глаза. – Подвиг твой – кому не прилёг? Да и писано, государь: «Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен». А також: «Превосходства знания в том, что мудрость даёт жизнь владеющему ею».
– Дерзок ты, княжич, и умён, – помрачнел Иван и крепко закрутил на груди руки. – Не по летам!.. И напрасно ищешь ты в святых заповедях согласие со своею душой… Нет заповедей, могущих оправдать её! Есть иная заповедь, истинная, непреложная: зри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Сию заповедь вложи себе в душу!
– Преимущество мудрости перед глупостью, как света перед тьмою, и у мудрого глаза его – в голове его, а глупый ходит во тьме. Сие також истинная и непреложная заповедь, государь!
– Сердце мудрых – в доме плача, княжич, а сердце глупых – в доме веселья, – с прежней, щадящей, назидательностью, но уже сурово и неприязненно бросил Иван. – Я позвал вас на пир, на веселие, дабы почтить и потешить вас, да вовлёк ты меня, княжич, в нудную беседу… Проповеднику уподобился я… скучному, хоть и терпеливому. Поглянь, все уж истомились от нашей беседы. И я истомился також…
– Стало быть, государь, не благословишь ты меня… и не отпустишь в иноземные школы?
– Не пущу! – тяжело и безжалостно сказал Иван. – Не пущу, княжич! – Голос его напрягся, стал холоден и властен, ничего доброго уже не сулил он. – Учёность твоя, умудрённость – чем-то она обернётся? Во всякой мудрости много печали. Нешто мало скорбей на земле нашей, у племени нашего? И от морока[208]208
Морок – темнота.
[Закрыть] нашего скорби наши, но и от мудрости також… Мудр наш народ, крепок его разум, дерзок, кощунствен… Ты тому прилог не гораздый ли? Без наук, без иноземных школ – вон како разум твой ополчил тебя супротив самого святого – супротив заветов отних! Корыстен зов разума твоего! – выкрикнул с негодованием Иван и, как будто сорвав голос от этого выкрика, перешёл на шёпот: – Кличет он тебя ради преходящего, суетного, скорбного… Куда повлечёт твою душу твой изощрившийся разум? Что закоренится в ней? Добро или зло? Не уподобишься ли ты иным вельми учёным мужам, иноземные школы прошедшим и нашим пожалованием и добротой призретым, но супротив нас же, государей, и навострившим свой кощунственный и дерзкий разум?! – Иван с надрывом привздохнул, натопорщил плечи, сильней сжимая себя сплетёнными на груди руками. Как будто зябко ему стало или страшно. – Мужи те презело просвещённы были… Мудры… Мы их служить призывали, польз и добродетелей от них ждали, уповая на их великую просвещённость… А они, душу с разумом в разладе держа, в негодном и дерзком измышлялись… Писания обличительные составляли… Слово, пространно излагающе нестроения и бесчиния царей и властей последнего жития! – шутовски, распевно протянул Иван, но глаза его пышили огнём ненависти, и злобен был его шутовской распев. – Так зовутся те писания, рождённые необузданным разумом просвещённых. И не было бы великой беды от тех писаний, да попадают они на глаза тёмным и глупым людям… Мудрый мудрому не указ, не светоч, ибо всякий мудрец себе на уме, а глупый уловляется сетями мудрых. Мудрования мудрых сдаются глупому светом растмевающим, молнией небесной, гласом вышней истины!.. И возмневает глупый себя прозревшим, и починают кипеть в нём страсти, и приключается беда… Ибо неуёмен глупый в своём устремлении: нечем ему унять себя – нет в нём разума. И приходит беда… Великая беда! С кровью, с муками, с изуверством! Сын подъемлет руку на отца… брат на брата… христианин на христианина. Умножающий познания умножает скорбь.








