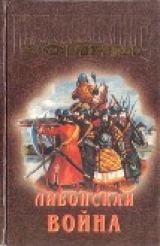
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 54 страниц)
В страхе, в отчаянье, в злобе и ненависти ждала Ефросинья приезда царя. Как ни старалась она скрыть свою тревогу, а более всего – свою злобу, просочилась-таки она сквозь стены её княжьих палат и разошлась вместе с её приказами по всей Старице. Приказы её были строги. Злоба злобой, а не хотелось Ефросинье ударить перед царём лицом в грязь – и расшевелила, разбудоражила она Старицу своими повелениями. Стали Старицу, как невесту к свадьбе, наряжать… Не было в Старице того великолепия, какое было у царя на Москве в Кремле, даже стен не имела она, обнесённая лишь земляным валом, но всё, что было в Старице мало-мальски видного и красивого, Ефросинья не оставила в застении. Княжеские приказчики чуть ли не всю неделю драли глотки и не затыкали своих плёток за подпояс, но приказы Ефросиньины все исполнили. Объехала она Старицу – осталась довольна. На пробу пальнули даже из пушчонки, установленной на раскате перед главными воротами, и пушкари получили от княгини алтын серебром с повелением не прозевать подъезд царя. Пропивая его в тот же день с привратниками в кабаке, расхрабрившиеся пушкари вели крамольные разговоры:
– Кабыть мы на тот час в иную сторону да не пусто пальнули, она б нам, ей-бо, сундук с новгородками выставила!
– Злоба праведна в ней… Сколь уж лет неотступна она. Души положила – будь-будь!
– Гляди, чиво будет!
– Будет – не убудет! Господарями нашими московиты станут. Царская воля дойдёт и сюды!
– Нам не бедей от того!.. Кабак и ярмо останутся!
– Всё едино, не своим помытом[123]123
Не своим помытом – не своей волей.
[Закрыть] под иного господаря итить лихо.
Хмельной взвар рассупонил и кафтаны и души, и пушкари с пьяной досужестью обхваливали прошлые времена – «за князем Ондреем!» – когда Старица была крепкой вотчиной, неподвластной Москве, со своими особыми укладами и законами, и, должно быть, думали, как и все ныне в Старице, что не в том беда, что царь на Москве грозный больно, а в том, что в Старице господарь слабый.
Ждала Старица… Ждала Ефросинья, томясь в своих вдовьих покоях, где каждый звук, каждый шорох стал возбуждать в ней мучительные предчувствия какой-то жестокой неотвратимости, вновь нависшей над ней, над её сыном, над её домом, и она опять и опять падала на колени перед иконами и молилась, молилась, молилась до изнеможения.
В субботу, к ночи, из загодного яма, что был в двадцати вёрстах от Старицы, прискакал конюх – царь с князем были уже там. И снова всю ночь провела Ефросинья перед образами, а утром, с рассветом, велела служанкам и нянькам доставать из сундуков свои одежды и украшения.
Разложили перед ней няньки сорочки, распашницы, сарафаны: тафтяные, лудановые, бархатные – рытого червлёного бархата, прямые, и распашные, и становые… Разнесли по лавкам телогреи, опашни, кортели, торлопы – с горностаевыми и куньими подбивками, с серебряными и золотыми нашивками, с ворворками[124]124
Ворворки – пуговицы в виде шариков.
[Закрыть] на провитых серебряной и золотой вителью шнурках; поверх телогрей и опашней пораскинули шубки – накладные и выворотные, из собольих, да куньих, да лисьих хребтов, к шубкам коптуры – лисьи лапчатые да песцовые, подбитые алым шёлком, из ларцов вынули серьги, перстни, жемчужные кисти, гребни прорезные из белой кости, бусы, гривны…
Выбрала Ефросинья адамашковую сорочку с круглым сборчатым воротом да опашень камчатый, стали няньки одевать её – с хлопотливыми прибаутками, с затейной весёлостью… Ефросинья была молчалива, мрачна, вяла, намучена, измождена душевными терзаниями и беспрестанными ночными молениями, лицо её было бледно-серо, как неотбелённый холст, большие глаза затенены разлившимися на щёки тёмными окружьями, уголки бескровных губ измяты скопившимися в них морщинками. Но и таким лицо Ефросиньи всё равно оставалось красивым. Ни подступающая старость, ни страдания, омрачившие её молодость, ни вдовство, ни двадцатилетнее затворничество не осилили ни её души, ни её тела: она по-прежнему была стройна, легка, величава, и дух её по-прежнему был силён и непреклонен.
Одна из нянек, вдевавшая ей в уши тройные серьги с лазоревыми зёрнами яхонтов, прицокнув языком, сказала:
– Ах и пригожа ты, матушка-княгиня! Нарумянить да подбелить, так и под венец не зазорно стать!
Ефросинья круто вскинула бровь, но смолчала; глянула на себя в серебряное зеркало – ещё сильней нахмурилась. Нянька прикусила язык.
Ефросинье поднесли подубрусник, положили на руки – надеть его на голову и убрать под него её выбеленные сединой волосы ни одна из нянек не решилась. Ефросинья взяла подубрусник спокойно, но, как только подняла его над головой, намеряясь надеть на себя, лицо передёрнулось, она отшвырнула подубрусник, тряхнула головой, рассыпая по плечам волосы, твёрдо сказала:
– Коптур надену… Песцовый. К седине моей – в самый раз! – Она примерила коптур, осталась довольна. – Да шубейку – вон ту!.. – указала на лапчатую лисью шубу, изрядно поношенную и повытертую. – И опашень переодену… Сарафан подайте! Иное для виду пригоже, а иное для крепости гоже.
В светёлку к Ефросинье вошла невестка Евдокия. Вошла, перекрестилась на иконы, приблизилась к Ефросинье, поздоровалась и поцеловала её руку.
– Здравствуй, Овдотьюшка, – сдержанно сказала Ефросинья, придирчиво оглядывая невестку. – Ты уж при нарядах! – Ефросинья ещё раз обметнула невестку пристальным взглядом и, должно быть, осталась довольна ею. – Брови, однако, черней сажи, – всё же пожурила она Евдокию.
Евдокия села рядом со свекровью, украдкой заглянула в зеркало.
– Брови и так – что медведи лежат! – не унялась Ефросинья, желая, видимо, не столько пожурить Евдокию, сколько заговорить саму себя, отвлечься от своих мыслей, успокоиться…
Ефросинья недолюбливала Евдокию. Не столько за то, что небогатая и не больно знатная красавица из некогда крепкого, вотчинного, но ныне захудалого рода князей Одоевских оказалась строптивой и, под стать самой Ефросинье, гордой и непокорливой, сколько за то, что Евдокия была второй женой князя Владимира. Развод князя с первой женой, постриженной в монахини, и женитьба на Евдокии тяжело переживались Ефросиньей. Истая христианка, строгая в нравах, старавшаяся воспитать в таком же духе и своего сына, она никак не могла смириться с тем, что её сын преступил евангельскую заповедь, гласящую, что всякий разводящийся с женой своею и женящийся на другой – прелюбодействует. Тяжкий грех, совершенный сыном, огорчал её, и эта горечь возбуждала в ней неприязнь к невольной виновнице сыновнего греха.
Однако она никогда и ничем не выказывала этой своей неприязни, не растравляла в себе своего затаённого чувства придирками и упрёками и только никак не могла удержаться, чтобы не поворчать иногда на невесткину красоту.
– Неужто князю приглядней сажа, нежели живая краса?
– Едино князю, что ли? – и кротко, и дерзко ответила Евдокия.
– Вот те на!.. – удивилась Ефросинья. – Про царя, что ль, сажи в брови наложила?
– Пошто – про царя? Про всех… Неужто мне в Москве боле не бывать, чтоб брать на себя стыд?!
– Эка блажь, – вздохнула Ефросинья. – Москва того не стоит, чтоб из-за неё красу свою живую марать. Не та в тебе гордость, Овдотьюшка, не та, милая… Ты уже не княжна Одоевская – ты княгиня Старицкая! Сией гордыней наполни свою душу! Москва для тебя – темница, а Старица – воля!
– Неужто затворницей стать, подобно тебе, матушка?!
Ефросинья резко повернулась к Евдокии – та не отвела глаз, не потупилась, кротко и преданно смотрела на Ефросинью. Ефросинья как будто смутилась под её взглядом, оглянулась на нянек, велела идти им прочь.
– Своей судьбы не желаю тебе… Толико ведай: стала Старицкой – так всеми бедами и несчастьями нашими причастилася. Не знать тебе иной судьбы! Идти бы тебе за дьяка, а не за удельного князя… Буде, последнего на Руси!
Ефросинья помолчала, прислушиваясь к затихающим шагам челядниц, потом взяла в свои ладони лицо Евдокии, тихо, спокойно сказала:
– Беда нам, Овдотьюшка… Чует моё сердце, не зря Ивашка к нам в Старицу намерился… Не зря, Овдотьюшка! Десять лет выжидал он… Должно быть, час настал!
– Какой час, матушка? – В глазах Евдокии зачернела тревога. – Пошто так кручинит тебя государев приезд? В Москве мы с ним рядом живём – ласков он с нами…
– Хитёр он, Овдотьюшка, хитёр и злобен… Ласковость и доброта его притворны. Никого он не любит и всех ненавидит, а более всего тех, кто супротивится его воле. А воля его безумна, грешна, порочна!.. Безудержна воля его, и сам он – будто пёс, спущенный с цепи!
– Матушка!.. – Евдокия зажмурилась от ужаса и вырвалась из её рук. – О государе!.. Матушка!
– Такой государь – уж не государь, а деспот! Слаб он был, хоронил клыки свои… Да нешто никто по нраву волка не разглядел в нём?! Нешто я единая, углядевшая в нём зверя с пелёнок?!
– Матушка! – вскрикнула Евдокия.
– Молчи! – закричала и Ефросинья. – Молчи… Старицкая ты, Старицкая!.. И не знать тебе пощады от злобы его, ибо и в твоём чреве вызрел достойнейший, чем он!
– Матушка!.. – обмерла Евдокия и покачнулась.
Ефросинья подхватила её, прижала к себе, жестоко зашептала в самое ухо:
– Недостоин он царства… Недостоин! И сам ведает про то… Ведает! Оттого и яростится, мечется, злобствует! Знает пёс, чей кус унёс! Страшно ему, что восстанут на него достойные и вытряхнут из шапки Мономаховой! А кто ему больший соперник, как не Старица? Кого ему больше страшиться, как не князя нашего да сына его?
– Како ж в глаза смотреть ему станешь, матушка? – прошептала Евдокия.
– Как и он мне!.. Поведаю я тебе нынче правду, Овдотьюшка. Таила я от тебя вельми много: не хотела тревожить твою душу без времени… Ан час настал! Знала я, что не суждено мне умереть спокойно и праведно. Сулится мне до края испить горькую чашу, наполненную Елениным ядом… Токмо князя уберечь бы от того яда.
– Ох, матушка, страшное в твоих устах!..
– Душа моя ещё страшней… Не положу я Старицу безропотно под его топор! Или он меня, или я его… Так судьбой сужено!
Ефросинья замолчала, руки её крепко обнимали Евдокию: она словно боялась, что Евдокия вырвется от неё, уйдёт, оставит её одну, а ей так необходим был сейчас рядом близкий человек – пусть и не понимающий её, и не поддерживающий, пусть такой же беззащитный, как и она, но только не одиночество, которое впервые за все двадцать лет её затворнической жизни стало для неё невыносимым.
Напуганная и занепокоенная Евдокия приникла к Ефросинье и затихла. Ефросинья, почувствовав её податливость, принялась рассказывать об Иване, об его отце – великом князе Василии, о жёнах его – Соломонии и Елене, обо всём том, что недавно в этой же самой светлице рассказывала боярину Челяднину во время его заезда в Старицу. И потекла вместе с её рассказом в Евдокиину душу бурная смута. Верила она Ефросинье и не верила, но неожиданность услышанного была так велика, что даже неверие не могло воспротивиться в ней ни единому нахлынувшему на неё чувству. И страх, и торжество – всё смешалось в ней, но торжество было сильней всего, и она сурово, с плохо скрытой заинтересованностью проговорила:
– Я бы жизнь отдала, чтоб наш князь на престол воссел!
– Царицей хочешь быть? – с какой-то тайной встревоженностью спросила Ефросинья и выпустила Евдокию из своих объятий. – Хочешь… – не дождавшись ответа, ответила она за неё. – Вон куда в тебя запал мой рассказ?!
– Неужто ты сама не хочешь видеть князя на престоле? – хлестнула её дерзким взглядом Евдокия.
– Затем токмо, чтоб правду восставить… И отомстить!
Старица встречала царя. Ещё до свету княжеские приказчики пошли по избам тормошить людишек и выгонять их на улицу… Приказывали к тому же, чтоб и одежонку надевали получше, не шли чтоб в рванье да отрепье, как ходят в кабак да хлев, а шли чтоб как в церковь, учесав и умастив бороды и не хмелясь, чтоб не плюхнуться ненароком под царские сани.
Мужики ворчали, но покорялись. Им и самим повадно было поглазеть на царя: такое зрелище не часто бывает, иногда единый раз в жизни, и пропустить его – огорчить себя навек.
К рассвету старицкие улицы были полны народа. Больше всего людей скопилось перед въездом в город и на торгу, мимо которого должен был проехать царь.
Весь старицкий клир, бояре, дети боярские, дьяки, купцы да те горожане, что были побогаче и поважней, встречали царя за городом – с подарками, соответствующими своему сословию: духовенство поднесло царю два бочонка вина монастырского, выдержанного, да бочонок воску ярого, бояре дарили кубки, ковши, ендовы, серебряные и золотые солонки, перечницы, дьяки да дети боярские дарили меха, ловчих птиц и тоже посуду, купцы подарили царю три постава сукон, три ларивоника шёлку, два косяка тафты ездинской да косяк бурской, пять зёрен жемчуга кафинского, да рыбий зуб, да мыло, да шафран, а горожане от всего города – сто рублей денег. Царь подарки принял и позвал всех на обед. Отслужили короткий молебен, царь пересел в открытые сани, позвал к себе князя Владимира, и царский поезд двинулся в город.
Охнула чахло пушчонка – должно быть, порох забили в неё ещё с вечера, а зелейника не закрыли, и он отсырел за ночь.
– А порох в Старице слаб, – сказал Иван, заумно улыбнувшись.
Князь Владимир, не уловив тонкого двусмыслия в словах Ивана, стыдливо опустил глаза.
Перед затворенными городскими воротами стоял воротный староста с большим ключом в руках. Дождавшись, когда сани с царём и князем Владимиром приблизились к воротам, староста торжественно поклонился и на вытянутых руках поднёс Ивану ключ от города. Иван по обычаю одарил старосту шубой, а староста, тоже по обычаю, промёл этой шубой дорогу перед лошадьми и подал знак открывать ворота. Несколько дюжих воротников проворно растащили на стороны тяжёлые створки, и царь въехал в город.
Старицкие улицы встречали Ивана совсем не так, как перед этим встречали его улицы Великих Лук, Торопца, Ржева… Народ стоял смирно, не было ни ликования, ни коленопреклонения: царь не был тут хозяином, он был гостем, и его встречали как гостя. Бесстрастно снимали треухи, бесстрастно кланялись – заученно, привычно, как кланялись дьякам и приказчикам. Редко-редко кто опускался на колени, и совсем не выносили из толпы подарков. А в Торопце, во Ржеве чернь одаривала его в свой черёд – мимо знатных и богатых: подносили ложки, черпаки, корцы – все в росписи и в рези, подносили замысловато сплетённые берестяные лукоши, липовые скопкари, долблёные крины, ваганы, дарили пояса, ножи, стремена… В Торопце один расторопный мужичина, видать, скоморох, положил Ивану в сани потешную маску – весёлую и глумливую, как и сама скоморошья братия.
Следом за Ивановыми санями шло уже полдюжины саней, набитых подарками, – они были укором Старице, но Старицу не задевал этот укор: она была проникнута иным духом – вотчинным, независимым, начисто лишённым будь какого почтения ко всем иным государям, кроме своего собственного – вотчинного князя. Столетиями прививался этот дух… Он был неистребим, ибо можно было заменить у удельного князя его бояр, приставить к нему иных слуг, но весь вотчинный люд переменить было невозможно. И дед Ивана, и отец, сознавая это, вынуждены были ограничиваться полумерами, заменяя у своих мятежных братьев только двор, хотя и понимали, что корни их таятся гораздо глубже.
Иван тоже менял двор у князя Владимира. Но иссушишь ли дерево, лишив его только листвы, не тронув корней?! А корни князя были крепки – они пустились в благодатную почву, удобренную ещё его отцом, и проросли сквозь души всех этих людей, с любопытством поглядывающих сейчас на царя.
Царские сани въехали на торг. Большущая толпа народа, заполнившая его, стала медленно расступаться на две стороны – медленно, неохотно… Васька Грязной, сидевший верхом на правой пристяжной, принялся рьяно работать кнутом. Из глубины толпы покатился ропот…
– Уймись, холоп! – громко сказал Иван Грязному. – Почто люд хлещешь и радость им мрачишь?! Ко мне они пришли!.. – Иван поднялся в санях – князя не поднял, только опёрся о его плечо. – Люди старицкие!.. – громко выкрикнул он. – Смерды, и холопи, и вольные, я, царь ваш, кланяюсь вам! – Иван низко поклонился, не снимая руки с князева плеча. Толпа как-то разом поотхлынула от саней, подалась в стороны – в страхе, в растерянности, в изумлении… – Да хранит вас Бог и радует милостями своими! – притишил голос Иван – нарочно, чтоб и дыхание затаили, слушая его. – Я, государь ваш, також рад жаловать вас. Полтретьяцеть[125]125
Полтретьяцеть – двадцать пять.
[Закрыть] рублёв кладу на вино! – Плечо князя Владимира дрогнуло под его рукой – Иван, должно быть, почувствовал это, ещё тяжелей опёрся на него и вновь крикнул в толпу: – Полтретьяцеть рублёв на каждый день, покуда буду гостить в Старице!
Толпа оторопело охнула, колыхнулась, вновь подавшись к царским саням, из неё вырвалось несколько радостных криков благодарности, но общей здравицы в свою честь Иван не дождался. Старица была неподкупна, и приниженность князя Владимира, сидевшего чуть ли не пленником в царских санях, действовала на неё сильней, чем щедрая царская милость.
Иван сел, чему-то заумно улыбнулся. Васька Грязной уже было тронул приостановленных им лошадей, но тут из толпы выбился невзрачный мужичина в нагольном кожухе, с топором за поясом, поклонился Ивану, кинув наземь свою шапку, вынул из-за подпояса топор, осторожно, но смело протянул его Ивану:
– Прими, государь… Единое, что имею за душой! Изведай, что и на сей земле чтят тебя!
Иван принял от мужика топор, с любопытством обсмотрел его, вызвонил ногтем лезвие, прислушиваясь к тонкому жужжанию отменно выкованной стали, тихо и даже скорбно сказал мужику:
– Како ж без топора обойдёшься?
– В холопи пойду, государь, – спокойно ответил мужик. – Что мне?.. Тебе вот без топора – лихо!
– Верно речёшь, мужик! – вздохнул Иван и вновь постучал ногтем по лезвию. – Добрый топор!
– Добрый, государь!.. От батьки моего ко мне перешёл…
– Ну, спаси тебя Бог, мужик! Вовек не расстанусь с твоим даром! А как расстанусь – быть и мне в холопях!
Васька тронул лошадей. Иван прижал к себе топор, облокотился на его обух – так и доехал до княжеских хором, опираясь на топор.
Старицкие хоромы вызывали зависть даже у Ивана: искусно и ладно было срублено удельное гнёздышко старицких князей. Срубили его тверичи ещё при князе Андрее и, должно быть, не без тайного умысла украсили его так затейно резьбой, шатрами, перевяслицами, причелинами, крыльцовыми навесами с водостоками в виде диковинных зверей и самими крыльцами, похожими на распахнутые ларцы, с длинными пологими сходнями, напоминающими расстеленные ковры. Тверичи никогда не упускали случая чем-нибудь досадить Москве, лишившей их удельной независимости, и постарались хоть хоромами возвысить удельного старицкого князя над великим московским.
– Чудные у тебя хоромы, братец, – сказал Иван Владимиру, когда въехали на княжеский двор. – Кремль бы целиком отдал за них!
– Шутишь, государь! – усмехнулся Владимир.
– А ты возьми!..
– Пошто мне Кремль? Вольготно мне и в Старице!
– Отдал бы!.. – сказал теперь уже самому себе Иван. – Постыла мне Москва…
Владимир недоверчиво скосился на него – промолчал. Иван почувствовал в его молчании неверие, ещё твёрже сказал:
– Станется воля Божья – оставлю её! В скит уйду.
– В скиту тебе не место…
– Почто же?..
Васька уже разворачивал лошадей перед Красным крыльцом, и Владимир медлил с ответом, рассчитывая, что челядники, бросившиеся навстречу, отвлекут Ивана и он забудет о своём вопросе. Но Иван настойчиво повторил его, и Владимир понял, что он не вылезет из саней, покуда не услышит ответа, тихо сказал:
– Душа у тебя иная…
– Душа?! – Иван рассмеялся. – Душа у меня праведная, братец, да обитает она в мире скверном и уж замаралась скверной!
Васька остановил лошадей точно перед крыльцом, ловко спрыгнул наземь и первым подбежал к Ивану, опередив старицких челядников. Иван передал ему топор, настрого приказал сберечь и привезти в Москву.
– Мы его в думной палате над дверью прибьём! – прибавил он, не отводя своих острых глаз от спускавшейся по ступеням крыльца с хлебом-солью Ефросиньи Старицкой.
Васька, видя, что княжеские челядники уже высадили с другой стороны саней своего князя, слегка потянул Ивана за рукав. Иван поддался Ваське, но как-то неохотно, словно боялся встречи с Ефросиньей. Ефросинья тоже замедлила шаги… Евдокия, шедшая рядом с ней, тревожно заглянула ей в лицо.
Княжеское подворье притихло.
Ефросинья не дошла шагов трёх до Ивана, остановилась, слегка преклонила перед ним голову, тихо сказала:
– Прими, государь, по древнему обычаю хлеб-соль. Старица милости просит, пожалуй с добром. И не обессудь за скромную встречу… Не вадны мы, бабы, встречать государя всея Руси, вадны лише встречать государя своей души. Вкуси, государь, хлеба-соли да дозволь нам поцеловать князя – государя душ наших!
– Тороплива ты, тётка, – сказал грубовато Иван, отщипывая от каравая кусочек. – А как подавлюсь я от твоей торопливости? – Иван посыпал солью отщипнутый кусочек, с удовольствием съел его. – Спаси Бог тебя, тётка! – поклонился он Ефросинье и передал каравай Ваське, затаившемуся за его спиной с топором в руках, с восторженной и наглой рожей. – И за хлеб-соль, и за искренность! Прежний дух в тебе!.. – Иван обсмотрел её жёстким, безжалостным взглядом. – А уж стара… Подумала бы о душе своей! Не примет её всевышний, ибо написано: «По упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам собираешь гнев на день гнева!»
– Гость ты мой, государь, – сказала сдержанно Ефросинья. – Не стану я с тобой пререкаться.
– На Русской земле я нигде не гость! – вскинул голову Иван. – На Русской земле я везде – хозяин! Запомни сие, тётка… Да и приспешникам своим внуши… Не вечно я буду добрым и милостивым! – Иван недвусмысленно посмотрел на топор в Васькиных руках, потом перевёл взгляд на Владимира – тот опустил глаза.
– Прости, государь, неприветливость матушки моей. Горести жизни и затворничество очерствили сердце её.
– Бог мне простит, князь! – непримиренно бросила Ефросинья.
– Матушка!.. – выдохнул Владимир. – Пошто мрачишь мой приезд в родной дом?! И ты, Овдотья, жена, пошто не испросишь позволения у государя поцеловать руку его? Совестно мне за вас…
Евдокия от этого неожиданного выговора мужа зашлась такой бледнотой, что даже губы побелели у неё. Видать, презрение к Ивану, внушённое ей Ефросиньей, натолкнулось на страх перед ним, и страх одолел презрение. Она бросилась перед ним на колени, припала губами к поле его шубы.
Иван поднял её с колен, но из рук не выпустил, жадно засматривая в её красивое, смятенное лицо.
– Оставь, братец, свои укоры, – сказал он Владимиру, продолжая цепко держать Евдокию. – Я на сноху не сержусь! И руки не стану ей давать… Мы с ней поцелуемся в уста.
Иван притянул к себе Евдокию и властно, с жестокой страстью поцеловал её. Владимир мнительно напрягся, как будто пережидал приступ боли, глаза его метнулись к матери, ища у неё хотя бы сочувствия, но Ефросинья с презрением отвернулась от него.
– Будем нынче веселитися, – отпустив Евдокию, сказал Иван. – Звал я людей старицких старших на обед, кличьте и вы… Пировать учнём! Тебе, Овдотья, в царицы место сидеть… Хочу так!








