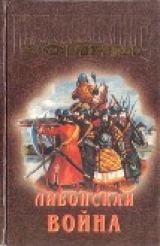
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 54 страниц)
Мартовский день уже не так короток, как зимний, когда после полудня света едва хватает на несколько часов, и ночь не так длинна – высидеть её на пиру не велика тягость, но нынче царь затеял такой пир, что к полуночи добрая половина гостей уже не держалась на лавках, и сам он, отяжелевший, мрачный, ушёл после полуночи почивать.
Васька Грязной, вместе с Федькой проводивший его в опочивальню, не вернулся на пир, хотя мог и вернуться: стеречь Ивана остался Федька, и Васька был свободен и мог бы покутить всласть, тем более что отсутствие царя развязывало ему руки. Хотелось ему покуражиться перед старицкими толстосумами и княжескими доможирами[126]126
Доможир – управитель домашним хозяйствам.
[Закрыть], покичиться нынешней своей важностью, ведь помнят, поди, они ещё бывшего княжеского псаря, помнят, каков он был – Васюха Грязной, бесправный, сирый, холоп… Но Васька устоял против такого соблазна. Больше, чем самого себя, хотелось ему нынче усладить царя. Знал Васька, что истосковался Иван по бабе: видел, как он Евдокию целовал, да и на пиру нет-нет и набегал на неё его похотливый взгляд. Может, оттого и пил он так много и жадно, что растревожила его Евдокиина красота, и, должно быть, завидовал он нынешней княжеской ночи.
Не мог Васька позволить, чтобы царь томился из-за таких пустяков. Решил он непременно подыскать ему девку…
Старицкие челядные девки были красивы и ладны – Ефросинья не брала в услужение дурных, разво что в прачки или в хлев, а теремные прислужницы были подобраны одна к одной, как бусины в ожерелье. Ещё обретаясь на княжеской псарне, навострялся Васька на них, но тогда они ему были недоступны, да и опасны: Ефросинья безжалостно карала за порчу любой своей девки – приказывала выхолащивать сластолюбцев. Теперь Васька мог и царя угостить знаменитыми старицкими красунями, и сам мог полакомиться… Никто не посмел бы и рта раскрыть теперь на него, даже сама Ефросинья, ибо видел он, что и она поприжала хвост перед царём.
Васька хорошо знал расположение княжеских хором, вырос в них и мог с закрытыми глазами пройти по всем горницам, светлицам, переходам, лестницам, знал все потайные углы, чуланы, схоронки, мог незаметно пробраться в любое место, вплоть до самых княжеские покоев.
Васька направился на Ефросиньину половину. Там, в подклетях, жило большинство челядных девок.
На этой половине хором было тихо, темно – ни свечей, ни лучин не жгли, только кое-где на лестничных переходах теплились масляные плошки да перед дверьми гостиной палаты в высоком напольном шандале доплавлялась последняя свеча, видать, нарочно оставленная Ефросиньиными няньками, принуждёнными время от времени наведываться в её покои.
Васька вынул эту свечу, прикрывая ладонью её слабый огонёк, чтобы не загас от случайного сквозняка, спустился в подклеть. Тут было посветлей. Над лестницей чадил масляный фонарь, и на переходе, что вёл в белый придел, где жила вся Ефросиньина челядь, тоже висел фонарь… В челядной палате – ночнице, где коротали ночь постельные няньки и прислужницы, дверь была отворена, из палаты выбивался свет, и слышались приглушённые голоса – няньки не спали, поджидая Ефросинью с пира.
Васька вспомнил, что под лестницей находится чулан, в котором хранили кудель. Дверь в чулан была незаперта. Васька вошёл в чулан, пристроил на пристенке свечу, осмотрелся – лучшего места для своей затеи он и не желал. Он притворил дверь, бросился на кучу кудели, полежал, пережидая прохватившую его дрожь, покорёжился, попотягивался, решительно подхватился, вышел из чулана, притаился под лестницей.
Ждать ему пришлось недолго. Сперва из ночницы выскочили две девки, резвясь, похлестались убрусцами и опять вернулись в палату. Оттуда донёсся остепеняющий голос старой няньки, но девки, видать, не послушались её, и она выслала их вон. Прихихикивая, они прошли мимо затаившегося Васьки и отправились в полусенцы – поостыть. Вслед за ними вышла ещё одна девка, подошла к лестнице, кликнула ушедших – те не отозвались, спрятались от неё.
Васька в истоме закусил губу – девка стояла совсем близко от него… Желтоватый свет фонаря, освещавший её маленькое, почти детское лицо, делал её ещё соблазнительней. Васька протянул из темноты руку, потянул девку к себе. Девка от страха только охнула и почти повалилась к Васькиным ногам. Васька подхватил её на руки, юркнул в чулан.
– Тсс!.. – приложил он палец к губам и стал ласково и похотливо гладить обезумевшую от страха девку, осторожно уложенную им на ворох кудели. – Коли крикнешь – ото тебе и смерть, – сказал он ласково и деловито стал общупывать девку – сперва через рубашку, а потом, задрав её, пустил свои руки прямо по голому девичьему телу. – Ну, отходь, отходь, сизушка-голубушка, – дрожащим голосом шептал он. – Вишь, не смерти твоей хочу, совсем иного… Не тельна толико ты… Тоща. Не уважу, поди, такой? Ишь, цыценки что пуговки! Не уважу, поди… Не единой красой насыщаете вы, бабы… Не единой!.. – шепчет Васька с укором девке и, не удержавшись, целует её в тёмное пятнышко соска.
Хочется Ваське угодить царю – готов себя обделить: млеет около оголённого девичьего тела, а терпит, боится оскорбить даже мыслью то, что предназначает царю. Но уж изведал Васька, что угодить ему непросто: он и в Полоцке подыскал для него девку, и такой красоты, что до сих пор ещё крутит судорогой Васькину душу, как вспомнит он о ней, а царь вышвырнул её на улицу, да и его чуть было вместе с ней не вышвырнул. Теперь Васька боится промахнуться…
– Поди, уж мяли тебя, сизушка? – спрашивает он, поглаживая девку по животу и ногам. Девка, чуть пришедшая в себя, поджимает ноги, натаскивает на них подол рубахи, тихо говорит:
– Перекстись…
– Да не чёрт я, не домовой… – Васька наклоняется над девкой, ублажаючи шепчет ей в ухо: – Ну-к сознайсь, сизушка-голубушка, сознайсь… Мяли уж тебя?
– Перекстись, – снова повторяет девка.
– Ух! – выдохнул ей в ухо Васька и, отстранившись от неё, перекрестился.
– О соромном допытываешь… – обмякает девка и засматривается на Ваську. – Старая княгиня грозно держит нас, нешто не ведаешь?
– Княгиня грозна, да вы плутовки! Нешто ни разу не сплутовала? – Васька вновь наваливается на девку, щиплет губами её ухо, шепчет с тяжёлой задышкой: – А как изведаю?..
Девка вздрагивает и вытягивается… В потревоженной тишине чуланчика замирает её истомный вздох.
На некоторое время в подклети замирают все звуки, словно боясь потревожить стыдливую затаённость чуланчика, но потом тишина разрушается – сперва быстрым перестуком шагов по лестнице, потом громкими, встревоженными голосами.
– Меня ищут, – говорит девка и ползёт к двери чулана. – Как бы не намерились сюды заглянуть…
Васька ползёт за ней следом, приваливается спиной к двери, ублажаючи говорит ей:
– Алтынный получишь – замани сюда непорченую… Самую ладную!
– Каждая всё про себя лише ведает. Буде, все, как я, грешны… А буде, я единая?! Прости Господи! – Девка быстро перекрестилась на огонёк свечи, всхлипнула. – Пусти… Кинулись уж меня! Слышишь?! Переполошатся встрасть!
– Не пущу! – рассердился Васька. – Что мне ваши переполохи?! Я не таясь могу выйти! Я знаешь кто?..
– Омилостивься!.. – взмолилась девка. – В портомои княгиня сгонит. – Она заглянула в чёрное Васькино лицо, поняла, что его не умолить, в отчаянье вышептала: – У княгини в опочивальне… Одевальница её… Чиста, как росинка. Княгиня в постель её к себе берёт… Пусти теперь!
Васька отпустил девку, подождал, пока унялся гомон, загасил свечу, осторожно вышел из чуланчика. В ночнице нянька отчитывала девок… Её сварливые вскрики заглушили Васькины шаги. Он почти бегом взбежал по лестнице, наверху помедлил немного, заколебавшись: это было очень дерзко – выкрасть из спальни Ефросиньи её самую любимую девку! Для самого себя Васька ни за что бы не решился на такое, но для царя!.. Васька ободряюще перекрестился и пошёл в Ефросиньины покои.
Девка, сидевшая в Ефросиньиной опочивальне за вышиванием, удивилась Васькиному появлению, но не напугалась. Она, должно быть, уже видела Ваську, когда на княжеском подворье встречали царя, и решила, что он явился с каким-то наказом от княгини, а может, и богатая Васькина одежда, враз бросившаяся ей в глаза, уняла в ней страх… Васька был выряжен роскошно и никак не походил на разбойника или вора.
Васька приблизился.
– Сизушка!.. – Он осторожно взял девку за руку и повёл из опочивальни. Девка, растерявшись, поначалу послушно пошла за ним, но, выйдя в предпокой, тревожно вскрикнула и стала вырываться.
– Боярин!.. Боярин!.. – умоляюще шептала она, догадавшись, что ожидает её.
…В горенке, что была по соседству с царской опочивальней, куда Васька затащил полумёртвую от ужаса девку, за столом перед свечой сидел какой-то человек. Васька, увидев его, с кошачьей ловкостью отпрянул к стене, оставив свою ношу на полу под порогом.
– Не пужайся меня, Василь Григорьевич, – униженно выговорил человек и, поднявшись из-за стола, поклонился Ваське.
– Кто таков? Откель меня знаешь? – с опаской спросил Васька.
– Савлук я… Дьяк княжеский. Помнить меня должен, Василь Григорьевич.
– Не помню! – зло бросил Васька и, отойдя от стены, наклонился над девкой, принялся одёргивать её задранную рубаху. – Пошёл вон, – сказал он грубо дьяку, укрыв подолом голые девкины ноги, – и гляди, голова разом с языком отлетит! Ведаешь, кому она?..
– Догадываюсь…
– Вот и гляди… – от довольства, что нашёл, чем запугать дьяка, помягче сказал Васька, опустился на колени перед девкой и начал осторожно поглаживать ладонями её безжизненное лицо. – Не померла бы… – озабоченно вздохнул он.
– Не помрёт, – сказал услужливо дьяк. – Оморочь нашла на неё.
– Пошёл, пошёл! – раздосадовался Васька, видя, что дьяк не думает уходить. – И пошто ты тут очутился? Пошто? – на миг забыв о девке, подозрительно повернулся он к дьяку.
– Я уж полночи тут, – ответил дьяк и вдруг потребовал: – Сведи меня к государю, Василь Григорьевич.
– Что?! – подхватился на ноги Васька. – Разумеешь, блазень, свои слова?
– Разумею, Василь Григорьевич… Оставь девку… Очнётся – сама уйдёт. Не до девок ноне… Крамола плодится в сем доме. О том тщусь поведать государю, и ты сведёшь меня к нему, Василь Григорьевич! А не сведёшь, то и ты, стало быть, заодно с крамольниками, бо ты також пестун сего дома!
Карамазая Васькина рожа стала серой, как рубаха лежащей на полу девки. Видать, его не больно ретивый и трезвый ум всё же сумел уяснить сказанное дьяком, и Васька струхнул…
– Тяжёл государь, – сказал он, враз присмирев. – Спит… Паче башку на плаху, чем разбужать его. А как в заутро?
– Бог весть, что станется со мной до утра?! Покуда сердце и ум во мне живы, хочу обсказать государю всё, что ведаю.
На полу шевельнулась девка, приподнялась на локтях, медленно повела вокруг глазами… Увидела Ваську – память враз вернулась к ней. Она рванулась в сторону, наткнулась на стену, затравленно вжалась в неё…
– Ступай прочь, – буркнул ей Васька и тоскливо сморщился.
Девка поднялась, оправила рубаху, шагнула к двери, а Васька, скосившись на неё жадной косиной, не удержался, перехватил её у двери и неловко поцеловал в губы.
Даже хмельной сон Ивана был чуток и тревожен. Стоило Федьке Басманову подойти к его изголовью, как по его лицу тотчас пробежала лёгкая дрожь, и под веками катнулись крупные голыши глаз.
Федьку страшила эта необычайная чуткость Ивана. Ему всегда казалось, что к этому причастны какие-то иные силы, неземные и нечистые… Он и сейчас с жутью подступил к нему: горло тяжело забило комом… Федька хотел кашлянуть, но получился стон.
– Цесарь… Человек к тебе.
– Какой человек? – не открывая глаз, зло спросил Иван.
– Старицкий дьяк. Дело у него…
– Вышвырни его вон, – выцедил сквозь стиснутые зубы Иван.
– Дело у него, – не отступался Федька. – Больно важное, цесарь!
– Вышвырни его! – подхватился Иван и выпучил глаза.
Федька попятился к двери… Иван в ярости порыскал глазами, ища, чем бы запустить в Федьку, – Федька покорно ждал, – но под рукой ничего не оказалось, и Иван, скрипнув зубами, опустился на подушки.
– Что за дело? – спросил он глухо.
– Хочет дьяк о крамоле известить… Вызнал он лихие дела Ефросиньины. Я пытал его, да отрёкся он от меня. Хочет лише тебе в глаза поведать.
– Приведи, – так же глухо сказал Иван и, поднявшись с подушек, сел на постели, свесив к полу свои длинные ноги.
Федька ввёл дьяка. Дьяк опустился на колени, припал лбом к полу.
– Встань, – раздражённо сказал Иван. – Ты потревожил мой сон не затем, мню, чтоб изводить меня своими поклонами? Говори…
– Неправды великие измышляют на тебя, Государь, в доме сем! Офросинья-княгиня воздух дорогоценный шила в Троицкую обитель… На воздухе том писано шитьём: «Сии воздух сделан повелением благоверного государя Володимера Андреевича, внука великого князя Ивана Васильевича, правнука великого князя Василия Васильевича Тёмного». И воздух тот она многим на глаза кажет, вот, деи, кто государь истинный, и подучает шепотников словами теми. Како ж мне, слуге твоему, таковое во ум не взять было да не раздумать – на добро иль на лихо сие деется?! Да како ж мне, раздумав, глазам твоим таковое не явить?!
Иван слушал дьяка, вонзив растопыренные пальцы в своё лицо: два оголённых глаза, словно выдавленные из глазниц, страшно смотрели из узких просветов между пальцами, но ещё страшней была его тень на противоположной стене, на которую нет-нет и поглядывал дьяк. Должно быть, эта страшная, уродливая тень, шевелящаяся от колеблющегося пламени единственной горевшей в спальне свечи, вызвала в дьяке какие-то иные чувства и мысли – совсем не такие, с какими он пришёл сюда, и он вдруг умолк.
– Что, дьяк?.. – отняв руку от лица, мрачно усмехнулся Иван. – Никак заколебалась твоя совесть? Жалеешь, что пришёл ко мне? Мнишь, не то войдёт в мою душу, что ты хотел бы?! Боишься, что злобу вселишь в мою душу и она ослепит меня?!
– Боюсь, государь, – прошептал дьяк.
Иван пренебрежительно хохотнул…
– Мнишь, лише сейчас придёт в мою душу злоба?.. И ты первый вселишь её в меня?! Ты принёс каплю…
– Капля море переполняет, государь…
– Ступай прочь от меня, – насупился Иван. – Ступай, коль душа твоя праведного зла страшится! Мне не потребны доносчики. Ступай!
Дьяк понуро пошёл к двери… Федька Басманов выжидающе замер. Знал он, как безмерно притворен царь, и не верил, что он на самом деле намерен отпустить дьяка. Этот дьяк, так искренне преданный ему и каким-то чудом уживающийся в Старице, где преданность царю негласно считалась изменой князю, мог стать для Ивана как раз тем человеком, о котором он постоянно мечтал, вспоминая и нередко рассказывая Федьке о дьяке своего отца – Яганове, которого тот держал в Дмитрове, в уделе своего самого злонамеренного брата Юрия. Этот дьяк не только сам вынюхивал крамолу в уделе князя Юрия, но и склонил к измене многих его служилых людей, от которых дознавался обо всех изменных делах и задумах удельного князя. Благодаря этому дьяку Василий довольно легко справлялся со своим непокорным братцем и до конца своей жизни держал его в узде.
Иван так восхищался этим хитрым и ловким дьяком, что даже доносы его великому князю Василию держал при себе, вынув их из великокняжеского архива, и время от времени перечитывал. Теперь и ему представлялся случай заиметь такого человека в Старице. Пусть не во всём равного тому, но, несомненно, верного и смелого, который может служить не за страх и не за деньги… Только такую службу ценил Иван, и только такой службы хотел бы от этого дьяка, и, вероятно, потому и повёл себя с ним так, что хотел получить в заклад его душу.
Федька заметил быстрый взгляд Ивана, брошенный в сторону уходящего дьяка. Дьяк замер, словно почувствовал этот взгляд, медленно обернулся:
– Душа моя изгниёт, государь, коли будет стоять осторонь… Дозволь служить тебе честью и совестью.
– Скажи своё имя, – с прежней суровостью приказал Иван.
– Савлук, государь, имя моё, сын Иванов…
– Службы твоей, Савлук, принять не могу, ибо писано: не может слуга служить двум господам… Служи моему брату, как служил, но, ежели станется тебе проведать о крамоле иль об иных каких злых делах, поступал бы ты как истинный христианин, и воздаётся тебе сторицею. – Иван помолчал, словно для того, чтобы дать дьяку время осознать всё сказанное им, и со вздохом добавил: – А за навет голову отсеку!
– Истинно, государь, – согласно преклонил голову дьяк. – Да кой мне прок поклёпы возводить?
– Не грешит, кто в земле гниёт, – сказал Иван.
– Истинно, государь. Да удержит меня Господь от преступления заповеди его. – Дьяк клятвенно окрестил себя.
– Будешь нам каждый месяц грамотки досылать, – враз изменив тон, повелевающе и сухо сказал Иван. – Через ямских людей московских… И делал бы сие неоплошно. Ежели станется сполошность какая – скакать тебе в Волок, в Звенигород или в Рузу, там дьяков моих поискать, а наместников сторониться.
– Разумею, государь!.. – Дьяк преданно и восхищённо посмотрел на Ивана, медленно осел на пол и поцеловал его босые ноги.
Иван спокойно вынес эту дьяческую благоговейность, повелел ему подняться, бесстрастно спросил:
– Более тебе нечего сказать мне?
– Скажу, государь… – Дьяк привздохнул: видно было, что он решается сказать Ивану что-то очень важное. Лицо его напряглось, томительным изломом губ проступило отчаянье. – Много всяких людей наезжает в Старицу… Новогородцы ин – непереходящие гости в княгининых палатах. О чём она с ними говорит, о чём свечается[127]127
Свечаться – совещаться, договариваться.
[Закрыть] – не ведаю… А вот недавно заезжал в Старицу твой боярин большой – Челяднин… Всю ночь княгиня взапертях с ним сидела… Да, знатно, проникло чьё-то ухо в их говорю, бо по дню и ввечеру пошёл средь челядных… дурной шёпот…
– Говори, – повелел Иван, чуя нерешительность дьяка.
– Прости, государь, но такое могу лише тебе… единому.
Иван приказал Федьке выйти.
– Говори же!..
– Ах, государь!.. Паче б мне на плаху…
– Говори! – Иван залапил дьяка за кафтан, притянул к себе и повалил перед собой на колени. – Говори!!
– Шёпот дурной почался, государь… будто княгиня московцу… Челяднину бишь… о твоём нечестном рождестве указывала… Матушку твою покойницу чернила…
Иван отбросил от себя дьяка – тот протянулся на полу, перешагнул через него и кинулся к стене, припав к ней руками, лицом, всем телом, как будто искал у неё защиты. Из горла у него долго прорывался один лишь яростный хрип и стон.
Дьяк в ужасе стал отползать к двери…
– Порождения ехиднины!.. – закричал и забился о стену Иван. – Да придёт на вас вся кровь праведная… пролитая на земле! Придёт… придёт на вас кровь праведная! – бился о стену Иван. – От крови Авеля… до крови души моей!..
На крик Ивана в спальню вбежали Федька и Васька. Васька кинулся к дьяку, вышвырнул его за дверь, а Федька, увидев бьющегося о стену Ивана, торопливо убрался прочь и утащил за собой Ваську.
Иван, выкричавшись, истерзавшись, изнеможённо осел на пол и, не имея сил подняться на ноги, на коленях пополз к образам.
До утра молился Иван и неистово бил поклоны, ссадив до крови лоб… Суровый мрак, как неусыпная стража, окружал его со всех сторон – безучастный, глухой и равнодушный к неистовой скорби его души. А на другой стороне старицкого дворца, в укромной тиши своей опочивальни, молилась Ефросинья. Ночь, тишина, мрак, Бог, молитвы, обращённые к нему, – всё это было общим у них, и даже души их, наполненные ненавистью и жаждущие мести, были как одна душа, но в этой-то общности и таилась та роковая непримиримость, которая неизбежно должна была свести их в смертельной схватке.
С рассветом Иван послал к князю Владимиру Федьку Басманова – сказать, что хочет ехать посмотреть его удел и чтобы князь ехал с ним.
Владимир не посмел воспротивиться, хотя наказ Ивана был явным издевательством: одну лишь ночь пробыл князь дома, да и ту почти всю провёл на пиру, – и вот опять по царской прихоти он должен оставлять дом.
Евдокия кинулась к Ефросинье, стала уговаривать её, чтоб пошла она к царю, упросила его повременить… Ефросинья зло выпроводила невестку.
– Не мне князя щитить! – крикнула она ей вслед. – Я могу лише оплакивать истого мужа!
Евдокия вернулась от неё в слезах, передала князю её слова. Князь огорчённо повздыхал, но смолчал – как будто признал правоту матери. Но Евдокия не хотела молчать…
– Пошто ты так покорен ему? – подступилась она к Владимиру. – Нешто холоп ты его? Нешто не волен ты с женой своей полюбиться?.. Нешто мало я тебя ждала?!
– Угомонись, жена, – строго осёк её Владимир. – Чую, уж наустила тебя матушка!.. В глаза готовы были впиться государю. А ранее ты благоволила ему!
– Слепа была – и благоволила!
– Ты и ныне слепа, ещё более!.. Я почитаю матушку и разумею гнев её… В тебе-то пошто быть гневу?
– Нешто душа моя не болеет твоею болью? Нешто не вижу я, как истязает тебя злая воля его? Мстит он тебе каждодневно и ежечасно и погибели твоей жаждет!
– Буде, и жаждет, – тихо сказал Владимир, – да вы с матушкой меня не спасёте. Скорее лише под его топор толкнёте.
– Князь!.. – Евдокия упала перед ним на колени. – Не говори так и не думай!.. Мы душу готовы за тебя положить! Токмо воспрянь духом!.. Ободрись! Покажи ему свою волю!
– Уймись, Овдотья! – ещё строже прикрикнул на неё Владимир. – В матушке я не волен, а в тебе, жене своей, волен и наказую: уймись! Не ведаешь ты, кто есть государь наш!.. Что за человек он! Не ведает и матушка… Что помнит и знает она о нём, проведя двадцать лет в затворничестве? А я двадцать лет живу с ним бок о бок, душу его слежу, мысли его угадываю, во снах его вижу… Страшен сей человек! – Владимир поднял Евдокию с колен, обнял, зашептал в самое ухо: – Всё он у меня порушит… Любовь нашу осквернит… Жизни наши истопчет! Страшусь я его, страшусь, Овдотьюшка, люба моя! Но не от страха покорен я ему, – ещё тише зашептал он, – не от страха, Овдотьюшка… Часу я жду… А покуда – боже упаси ворошить в нём огонь его! Пусть он жжёт его одного!
– Князь!.. – Евдокия охватила его лицо ладонями. – Неужто есть в тебе сила и воля?
– Я молю Бога, Овдотьюшка, дать их мне…
– Неужто будет тот час?..
– Ежели Бог милостив к нам…
– Я буду денно и нощно молить его! – Глаза Евдокии восторженно блеснули, она страстно поцеловала Владимира и так же страстно прошептала: – Хочу торжества твоего, князь!
Владимир осторожно отстранился от неё… Тоскливо, недобро ему стало от этой её воинственной страстности; понял он её истинные чувства и желания и пожалел, что открыл перед ней душу. Но не сделай он этого – как ещё можно было пригасить этот безрассудный огонь, зажжённый в ней его матерью. Понимал он, как буйно распылался этот огонь в её собственной душе, раз она с такой опрометчивостью бросила его в душу Евдокии, забыв, как велика разница между ней и Евдокией. Что было позволено и даже простительно ей, Ефросинье Старицкой, не позволено и непростительно было Евдокии!
Владимир хотел сказать об этом Евдокии, чтоб умерить её воинственность, но новая откровенность была тягостна для него, а иные, взятые не из души слова, не убедили бы Евдокию. Он только попросил её не лезть без нужды на глаза царю, покуда тот будет в Старице, и обещал выпросить у него позволения остаться в Старице на лето.
Евдокия успокоилась, утешилась неожиданной и столь приятной откровенностью мужа и даже сама заходилась собирать его в дорогу.








