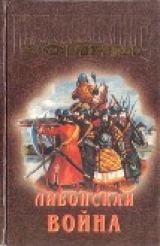
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 54 страниц)
Утро было ясное, морозное. Редкие облака парусили в высоком небе, медленно, друг за дружкой заплывая в широкую дугу окоёма – голубовато-искрящегося, будто подернутого тонким, прозрачным ледком.
Заканчивался январь. После долгого беззимья, нудившего землю сыростью и слякотью, с Рождества вдруг застудило, заметелило… Весь январь навёрстывал мороз потерянное ранее время – с редкими передышками-оттепелями, после которых ещё яростней принимался лютовать и изводить землю своими жестокими прихотями.
Пока войско стояло в Великих Луках, от январской стужи было где хорониться: жили по избам, по амбарам, по баням, в землянках в бору за Ловатью, а как вышли в поле – не стало от мороза спасенья. До Невеля дошли – пять сотен обмороженных набралось по полкам, и все из конных. Пехота, та ногами себе тепло добывала, а конный сидит в седле как истукан: ни рук схоронить – узды не бросишь, ни ногами подвигать – конь разойдётся, сидит и стынет, как сосуля. Одежонка не больно тепла: порты да зипун из крашеной холстины, душегрея, подбитая стриженой овчиной, чёботы из сыромятной кожи на мягкой, двойной подошве да короткая полсть – войлочная поддёвка под доспех. Поместные, да дети боярские, да те из служилых, кто побогаче, помимо казённой одежды, свою имеют: полушубки, кожухи, чёботы на меху да рукавицы, а рубеж[87]87
Рубеж – рекруты.
[Закрыть] – и пеший, и конный – терпит мороз в том, во что его казна обрядила.
Из Невеля вышли в самую лютость. Воевода Морозов, поведший вместо Токмакова передовой полк, велел конным спешиваться через каждые две-три версты и шагать, ведя коней в поводу. На дневных привалах шатров не ставили, но костры жгли большие, а на ночь ставили шатры, навесы, шалаши, для чего обязательно останавливались вблизи рощ и боров, и костры в ночь жгли уже поосторожней и поменьше, только чтоб натопить из снега воды и приготовить пищу. Морозов должен был подступить к Полоцку неожиданно – так решили на совете перед выступлением из Невеля, и он остерегался жечь ночью большие костры, чтобы не выдать свой подход раньше времени. В степи могли разъезжать литовские дозоры, и потому костры загораживали тынами и сразу же гасили, как только натапливали воды и приготавливали пищу.
Литовское порубежье, так же как и русское, было пустынно и малонаселённо. Перейдя границу, Морозов за весь первый день пути не встретил ни одной деревни, ни одного сельца, но чем ближе подходили к Полоцку, тем чаще стали попадаться деревни и сёла.
Ни русских, живущих на литовской земле, ни литовцев Морозову не велено было ни сгонять с земель, ни брать в плен, но у каждой деревни и у каждого сельца велено было выставлять заставы, чтобы никто не мог убежать и окольным путём донести в Полоцк о подходе русской рати.
Два дня шёл Морозов трудным, неторёным путём, таща перед собой тяжёлые торящие плоты – по дюжине лошадей на каждом. Около двадцати деревень преминул, столько же застав поставил. Поубавилось ратников в полку. Морозов стал ещё осторожней – лазутчиков слал вперёд на разведку по пяти-шести раз на дню: боялся воевода напороться нежданно на литовское войско.
В третий день, к ночи, вышли на большую Полоцкую дорогу. До Полоцка оставалось вёрст десять. В эту ночь костров жгли ещё меньше – только чтоб натопить воды и напоить лошадей. Ратники вечеряли всухомятку.
Морозов выслал дозоры в оба конца дороги: к Полоцку и от Полоцка. Оба дозора вернулись с добрыми вестями: и сзади, вёрст на десять, и впереди, до самого Полоцка, дорога была свободна – ни литовских отрядов, ни купеческих обозов… Первый дозор, ходивший к Полоцку, доезжал до самого посада, прямо под его стену, и видел, что ров перед острожной стеной, тянувшийся от речки Полоты до Двины, с верхом засыпан снегом и не расчищен, на проездных башнях ворота затворены, но мосты перед ними даже на ночь не подняты, – значит, не ждут литовцы под свои стены никакого неприятеля и почивают в беспечье.
Ратники коротали ночь в наскоро раскинутых шатрах, под навесами, спали на возах, укрывшись соломой и сеном, а то и вовсе на снегу, завернувшись в лошадиные попоны; дозоры без конца сновали по дороге взад-вперёд: воевода Морозов не мог и часа побыть в неведении и не давал дозорным передыху, а сам с Оболенским всё думал и думал, как проскочить утром посветлу эти оставшиеся до Полоцка десять вёрст – самые трудные десять вёрст!
– Ну, что скажешь, княжич? – допытывал он Оболенского. – Как тут незамеченным проскочишь, коли на сих десяти вёрстах ещё шесть деревень? Как огонь по желобку с порохом, побежит весть. Тут уж заставами не перенять: от деревни до деревни глазом докинешь. Не поспеем до первой дойти, уж в последней знать будут.
– Пехоту – оставить, – предложил Оболенский. – Пусть движется вольно, а с нарядом и конницей – на рысях! Лишь солнце взойдёт, как будем под городом.
– В пехоте – вид! Две тыщи голов! Поглядит Довойна на таковую кучу люда – нипочём не решится на стравку[88]88
Стравка – вылазка, бой с выходом из крепости.
[Закрыть]. Да и како без пехоты управиться: туры ставить, тыны наводить, ниши наряду рыть да раскаты ладить… Вместе подступать надобно! Не то нам Довойна баню с дорожки устроит. Хитёр он, дьявол! Я уж с ним не по первому разу сдыбываюсь.
До самого рассвета рядились воеводы. К рассвету порешили: идти всем вместе, встречных деревень не трогать, переполоху не учинять, а как только завиднеется Полоцк, пехоту оставить – с ней должен был остаться Оболенский – и с нарядом и конницей на рысях пуститься к городу. С ходу, не ладя ни туров, ни раскатов, начать палить по острогу, по посаду, а с подходом пехоты и пищальников учинить ещё пальбу и из пищалей и начать строить туры, городить тыны, рыть ниши, насыпать раскаты для тяжёлых пушек.
…Лишь только первые лучи солнца выглянули из-за края неба, воевода Морозов поднял полк. Впереди всех пошёл наряд. К его упряжкам припрягли ещё по нескольку лошадей, снятых с ненужных уже, брошенных торящих плотов. За нарядом плотным строем шла конница, за ней, почти бегом, положив на возы оружие, шли пищальники и пехота.
Первые несколько вёрст прошли быстро, потом пешие притомились, стали отставать от конных. Пришлось и конным поубавить ходу. Тысяцкие бесились на взмыленных жеребцах около своих тысяч: подгоняли, орали, мешая молитвы с матерщиной, сгоняли злость на сотских, которые тоже не жалели глоток…
Преминули первую деревню, жители которой и понять-то поначалу не поняли, что за войско идёт мимо, только расслышав русскую брань, пустились наутёк в ближайший лес. Во второй деревне было то же самое, но третья уже встретила русскую рать дружным безлюдьем и ещё не устоявшейся, только-только наступившей тишиной.
– Побежал огонёк по желобку! – сказал раздосадованно Оболенскому Морозов. – Теперь слушай, скоро и в Полоцке сполох ударят! Да уж не станет им встретить нас – прозевали! Токмо ворота закрыть да мосты поднять и успеют. Готовься, разделимся скоро. Токмо не мешкай, княжич, торопи пеших… Мне без пехоты не напужать Довойну. Я лише шуму да переполоху наделаю.
Громадное полое солнце вздымалось над белой утренней землёй. Небо из серого становилось сизо, а потом блестяще-лилово, как лезо закаливаемой на огне секиры. Облака всё плыли и плыли в широкую луку окоёма и таяли там на ярком огне солнца. Было много света, белизны и какой-то недоброй, кощунственной тишины.
– София! София! – вдруг громко закричал один из дозорных, ехавший впереди воевод, и, приподнявшись на стременах, указал рукой вперёд, туда, где в лучах солнца сверкнули золочёные купола собора Святой Софии – патрональной святыни Полоцка.
Прошли ещё с версту. Теперь уже завиднелся и сам Полоцк. Морозов велел ставить дозорную вышку. Быстро собрали её из готовых частей, послали наверх самого зоркого глядача.
Над полями тихо, сперва еле слышно, а потом всё громче и громче, загудел дальний колокольный звон. Тишина задрожала, заколыхалась и вдруг отделилась от земли, от её сонной белизны, от её утренней затаённости и унеслась ввысь. Тишины больше не было. Был свет, слепящая белизна полей и тревожный, далёкий звон.
– Ударили сполох! – сказал Морозов и крикнул наверх глядачу: – Долго ещё будешь пялиться?! Сказывай, что там?
– Мосты подняли! Вороты затворили! – сообщал глядач. – Каки-т конные!.. Буде, с сотню!.. От главных ворот за Двину уходят!
– К Радзивиллу нарочных Довойна послал, – сказал Морозов, дослушав глядача. – Гляди ещё, да позорче! Ну, чего там?
– Посад облюдел больно! – крикнул глядач. – Черно, как от муравья! По стенам человеки закопошились! Должно быть, к пушкам сходятся!
– Чего ж ещё? – буркнул Морозов. – Не мочиться ж на нас со стен! Пальбой встренут… Сколько вёрст, по твоим глазам? – крикнул он озабоченно вверх.
– Версты четыре! – ответил глядач. – Чуть боле, чуть мене…
– Ну, княжич, пора! – сказал Морозов Оболенскому. – Кидаюсь я!.. А ты поспешай! – Морозов перекрестился, по привычке опустил на шлеме носовую стрелку, подобрал поводья. – В поле – две воли: кому Бог поможет! Слу-уша-ай! – заорал он перед войском. – Конным!.. Наряд и зелейники!.. Полной рысью за мной – пошёл!
Когда Оболенский с пехотой и пищальниками подошёл под стены Полоцка, бой уже был в самом разгаре. Пальба стояла нещадная. Временами залпы русских пушек и литовских сливались, и тогда казалось, что под ногами трещит и раскалывается земля.
Воеводе Морозову приходилось туговато. Десяти его пушкам с полоцкого острога отвечали по крайней мере десятка три. Литовцы били головным боем[89]89
Головной бой – стрельба со стен прямой наводкой.
[Закрыть], залпами и в ряд, и такими сильными зарядами, что ядра, ударяясь в промерзшую землю, отскакивали от неё ещё шагов на сто. Не выбери воевода удачного места для своего наряда, не устоять бы ему против такого боя литовских пушек.
В одном месте, там, где крепостной ров соединялся с речушкой Полотой, стена острога круто загибалась, спускаясь к Двине, и вот тут – против этого острого клина, ограниченного небольшой башенкой, – и поставил свой наряд Морозов. Бойницы стен, сходившихся к башне под острым углом, смотрели в разные стороны, и литовские пушкари палили из них большей частью впустую или по коннице, которую Морозов отослал под стены – следить, чтобы литовцы не затеяли вылазку. Прицельно били по русскому наряду только с башни да из самых близких к ней стенных бойниц. Так что большого урона русскому наряду литовцы причинить не могли. Побило ядрами с десяток лошадей, одного возницу прихлопнуло перевернувшимся возом, разбило несколько зелейных бочек, но, благо, ядра литовцы кидали не калёные – порох в разбитых бочках не взорвался. Растрощило под одной пушкой тяжёлым ядром деревянную станину, отскочившей острой щепой прошило одному воротнику[90]90
Воротники – прислуга у пушек.
[Закрыть] живот. Его оттащили к дальним посошным возам, вытянули щепу из живота: он лежал на снегу в луже стылой крови и тихо шептал молитву, покуда не застыл на морозе.
Пушкари все были целы. Посошные и нарядная прислуга успели поставить им прочный тын, и он пока защищал их, хотя во многих местах прямые попадания проворотили в нём большущие бреши. Литовцы били прямым боем – со стены навесом ядро не пустишь, а тын лучше всего защищает от прямого боя, и пушкари надёжно укрылись за ним. Морозов же бил навесным боем – через стены. Его лёгкие пушки не могли ни пробить, ни причинить какого-либо вреда мощным, шестирядным дубовым стенам полоцкого острога, и воевода метал ядра за стены, туда, где копились люди. В двух горнах, устроенных рядом с нарядом, калили ядра и метали их из самой большой пушки на посад. От этих ядер вскоре занялось на посаде несколько пожаров, но литовцы их быстро потушили.
Подход русской пехоты встревожил литовцев сильней, чем стремительно наскочивший наряд с конницей. Тогда они думали, наверное, что русские пометают, пометают ядра, порыскают под стенами – и уберутся восвояси. Полоцк был грозной и мощной крепостью, и бояться сколько-нибудь серьёзного ущерба от таких малых сил русских в нём не могли. Но появление пехоты, видать, заставило литовцев задуматься – что же на самом деле затевают русские? Они даже пальбу на время прекратили. Перестал палить и Морозов, но Оболенскому велел срочно городить тыны для пищальников и ставить их поближе ко рву, откуда можно было стрелять прямо по бойницам, оставаясь недосягаемыми для литовских пушек, которые из верхних бойниц не могли бить по ним, а бойниц для подошвенного, низового, боя на полоцком остроге не было.
Пока литовцы думали-гадали да высчитывали, сколько русских собралось под стенами, Оболенский наставил вдоль рва саженей сто тына, расположил за ним пищальников и стал ждать, когда литовцы вновь посбегутся к бойницам.
Пехота стала подальше от стен – там, куда не долетали литовские ядра.
Раскинули временный стан, вновь выметнули смотровую вышку, выслали на неё четырёх глядачей. Посоха двинулись в ближайшую рощу за лесом: лесу нужно было много – на туры, на осадные башни и лестницы, на заборолы[91]91
Заборол – бревенчатый бруствер.
[Закрыть], на новые тыны. Те тыны, что были заранее заготовлены и привезены с собой на возах, уже были в деле, да и больше одного-двух дней даже самые крепкие не выстаивали – разбивали их, сжигали, и без конца тыны нужно было ладить вновь и вновь, ибо без них под крепостными стенами никакого дела сделать нельзя: ни ниш не нарыть, ни подкопа не подвести, ни мостов через ров не перекинуть. Тыны были самым удобным прикрытием: они были намного легче туров и заборолов, их легко можно было переносить с места на место, а зимой ставить на полозья и подходить с ними под самые стены.
Застучали на стану топоры, запылали громадные костры, оттаивая промерзшую землю, в которой нужно было рыть ниши, которой нужно было заполнять туры, из которой нужно было делать насыпи для раскатов под тяжёлые стенобитные пушки. Много дел было у пехоты и посошных. Оставив их под надзор тысяцких и сотских, воевода Морозов снова вернулся к наряду.
– Заряды поболе надобно делать! – указал он нарядному голове и десятским. – Погляньте, на берме[92]92
Берма – кромка между рвом и крепостной стеной или валом укрепления.
[Закрыть] сколико ядер лежит. Не долетают. Ночью собрать нарядитесь.
– Зелье слабо, – жаловались десятские. – Ямчуги в нём мало. Сыпем сверх меры, а пал всё одно слаб.
– Тишка, наш ядерный, из гузна пуще палит! – забалагурили пушкари. – Оглушил ужо, байбак!
– То во мне от натуги, – оправдывался Тишка – здоровенный сутулый детина, сидящий на куче ядер и лениво перекатывающий в руках четвертьпудовое ядро. – Я ж-но хапаю по две дюжины зараз… А се… – Он поприкинул в уме и договорил: – По шестипудов!
– Молодец, Тишка! – похвалил его Морозов. – Литвина надобно яро досадить!
– Нам то не в тягость, – с прежней важностью сказал Тишка. – Под Фелиной я пудовок по осьми брал. У «Медведя» сам стоял, сам и закатывал… Ан иные ядерные на пудовках по дву стоят.
– Горазд хвалиться! – задорили Тишку пушкари.
– Пошто хвалиться? – равнодушно отговаривается Тишка. – Про то вся Расея ведает.
– О-хо-хо! – захохотали пушкари. – Вся Расея! Эк и галагол!
Засмеялся и Морозов. Тишке, видать, смех воеводы не понравился больше всего. Он глянул на него с простодушным укором, перекинул ядро в другую руку, упорно повторил:
– Вся Расея… – Поморгал, подумал, добавил: – И вся Ливония!
– Ты удалец, Тишка, удалец! – похвалил его Морозов.
– Эк, удалец, – обиделся Тишка. – Я – дюжой! Батька мой на живом быку рога ломал, а я жеребца на горб беру. У себя в Ростове на торгу воз ржи на том выспорил.
– У вас в Ростове всё непростое! – опять поддели его. – Сказывают, в вашем Ростове ростовское озеро сгорело?
– То в вашей Рузе пироги пекут на пузе, – без зла огрызнулся Тишка и, поглядев на Морозова, поморгав, попросил его: – Мне бы вновь к «Медведю» стать, воевода-боярин! Что при сих-то хлопушках мне лень нагуливать!
– Приписан ты к нашему наряду, и быть тебе при нас! – строго сказал ему голова.
– Замолвлю за тебя словцо большому воеводе, – пообещал Морозов.
– Большой-то про мня проведан, он мня возьмёт, – уверенно сказал Тишка. – Я под Фелиной… – Но он не договорил: с острога ударила пушка, ядро отрекошетило от мёрзлой земли, перелетело через тын, упало рядом с Тишкой.
– Ишь ты! – и удивился, и напугался Тишка. – В мня целили!
С острога вновь выпалили – залпом. Несколько ядер попало в тын: полетели куски расщеплённых брёвен, взметнулся снег…
– По местам! – заорал голова. – Исполчиться! Пали!
Но пушкари не успели поднести фитили к зелейникам – с острога вновь ударили залпом. Тяжёлое ядро расшибло на левом тыну подпору – пять саженей тына рухнуло наземь. Три пушки, стоявшие против рухнувшей части тына, оказались совсем открытыми. Крайние бойницы острожной башни были нацелены прямо на них.
Тишка неуклюже, но быстро подскочил к упавшему тыну, ухватился за его край, медленно, упорно приподнял, навалил себе на живот, передохнул, снова упёрся…
– Пали! – крикнул растерявшимся пушкарям Морозов.
Все десять русских пушек хлестнули ответным залпом по острогу. Ото рва недружно, вразброд захлопали пищали. Пушкари после залпа метушливо кинулись перезаряжать пушки. Помочь Тишке было некому, да он и не нуждался в помощи: изловчившись, подставив сперва плечо, а потом спину, он поднял тын и держал его на себе.
Только у рва смолкли русские пищали, как крайние левые башенные бойницы литовцев полыхнули огнём. Со страшным треском несколько ядер вломилось в удерживаемый Тишкой тын. Снова полетели разбитые брёвна, взметнулся снег, тын рухнул, подмяв под себя Тишку.
– Пали! – яростно кричали и Морозов, и голова, и десятские.
Пищальники тоже успели перезарядить пищали и, наверное, теперь уже пометче ударили по бойницам, потому что литовцы ответили только несколькими отдельными выстрелами.
Когда человек десять воротников с трудом подняли развороченный тын и подпёрли его новыми подпорками, Тишка ещё был жив. Его перевернули лицом вверх, он открыл глаза, тихо сказал:
– Я в Ростове воз ржи выспорил… Целый воз…
– По местам! По местам! – отогнал голова воротников от Тишки – Тишка был мёртв. Голова положил ему на глаза по комочку снега, перекрестил и снова пошёл орать на пушкарей.
К полудню литовцы почти перестали отвечать на пальбу русских. То ли пищальники своей меткой стрельбой по бойницам вредили им, принося большой урон, то ли они успокоились, видя, что даже с подходом пехоты сил у русских было явно недостаточно, чтобы решиться на что-нибудь большее, кроме пальбы по острогу.
Воевода Морозов велел ставить свой шатёр. От пищальников прискакал Оболенский.
– Будем обедать, – сказал ему Морозов. – Притаились литвины… Гораздо ты пищальников поставил – поховались литвины от их пальбы. Теперь будут сидеть за стенами, как мыши. Ну, пущай! Нам того и надобно… покуда!
В русском стану пылали костры, заволакивая добрую половину неба чёрным дымом. Всё больше становилось палаток, шатров, намётов, навесов…
Из лесу бесконечной чередой потянулись сани с брёвнами, с голью[93]93
Голь – оголённые ветви и стволы молодых деревьев, из которых плели туры.
[Закрыть], с колотой чуркой и щепой для калильных горнов, везли хворост, валежник, везли лопастые ветки елей на шалаши и подстилы в шатры и навесы – везли, везли, везли…
Рядом с дозорной вышкой заалел воеводский шатёр. Воевода Морозов сел вместе с Оболенским за трапезу. Слуги подали горячий сбитень, много визиги, несколько ломтей хлеба, квашеный щавель, смешанный с тёртым хреном, подпечённые на огне головки лука. Морозов ел жадно, много – был доволен. Чавкая и мусоля об жирные нити визиги сивеющую бороду, ублажаючи говорил Оболенскому:
– Всё ладно, княжич! Аж заладно! Мнил, потяжче будет! Как прознал, что мне с передовым идти, раздосадовался. Да ещё вот так, на затравку, с десятью пушками проть такой громадины. Коли такое было? Не упомню за всю свою жизнь. Всё сё Басмановские примыслы. Испокон веку на крепости так не ходили. Всё едино, что по тонкому льду через реку. Да слава Богу! Удача от нас не отступилась. Токмо не верю я, что у Довойны рати за стенами немного, как уверял на совете Басманов. Тыщ десять держит Довойна за стенами. Ленив токмо он и надменен: ему на такое малое дело и на коня садиться не хочется. Небось сидит себе в детинце и посмеивается над нами, затеялась, деи, русская свинья рылом твердзу[94]94
Твердза – твердыня (польск.).
[Закрыть] нашу своротить!
Оболенский ничего не ел, только прихлёбывал горячий сбитень. Сидел задумчивый, молчаливый.
– Что за кручина в тебе, княжич? – затронул его Морозов. – От ежи воротишься… Не уедна? Так нет, добрая ежа! Мне во вкус. Вот похлёбку принесут…
– Всё Шаховского вспоминаю, – сказал с жутью Оболенский. – Я всё то глазами своими зрел… Как он его… И схоронить-то нечего было. Вот… – Оболенский слазил за пазуху, – кусок доспеха на снегу подобрал.
– Спрячь, спрячь, княжич! – отстранившись от еды, испуганным голосом проговорил Морозов. – И ни перед кем более не вынимай сие! Говорю тебе не токмо по страху, но и по уму. Пустую и неразумную злобу накапливаешь ты в своей душе, а злоба жадит токмо единого – выместиться! Вымещая ж злобу, человек слепнет. Сам ведаешь, польза которая от слепого?..
– Лучше ослепнуть от злобы, чем жить со слепой совестью! Не могу я, воевода, завязать своей совести глаза, запихнуть её за икону и служить ему… как служишь ты!
– Я служу отечеству, княжич, – спокойно сказал Морозов. – Служа отечеству, ты повсегда будешь иметь в своём сердце радость, ибо отечество повсегда справедливо и священно. И многое тогда перестанет мрачить твою совесть. Послушай, я изреку тебе, как я разумею жизнь… Сколико соблазнов в жизни, сколико сокрытых истин, которых человеку николиже не разгадать. Сколико неправд, сколико зла, сколико ужасных сил, которых человеку також николиже не одолеть. Человек приходит в жизнь – как птенец! Куда лететь, что делать?.. Ничего про сие человек не ведает. Кому служить, кому не служить, за кем идти и сопротив кого – також не ведает человек. Ему ныне мнится: туда идти, за тем – то верно и навек! А назавтра в душу ему входит смута и злость. Он начинает метаться, клясть и себя, и всё, во что ещё вчера верил и чему служил. И будто бы некуда человеку приткнуться, ибо всё вокруг зло… И будто бы некому и нечему ему служить, ибо всё неправедно и невечно… Ан есть! Есть, княжич! Отечество! Отечество, княжич! И ему токмо надобно служить, и к нему притыкаться душой! Оно николиже ни в чём не разуверит тебя, оно не явит зла, неправедности, ибо ничего в нём такового нет, как нет его самого – отечества, на которое ты мог бы позреть, как на человека иль на свет белый. Отечество невидимо, его будто бы и нет, но оно есть… Сё чутьё такое в сердце! Как в святом писании речётся про Царствие Божие?.. «Не приидет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно зде, или: вот, там! Ибо Царствие Божие внутрь вас есть!» Так и отечество, княжич, – оно внутрь нас есть! И благодарность от него ценней всех прочих благодарностей, ибо от него в твоём сердце повсегда радость. Не та радость, как от злата пристяжаемого, не та, как от чести и велиможества, а радость от вечного светоча в твоей жизни. Так вот я разумею жизнь, княжич!
Оболенский, выслушав Морозова, долго сидел задумавшись. Слуги принесли похлёбку, но уже и Морозов не притронулся к ней.
Неумолчно гремели пушечные раскаты, будто заходила сильная гроза или где-то рядом валили с корня кряжистые дубы. Даже в редких перерывах между залпами не наступало тишины: она надолго ушла отсюда, а Оболенскому хотелось тишины – хоть на миг, чтоб собрать воедино и ранее, и сейчас только возникшие в нём мысли и ответить Морозову (и самому себе!) на всё, что поднялось в нём от слов Морозова и что давно и тайно само по себе жило в его душе и тоже ждало ответа.
– Ежели бы… ты… был поп, – медленно, запинаясь на каждом слове, заговорил Оболенский, словно не хотел говорить этих слов, но, не находя других, превозмогал себя и говорил, – я бы посмеялся над тобой… Ежели бы ты был чернокнижник-филозоф, я бы також посмеялся над тобой… Но ты – воевода, и я дивлюсь! Тот, кто рождён для меча, живёт с мечом и часто умирает от меча, не так должен разуметь жизнь. Пусть ты держишь в руках истину – я и сам многократ так думал, – но я не приемлю и истины, ибо и она требует покорности и всетерпения, и она обрекает на рабство… А я не хочу быть рабом ни царя, ни истины! Я родился в роду, в котором никто никогда не прятал своей совести за икону и никогда ни у кого не был в рабстве. Мы все и всегда решительно и неотступно боролись за честь и славу своего рода!..
– И бесславно гибли! – перебил его Морозов, принимаясь за похлёбку. – Во имя пустой спеси! А могли бы погибнуть за отечество, оставив по себе добрую память… и образ, как жить иным в нашей непроглядной и забуреломленной, как тёмный бор, жизни.
– Верно, – склонив голову, согласился Оболенский. – Бесславно гибли…
В шатёр неожиданно вошёл тысяцкий Хлызнёв-Колычев, приводивший свою конную тысячу в стан для передыху и кормления. Вслед за ним вбежал вестовой казак и доложил Морозову:
– Глядачи с вышки кричат, что у третьей воротной башни литвины копятся! Конные! Буде, вылазку затевают?! А ещё глядачи доносят, что литвины со стен зады кажут.
– То нам не в страх, – сказал со смехом Морозов. – Пущай зады поморозят! Вот как бы они и вправду не вылезли… Из третьей вылезут – в спину пищальникам ударят… Самому мне надобно поглядеть, самому… Взлезу-ка я на вышку да и погляжу. А вы дожидайтесь меня тут, – сказал он Оболенскому и Хлызневу. – Погляжу – решу, что нам делать!
Морозов вышел из шатра вместе с казаком. Хлызнев подошёл к створу шатра, выглянул на улицу, после чего тихо сказал Оболенскому:
– Слышал я вашу говурю… У створа стоял… Не по любопытству! Не хотел перебивать… А стоял – сторожил, чтоб никто другой уха не подставил.
Оболенский вскинул на него испытывающий взгляд, но не сказал ни слова, только ещё сильней нахмурился. Хлызнев ободряюще глянул на него, совсем притишив голос, решительно сказал:
– Бежать надобно!
Оболенский отстранился от него, резко бросил:
– Се не по мне! Оболенские редко гибли за отечество, зато никогда не изменяли ему!
– Ты не доверяешь мне, князь?!
– То, что я сказал, я сказал не в защиту живота своего, боясь твоего доноса, тысяцкий, а в защиту своей чести!
Оболенский решительно вышел из шатра. Чуть помедля, вышел и Хлызнев. Воевода Морозов спускался с дозорной вышки, матерился, кроя и литвинов, которым вдруг взбрело в голову затевать вылазку, и глядачей, которые не могли точно сосчитать, сколько конницы скопили литовцы у воротной башни.
– Перед воротами сотни три-четыре, – сказал он, подходя к Оболенскому и Хлызневу. – А по затинам[95]95
Затин – место за крепостной стеной.
[Закрыть], буде, ещё тыща ухована.
– В таких воротах и три сотни подавятся, – сказал Оболенский, всматриваясь в башню, из которой собирались сделать вылазку литвины.
– Подавятся, коль мы их шугаем, – озабоченно проговорил Морозов. – А не шугнём, так им воля! Давай-ка, тысяцкий, – сказал он Хлызневу, – выходи со своими ко рву. Да гляди в оба, не то они высунутся из ворот, подманят вас под стрельницу да и пальнут дробом. Порысачьте вблизи, а как казака пришлю, пущай другая тыща идёт кормиться.
Хлызнев молча впрыгнул в седло, ускакал. Морозов долгим взглядом проводил его, со вздохом сказал Оболенскому:
– Також, как и ты, мается душой… Ладно, ладно, молчу, – заметив недовольство Оболенского, успокоил его Морозов. – Я ж не поучал тебя, княжич, не намерял ни на что – я поведал тебе, как разумею жизнь. Ты разумеешь её иначе – в том твоя воля, и дай тебе Бог донести её неизменной до гроба. А отступишься – раз! – он посмотрел на Оболенского – тот сжал губы, лицо его стало сурово, отчуждённо, – и в могиле метаться будешь!
В Полоцке, на Софии, ударили колокола.
– К обедне, – сказал Морозов и перекрестился. – А нам нынче не до Бога.








