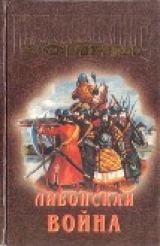
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 54 страниц)
Вернувшись из объезда, Иван стал ждать возвращения Оболенского. Спешился, но в шатёр не пошёл, остался с воеводами. Молчал – нетерпеливый, обеспокоенный, страшный своим молчанием и нетерпением.
Из своего шатра, стоявшего рядом с царским, вызырнул Михайло Темрюк. Порыскал глазами, попригляделся к Ивану – спрятался: видать, почуял, каково там с ним воеводам, и решил отсидеться в шатре.
Федька с Васькой вовсе не показывались… Как утром обрядили Ивана в доспехи, проводили в объезд, так больше из шатра и ни шагу. Сидели, затаившись, и ждали… Федьке хоть и не по нутру была такая нудиловка в шатре, но терпел: понимал он, что всякий бесполезный, праздный человек, вертящийся в такое время на Ивановых глазах, непременно обозлит его.
Васька подглядывал из-за полога шатра, весело шептал Федьке:
– Жуть страшная! Воеводы – как при смерти! А князь Володимер вовсе помер… Уж и глаза закрыл! А Серебряный – точно шиш! Харя у него иудина… Об одной такой харе – в ополонку! А он его воеводою… Полк ему! Иди поглянь! Иди! – соблазнял Васька Басманова. – На Шуйского иди поглянь!..
– Отстрянь! – изнудно отговаривается Федька. – Хари их я ещё буду зреть… Я б их знаешь как?!
– Точно! – восторгается Васька. – Всех бы их за мошонку крюком да рыбам на корм! А батька твой тоже хват!
– Он-то тебе – что?
– Мне ничего… А к царю хватко подлаживается!
– Не подлаживается, а дело его справляет.
– Да всё едино!
– Твоему уму всё едино, а царскому, стало быть, нет!
– До поры!.. – простодушно прихихикивает Васька. – Ведомо уж!
– Поры разные бывают! Мне ты також предрекал пору…
– Обшибся с тобой, – искренне сознается Васька. – Мнил, оттурнет он тебя… Да ты не серчай! – примирительно шепчет Васька. – Я же не по злу про батьку твоего… К слову… Мне он из всех один по нутру. Заумен токмо больно. Царь от таких себя таит. Ишь ты, ишь ты!.. – опять захихикал Васька, завзято и потешенно. – Левкий пришкутыльгал!
Левкий был обряжен для молебна: богатая риза из золотистой парчи, укаченная мелким жемчугом, узорчато обвитым серебряной вителью, на груди, поверх ризы, на золотой цепи – панагия, тоже густо обложенная жемчугом, на голове – высокая золочёная митра, в руках – серебряный крест…
Левкий был ненамеренно важен в своём торжественном облачении, выспрен, и даже хромота его была менее заметна. Лицо его и в мороз, и в зной не меняло цвета – было жёлто, как переспевший огурец, борода тоже желта, клином, как лемех сохи, только глаза под щетинистыми ресницами были удивительно изменчивы: то добровато-светлые, как ярый воск, и почти невидимые в глубоких, узких глазницах, то тёмные – иззелена, до черноты, – въедливые и прилипчивые, то затаенно-допытливые, умные, безжалостные, без единого блестка, сухие и чёрные, как прокалённые на огне бляшки.
Сейчас глаза Левкия радостно поблескивали – но какой-то нелёгкой, шутовской радостью, словно всё, что совершалось и должно было совершиться, было для него обычным и давно заскучавшим делом, опять подвернувшимся ему, как ручей на пути, через который волей-неволей нужно было перебредать, чтобы продолжить путь. Левкий и перебредал этот ручей – с вольготной спесью шута и затаённой удручённостью ленивца и даже с отвращением, которого он и сам не сознавал и потому не старался скрыть. Но, вероятно, жило в нём и исподтишка захватывало его предчувствие какой-то иной вольготности, которой он надеялся вдоволь потешить свою ленивую, но не чуждую страстей душу, и это предчувствие, вместе с настырной, шутовской спесью, превращало его удручённость в ту нелёгкую, но искреннюю радость ожидания, от которой и светились его глаза.
Перед Левкием воеводы расступились, пропуская его к царю, но Иван зыркнул на него отчуждающим взглядом – вонзисто, из-под бровей, отпугивая не глазами, а взморщинившимся лбом, и Левкий не решился подступить к нему. Молча оттоптался, отсопел, затих…
Воеводские души возликовали, но только души, лица же остались непроницаемыми и суровыми, чем-то схожими с доспехами, надетыми на каждом из них.
Левкий словно почуял это тайное ликование воевод: глаза его потемнели, слившись на переносице в одну узкую полоску, похожую на длинного чёрного червя, и этот чёрный холодный червь медленно обполз воеводские лица… Медленно, лениво – раз, другой, как будто испытывал их терпение. Не одна воеводская душа сжалась от холодного прикосновения Левкиевых глаз, но лица воевод остались по-прежнему неподвижны, словно замороженные. Они с намеренной пристальностью всматривались в полоцкий острог – благо, было куда смотреть! – защищая себя этой пристальностью не только от Левкиевых глаз, но и от невольного проявления своих истинных чувств, которые в такие тягостные минуты ожидания как раз трудней всего сдерживать в себе. Каждого из них и удивляла, и злила странная, наивная и столь упорная надежда царя на добровольную сдачу Полоцка, но, чем сильней наваливалась на их души досадная истома, тем напряжённей нацеливались их глаза на Полоцк.
Басманов тоже занудился напрасным ожиданием, понимая, что ни за какие посулы литовцы добровольно ворот не отворят, однако как ни заставлял он себя, а сказать об этом Ивану не решался – и не от страха вовсе, а оттого, что в нём ещё держалось на тончайшем волоске последнее – а вдруг?! И он не хотел опрометчиво, уступив нетерпению, обрывать даже этот ничтожный волосок: как знать, может быть, на этом волоске висело больше, чем судьба Полоцка, – его собственная судьба! И именно нетерпения мог не простить ему Иван, случись так, что Полоцк вдруг сдался бы, потому что даже себе не позволил Иван нетерпения, а то, чего он не позволял себе, он не позволял никому и никогда не прощал дерзнувшего посягнуть на эту недозволенность. Басманов лишь глянул на него хитроватым, соблазняющим взглядом, как бы говоря: чего, мол, тут ждать, всё давно уже ясно! – но Иван, всегда чуявший на себе даже мельком брошенный взгляд, на этот раз не почувствовал и не заметил взгляда Басманова: он был весь в себе – напряжённый, жестокий, измученный, растерянный, сильный и слабый, царь и человек, человек и царь… И Басманов вдруг остановил себя на мысли, что Иван вовсе и не рассчитывал, и не надеялся на сдачу Полоцка, и не ждал этого, а лишь оттягивал время, страшась сделать последний, самый опасный шаг, страшась переступить ту невидимую черту, пред которой всё прочно и ясно, пред которой всё ещё может остаться по-прежнему, от которой даже можно с честью и достоинством отступить, ничего не обретя, но ничего и не утратив, но за которой уже ничто не может быть ясным, ничто не может быть прочным, за которой уже не всё может статься так, как хочет он, и из-за которой уже невозможно будет отступить с достоинством и честью. За этой чертой его воля столкнётся с чужой волей, удача с неудачей, победа с поражением, радость с горечью, торжество с позором, и чей будет верх – предугадать невозможно.
Басманов вспомнил свой ночной разговор с Иваном в Невеле, вспомнил его вопрос о Полоцке – возьмут или не возьмут? – вопрос не праздный, не хитровато-самонадеянный, а тревожный, мучительный, вытолкнутый из него ожесточившимся сомнением, и понял, что не в Москве, не в Великих Луках, не в Невеле, а именно здесь, сейчас пришли в его душу самые острые сомнения, самые весомые да и нет, и именно здесь, сейчас он окончательно уверится или усомнится в успехе своего дела и в самом себе. Уверившись, он возьмёт Полоцк, чего бы это ему ни стоило, усомнившись, вернётся в Москву, бросив войско, как уже не раз делал, потому что везде и во всём мерой ему были только его собственная душа, его собственный ум, его умение, его вера, его твёрдость, его настойчивость и воля. Всё другое и все другие были не в счёт, и горе было бы тем, кто взял бы Полоцк вопреки его сомнению, победи оно в нём, но ещё большее горе будет всем, если они не возьмут Полоцк вопреки его уверенности. В этом Басманов не сомневался, но и не страшился этого, ибо твёрдо верил, что Полоцк будет взят. План, задуманный им и принятый царём, удался во всём, но, удайся он даже наполовину, Басманов и тогда не усомнился бы в успехе, потому что, как и Иван, он больше всего верил самому себе, своим предчувствиям, своей прозорливости и своей удаче, которая неизменно сопутствовала ему в его делах и задумах.
– Будет он наш! – неожиданно для самого себя выговорил вслух Басманов и смущённо покосился по сторонам.
Из воевод только один Серебряный взглянул на него, остальные будто и не услышали его возгласа. Зато Серебряный своим взглядом выказал ему презрение за всех. Но Басманова это только подхлестнуло… Он приблизился к Ивану, намеренно громко сказал:
– Не выстоять им супротив нашей силы! Довойна для чести токмо поупрямится, а как острог разобьём – сам послов пришлёт.
Иван покосился на него – не то удивлённо, не то непонимающе, но промолчал. Басманов заговорил ещё уверенней:
– Стены острога не новы… Довойна про сие ведает. Семь десятков лет не подновлялись…
– За семь десятков дуб под дождём да под солнцем упорней камня стал, – бросил Серебряный. – Да шесть рядов продолья. Нашим, московским, способом срублена стена… Ведомо тебе, сие, воевода?
– И что с того? – сдержанно спросил Басманов, глянув не на Серебряного, а на Ивана. Но Иван не показал ему своих глаз, отвернулся, только ухо насторожил – ждал, что ответит Серебряный.
– А то, что наших стен и Тохтамыш в бытность свою не разбил, – с досадой ответил Серебряный.
– Уж не тщишься ли ты сказать, воевода, – с каким-то тяжёлым спокойствием вымолвил Иван, – что мы зря пришли под Полоцк?
– Не зря, государь! – Серебряный напряг голос, чтобы скрыть досаду. – Но и шапкой Полоцка не сбить! Довойна – эвон! – Серебряный кивнул на знамя, вьющееся над полоцким детинцем. – Уверен, что отсидится за стенами, а Басманов тебе его уже головой выдаёт! С такой спесью не крепость брать, а баб мять.
– Усомняться – уже наполы не верить! – бросил Басманов.
– Погодь, Басманов! – пресёк его Иван. – Воеводы, поди, також думают, что нам Полоцка споро не взять? Ты, Шуйский, на совете лише посапывая… А ну-ка ответь!
– Я Дерпт за неделю взял, государь! – ответил Шуйский.
– А тут бы?..
– А тут не я голова.
– Ладно, – скривил губы Иван, будто хватал чего-то горького. – Ты, Серебряный?
– Не на прохладу пришли сюда – ведомо… – ответил Серебряный. – Толико – я и на совете говорил, и снова говорю – наскоком Полоцка не взять.
– А как?
– Искусным облежанием… Измором.
– Измором толико лисиц берут, – вставил Басманов.
– Не лезь, Басманов! – вновь пресёк его Иван. – Тебя уж я слышал!.. Скажи-ка ты, Мороз… На чём стоишь?
– На чём же я стою, государь?.. – смущённо и растерянно, и даже виновато, потому что, видать, твёрдо ни на чём не стоял, сказал Морозов. – Поторопней бы надобно управиться… Весна уж на носу… Распутье, слякоть и вся лихая!..
– Вот то-то, воеводы, – совсем беззлобно, мягко и как будто даже облегчённо сказал Иван. – Нам до распутья тут топчись негодно! Навалится весна – увязнем мы в ней, и самих себя не вытянем, не то что Полоцк добудем. Я сам все ваши мысли передумал, – неожиданно признался он и тягостно переморщил свой комкастый лоб. – Крепкий орех – сам вижу и разумею… Да расколоть нам его надобно непременно, и без мешканья. Не разобьём острога ядрами, я вас заставлю головами пробивать его. В том моя воля, воеводы!
«Вот оно – его!.. Утвердилось!» – подумал Басманов, но удовлетворённости не ощутил; решительность Ивана была слишком явной и твёрдой, и ему, Басманову, не суждено было уже ни поддержать её, ни добавить к ней ничего своего, на что он тайно и гордо надеялся, ему оставалось теперь лишь одно – уйти в тень и, как всем, неукоснительно исполнять всё, что потребует Иванова воля.
– Вельми лепо, государь! – просиял враз оживший Левкий. – Чую прежний твой дух! Аз бо уж засмутился, зря, како нудишь ты днесь себя. Взомнил, что всколебалась в те твердь твоя и ты проникся сомненьем. Да слава Богу, в прежней ты силе и тверди!
– Что, святой отец, мне должны быть неведомы сомненья? – с лукавым двусмыслием спросил Иван и за всё утро впервые открыто взглянул на воевод, не пряча от них своего лукавства и любопытства: для них спросил и для них хотел получить ответ. Какой – ему, видимо, было всё равно. Уняв в себе все сомнения, он теперь, как излечившийся от хвори, мог позволить и пренебрежение, и насмешку над своей хворью, но, спрашивая, он всё-таки знал заранее, что ответит ему Левкий, и был доволен, что воеводы услышат это.
– Ты – пастырь, государь! – возвысив голос, ответил Левкий. – Коли ты предашься сомнениям, паству твою и вовсе ужас обуяет! Без твоей твёрдости – все нестойки, без твоей прозорливости – все слепцы, без твоей силы – все бессильны! Будь твёрд, государь, да не возбранит дьявол помысла твоего! Вели отслужить молебен и с Богом принимайся за дело своё святое!
Молебен служили перед Большим полком – при развёрнутом великокняжеском знамени. На знамени – Нерукотворный Спас, а наверху древка – крест, что был у Дмитрия на Куликовом поле. С этим знаменем и крестом, освящённом великой Дмитриевой победой, Иван ходил на Казань, этот крест был с ним в Ливонии, теперь он пришёл с ним сюда, к Полоцку…
На молебне Иван стоял вместе с князем Владимиром. За ними – большие воеводы: Басманов, Шуйский, Серебряный, Бутурлин, Морозов… За большими воеводами – дворовые… Пришли на молебен и Федька Басманов с Васькой Грязным. Грязной стал позади воевод, а Федька обошёл их и стал чуть впереди – за спиной у Ивана. Сзади, за воеводами, там, где выбрал себе место Васька Грязной, стояло десять простых ратников. Так велось издавна: перед битвой на молебне вместе с царём и воеводами всегда стояли и простые ратники.
Перед самым концом молебна прискакал из Полоцка Оболенский. Спешившись шагах в двадцати от того места, где служился молебен, Оболенский приблизился на несколько шагов и остановился, держа в руках перерванную пополам опасную грамоту[99]99
Опасная грамота – грамота, гарантирующая безопасность, в данном случае – при добровольной сдаче города.
[Закрыть], которую он возил в Полоцк воеводе Довойне.
Иван скосился на него, задержал взгляд на перерванной грамоте и спокойно докрестился под усердный Левкиев аминь.
Окончив молебен, Левкий благословил царя и князя Владимира, благословил всех воевод, благословил ратников.
Иван отошёл от походного алтаря, стал под колышущееся на ветру знамя, поднял глаза вверх – на крест, страстно, как заклинание, произнёс:
– Вновь идём мы под твоим осенением!
Васька Грязной подвёл ему коня. Иван сел в седло, знаменосец поднял над ним знамя… Иван медленно поехал к стоявшей неподалёку рати. Воеводы двинулись вслед за ним – пешком. Даже князь Владимир не посмел сесть в седло, и его коня вели за ним в поводу.
Иван подъехал к передним рядам, остановился. Тысячи лиц опрокинулись на него… Морозный воздух густо дымился от тысячного дыхания, и сквозь его густую, колышущуюся дымчатость сизыми комками изморози проглядывали ещё тысячи и тысячи лиц, шлемов, копий, бердышей – неподвижных, замерших, словно вмерзших в этот изморозный воздух.
Иван привстал на стременах, выбросил в сторону правую руку и широко повёл ею, словно хотел обнять или привлечь к себе это громадное людское скопище. Рука его описала широкую дугу – он даже повернулся в седле вслед за рукой, чтобы увеличить размах, – и замерла у левого плеча, прикоснувшись к стальному наплечнику. Тысячное дыхание враз затаилось… Воздух очистился от дымчатости, и сквозь его прозрачность чётко и ясно, как на обновившейся иконе, вдруг проступили новые, совсем непохожие на те, что были минуту назад, суровые, иконообразные лица. И как перед громадной иконой, широко и торжественно перекрестился Иван перед этими лицами и громко, но не крича, выдерживая каждый звук, чтоб быть услышанным повсюду, произнёс:
– Воинники! Братья! Русичи! Приспела година вашему подвигу! Потщитесь единодушно пострадать за святые церкви, за православную веру христианскую, за исконную, единоземельную вотчину нашу и единородных братьев наших, томящихся под игом богоотступных литвин! Вспомним слово Христово, что нет большей любви, как положить душу свою за други своя! Припадём чистыми сердцами к создателю нашему Христу, да не предаст он нас в руки врагам нашим! Не пощадите голов своих за благочестие: ежели умрём здесь, то не смерть се, а жизнь! Ежели не теперь умрём, то всё едино умрём послеже, а от сих литвинов богоотступных как впредь вызволим вотчину нашу и братьев наших единородных?!
Гул раскатился по ратным рядам. Из ближних рядов кто-то отчаянно выкрикнул:
– Куды ты глазом кинешь, туды мы понесём свои головы!
И вся рать снова отозвалась на этот выкрик ликующим гулом.
Иван поднял руку – гул осёкся, лишь где-то в самых дальних рядах, как эхо, отдались его последние, слабеющие отголоски.
– Воинники! Я с вами сам пришёл! Паче мне здесь умереть, нежели жить и видеть вотчину нашу исконно русскую и братьев наших единородных в литовском плену… – Он помолчал, обвёл взглядом передние ряды, снова заговорил: – Ежели милосердный Бог милость свою нам пошлёт и подаст помощь, то я рад вас жаловать великим жалованьем! А кому случится до смерти пострадать, рад я жён и детей их вечно жаловать! И мне ведома нет – какова отца они дети, коль, на смертной игре супротив недругов наших голову положивши, оставил отец их сиротами. Но нечестно будет тому и детям его, кто не потщится умереть честно на игре смертной с недругом за моё великое жалованье царёво! Тот умрёт здесь от моей царской опали – за трусость свою и слабодушие!
– Всё едино умрём за тя, государь! – снова выкрикнули из ближних рядов.
Иван вновь приподнялся на стременах, словно хотел высмотреть крикнувшего, и громко сказал в ту сторону, откуда донёсся крик:
– Кто у меня верно служит и против недруга люто стоит, тот у меня и лучший будет!
Квязь Владимир вышел наперёд, стоя между Иваном и ратью, начал взволнованно говорить:
– Видим тебя, государь, тверда в истинном законе, за православие и вотчины наши древние себя не щадящего и нас на то утверждающего, и посему должны мы всё единодушно помереть здесь с богоотступными теми литвинами!
– Всё едино умрём! Умрём! Умрём! – закричали с разных сторон.
– Умрём! – прокатилось из стороны в сторону, и весь Большой полк, все пешие и конные дружно вскинули вверх щиты. Стоявший неподалёку полк правой руки тоже вскинул над собой щиты, и дальше, до самой Двины, покатился по остальным полкам грозный брязкот вскидываемых щитов.
– Дерзай, царь, – напряг до предела голос князь Владимир, – на дела, за которыми пришёл! Да сбудется на тебе Христово слово: «Всяк просяй приемлет и толкущему отверзется!»
Иван повернулся к знамени, перекрестился на образ Христа и, не отрывая от него глаз, громко сказал:
– Владыко! О твоём имени движемся!
Воеводы обступили его: он оглядел каждого, словно пересчитал их. Глаза его не вмещали огня и радости, и он пучил их, как грудной ребёнок, забыв в это мгновение, что он царь и что ему не пристало шалеть от радости и пускать пузыри изо рта.
– С Богом, воеводы! Отстраним от сердца всю смуту, обиды!.. Я, государь ваш, говорю вам: любовь моя и жалованье моё – с вами! Вооружим сердца ненавистью к нашим врагам и послужим Руси, как служили ей наши отцы и деды! С Богом, воеводы!
– Тебе первый выпал, государь! – сказал Алексей Басманов, протягивая Ивану тлеющий фитиль.
– Нет! – враз насупился Иван. – У меня рука тяжёлая. Пали сам… Нет, погодь!.. Васька! – подозвал он Грязного. – Тебе поручаю первому выпалить по Полоцку!
– Ух! – ошалел от радости Васька и, приткнувшись к Иванову сапогу, поцеловал его.
– Гляди, не помри от радости, – с довольной усмешкой сказал Иван. – Жаль будет: иного придётся искать!
– Я перво выпалю, уж посля помру! – восторженно оскалил белки своих ярких глаз Васька и, выхватив из рук Басманова фитиль, пустился бегом к стоящим неподалёку лошадям.
– А мне что поручишь? – спросил с недовольством Федька.
– А что хочешь! – засмеялся Иван. – Ступай воеводу Довойну в плен возьми! – И, оборвав смех, тоже с недовольством обронил: – При мне будь! И ты, Михайло!.. Коль не хмелен ещё… А хмелен, так поди прочь с глаз!
– Не хмелен, государь, – не очень твёрдо сказал Темрюк. – В такой день!.. Иной хмель душу веселит!
Резкий, разломный звук яростно вспорол прочную утреннюю тишину. В той стороне, где стоял стенобитный наряд, поднялось пепельно-черное облачко дыма. – Почалось!.. – от волнения сорвавшись на шёпот, вымолвил Иван и перекрестился.








