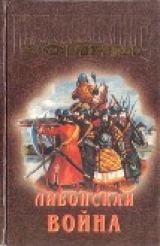
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 54 страниц)
– Государь! – Темрюк упал перед Иваном на колени, яростно, восторженно метнул к нему руки. – У тебя – сын! Вчера, на рассвете!..
Иван только-только вылез из саней… Темрюк и шагу не дал ему сделать, загородил дорогу к крыльцу, где с подарками ждали Ивана старицкие бояре.
– Благодарю тебя, Господи, за дар твой! – медленно перекрестился Иван, поднял глаза к небу и радостно, по-детски, улыбнулся. – Благодарю и тебя, Михайла, радость привёз ты мне… Истомилась моя душа по радости, истомилась вкрай! Подымись, Михайла, поцелуемся! Ты – за племянника, я – за сына!
Михайло поднялся с колен, поцеловался с Иваном. Вылез из саней и подошёл к Ивану князь Владимир, радостно протянул к нему руки:
– Дозволь поздравить тебя, государь! – Даже сейчас Владимир не решился назвать Ивана братом.
Иван поцеловался с Владимиром, тяжело, по-мужски, но чуть-чуть стыдливо стёр со щёк быстрые слёзы. Подковылял Левкий, перекрестил Ивана, торжественно проговорил:
– Боже Вседержителю, творче и всему Создатель, просвяти, Господи, день сей! Радуюсь радости твоей, государь! Корень древа твоего упрочился!
Старицкие бояре остались на крыльце – ждали, пока царь сам обратит на них внимание. Ефросиньи среди них не было.
Иван стал расспрашивать о здоровье царицы, спросил: мучилась ли она или легко разрешилась от бремени?
– Мучилась, государь, – отвечал ему Михайло.
Иван огорчился, но Левкий – вездесущий Левкий! – мигом утешил его.
– Волей Всевышнего завещаны муки сии, государь, – поласкал он Ивана своей дьявольской, совращающей улыбкой. – Написано: умножая умножу скорбь твою в бремени, и в муках будешь рожать детей. Не мрачись пустыми кручинами: ты також в муках рождён, а пребываешь в светлости и благополучии! Вели пир учинить, да покрепче, чтоб от радости твоей враги содрогнулись!
– Быть так, поп! – засмеялся довольно Иван. – Отпразднуем – да на Москву!.. Окрестить младенца надобно. – Взгляд Ивана вновь обратился на Темрюка: воронёные глаза шурина заискивающе поблескивали. – Тебе, Михайла, за добрую весть – сто рублей от меня да полёта – от новорождённого! Угрим отсчитает, – кивнул Иван на насупившегося Пивова.
– Пуста казна, государь, – невозмутимо и твёрдо сказал Пивов. – Ноне кабатчикам до твоего посулу свои доложил.
– Угрим! – грозно и усовестляюще глянул на него Иван.
– Пуста казна, – ещё твёрже сказал Пивов, снял с себя шубу и кинул на руки Темрюку. – Хребтовая, печорских соболей… В Холмогорах сто двадцать рублёв исплатил. Тридцать рублёв, поди, уж простишь племяннику, Михайла Темрюкович?!
Михайло осмотрел шубу, понял: дьяк врёт на добрых сто рублей, да и не шуба ему нужна была, а деньги, но гнаться за Иваном, уже поднимавшимся по ступеням крыльца к старицким боярам, и жаловаться на самовольство упрямого дьяка Михайле было неприлично, да и неизвестно ещё, как на это посмотрел бы Иван: такая жалоба могла ему показаться вымогательством, а такую мысль возбудить в нём не дай Бог никому!
Михайло с презрением швырнул дьяку под ноги его шубу.
– Пошто мне твои обноски, холоп?! – выцедил он ненавистно и важно пошёл к крыльцу, где Иван терпеливо выслушивал поздравления княжеских бояр и принимал их немудрёные подарки.
Бояре угодливо и льстиво суетились вокруг Ивана – как-то уж особенно угодливо и льстиво, будто были в чём-то виноваты перед ним. Утаиваемая, но неутаенная тревога сочилась из их глаз, сползала с их рук, подносящих Ивану дары, взвучивалась в их слова, которые они говорили ему… Иван как будто не замечал ничего этого – улыбался счастливой, довольной улыбкой, с весёлым любопытством разглядывал подносимые ему подарки, прежде чем передать их Федьке или Ваське, но несколько раз улыбка на его лице как бы мертвела, глаза с недоумением обегали бояр, выискивая среди них кого-то, кого – он, вероятно, поначалу и сам не знал, только чувствовал, что что-то не так, что кого-то нет… Бояре-то знали, кого он выискивал, знали, кого нет… Среди них не было Ефросиньи!
В отчаянье и тоске, почти не дыша, стоял за спиной Ивана князь Владимир. Он сразу заметил отсутствие матери и понял: кончилась пора хитрых выжиданий и тайных злобствований, всё пошло в открытую. И не знал он, что будет, и не хотел знать… Тоска залегла в его душу, как медведь в берлогу, – живая, когтистая, подлая тоска, и так тяжело было, что кинул бы он свою душу Ивану под ноги, пусть топчет, пусть истязает, пусть вымещает всю свою злобу, только бы не чувствовать этого тяжкого, надсаживающего бремени, залёгшего в его душу.
– А не схоронили ль без нас твою матушку, братец? – повернулся к Владимиру Иван, стараясь остаться только насмешливым, но злоба уже закусила свои удила и понесла его душу, понесла… Он яростно оттолкнул обмерших бояр и пошёл, как идут на казнь за правое дело. Пошёл по переходам, по лестницам – легко и грозно, выставив вперёд, как таран, свою большую, страшную голову. Выхраненная тишина Ефросиньиных покоев задрожала от его яростной поступи, зашуршала, зашелестела, отползая и спасаясь от настигавшей её безжалостности, и не смогла отползти, не смогла спастись – не успела, растоптанная им.
Маленькая дверь Ефросиньиной опочивальни не скрипнула, а как будто жалобно вскрикнула от удара его тяжёлой руки. Иван, наклонив голову, решительно ступил за порог и остановился, страшный, безжалостный, исступлённый, не человек, не зверь – ком злобы и ненависти.
Ефросинья, молившаяся перед образами, тяжело поднялась с колен, медленно подошла к нему, тихо сказала:
– Опричь моего мужа, никто из мужчин в мою спальню не заходил. И тебе велю выйти вон!
Их души, их злоба, их ненависть столкнулись – как сталкиваются в степи огонь пожара и огонь, пущенный навстречу. Глаза Ефросиньи, святые и гордые, как глаза Богоматери, пред которой только что стенала её душа, бесстрашно смотрели на Ивана, и она не отвернула бы их, начни он даже раздирать её по кусочкам. А Иван… Он как будто был усмирён тем пламенем, на которое наткнулся: рука его мягко прикоснулась к Ефросиньиному лицу, потом осторожно переползла на белые волосы – он как будто ласкал её…
– Красива ты была, тётка… Редким счастьем одарена! В счастье бы тебе и жить… Да ты сама себя на несчастье обрекла, сама по мукам пошла. Злобой душу свою издушила, изгадила, осквернила… Богу б душу свою отдала, любви, благости, состраданию, а ты – злобе… Злобе! – вскрикнул взбешённо Иван и, схватив Ефросинью за горло, стал душить её. – Злобе!.. Злобе!.. – исступлённо рычал он и душил Ефросинью, сваливая её себе под ноги. Вдруг, опомнившись, отдёрнул руки – Ефросинья упала на пол, прижав ладони к горлу, замерла, пережидая боль…
Иван глухо, с дрожью, заговорил, испуганно спрятав свои руки за спину:
– Почто… на меня почто злобишься?.. Более всего, яростней всего? В чём… в чём моя вина пред тобой? В чём моя неправда? Знаешь ли ты мою душу, ведаешь ли, что в ней горя не менее, чем в твоей?! Но в твоём горе не я повинен… Не я! А в моём – ты! Ты и оные, что, подобно тебе, с самого моего рождения ищут моей погибели, преступая совесть, преступая клятвы и Божьи заветы. Я был спелёнат во зло – в ваше зло! – и выпестован им… Но я не хотел продолжать ваше зло, видит Бог, не хотел! И мук, и гонений, и смертей многообразных ни на кого не умышливал! А ежели и посягнул на кого, то лише, чтоб зло – ваше зло! – пресечь. Ибо уж больно грозно оно разгулялось в моё малолетство. А малолетство моё?! О нём уж и поминать не стану, сама ведаешь, сколь горько и безрадостно оно было. Даже в одежде и в еде изнуждали меня и братца моего единородного, кормя нас, как странников или как самую уБогую чадь. Одно лише вспомяну: мы с братцем детской игрой играем, а князь Иван Шуйский сидит на лавке, положив ногу на постель отца нашего, и не обратится к нам отечески, а токмо властно, будто к рабам своим. Кто такое забыть и снести может? Кто?! – вновь подступил Иван к Ефросинье, наклонился над ней. Ефросинья убрала свои руки с шеи, подставляя её ему, но Иван ещё крепче сцепил руки за спиной, страшась их сильней, чем Ефросиньиного бесстрашия. На несколько мгновений их глаза вновь схлестнулись в яростной схватке, и вновь Иван не выдержал Ефросиньиной ожесточённости, отступил от неё к самой стене, прижался к ней спиной, глухо и тоже ожесточённо продолжал: – И сколько сотворила ваша злоба, улучив государство без владетеля?! Сколько бояр и доброхотных отца нашего и воевод его погублено было! Вспомяни, како князь Василий и князь Иван Шуйские самовольством оберегать меня учинились да и воцарились! И всех тех, которые отцу нашему и матери нашей главные изменники были, из поймания[134]134
Из поймания – из заточения.
[Закрыть] повыпускали и с собой примирили. А князь Василий Шуйский и того пуще – на вашем старицком подворье, сонмищем иудейским, ближнего дьяка отца нашего – Фёдора Мишурина позоровали и убили, а князя Ивана Фёдоровича Бельского, кой тебе с сыном добро творил, да и иных многих с ним в разные места заточили, да и Даниила-митрополита, сведши с митрополии, в заточение отослали. Во всём свою волю утвердили, и сами же государиться начали. Подовластных моих рабами поделали своими, а рабов своих как вельмож устроили. Мнили правду творить и строить, а вместо сего неправды и нестроения многие учинили. Мзду безмерную потянули со всех, и всё по мзде творили! Запамятовала ты, что ль, время сие лихое? Иль своей бедой от всех прочих бед отгородилась и на все прочие лиха глаза закрыла?! Душу свою праведной злобой ожесточала? А праведной ли?.. Нешто не измена была покарана в дяде нашем? Нешто не вооружился он на меня да на матушку мою, желая погубить нас, а самому воцариться? Молчишь?! Ведаю, у тебя иные доводы есть… Буде, кому и годны те доводы, да не мне, бо я ведаю накрепко, что измене оправдания нет! Да и не я покарал дядю, не я винен в его смерти!.. Не мой то грех! Нешто Христос винен в Иродовом преступлении?
– Род ваш Богом презрен за клятвоотступничество, оттого и беды на нём, – спокойно, дерзко выговорила Ефросинья. – И не беды то, а воздаяния.
– Сын у меня родился, тётка, – словно бы не услышав чудовищной дерзости Ефросиньи, спокойно сказал Иван. – Ни в чём не винен младенец, а ты уж и на него озлобилась. Поздравлений уникла! Грех то великий, тётка! И не я тебя за него судить стану. Грядёт на тебя иной суд!.. И не лицемерь более пред святыми образами – твоя душа уж черна от греха! И токмо единым ты можешь спасти её… Единым!..
Иван отошёл от стены, приблизился к Ефросинье, присел перед нею на корточки – глаза его усмиряюще и властно смотрели на неё.
– Нет… – выдохнула Ефросинья, поняв Ивана, и впервые в глазах её промелькнул испуг. – Нет, – сказала она твёрже, но взгляд Ивана стал невыносим ей – она отвернулась, с болью, со страхом прошептала: – Токмо нудьма ты пострижёшь меня…
– О твоей душе беспокоюсь, тётка…
– Мою душу оставь мне…
– Богу её потребно отдать – всецело… Средь людей ей уже опасно быть. Страшна твоя душа… Страшна, тётка! Оттого и прошу: уйди в монастырь. Отстранись!.. Не навлекай своей злобой нового лиха на нашу землю. Уйди, тётка, будь благоразумна.
– Уйти и оставить тебе на растерзание всё!.. Всё, что полито моими слезами! Нешто не ведаю, чего ты хочешь?!
– Лагоды хочу и спокоя, – резко сказал Иван. – С Володимером мы уживёмся, с тобой – нет! Уйди в монастырь… Прошу, слышишь, прошу: уйди!
– Нет! – крикнула Ефросинья.
– Нет?! – улыбнулся зловеще Иван и выпрямился. Тяжёлое тело его нависло над Ефросиньей, как занесённый топор. Ефросинья приникла к полу – длинные пегие пряди её волос расстелились у ног Ивана. Иван злобно наступил на них, лишив Ефросинью возможности даже поднять голову, злобно проговорил, обращаясь больше к самому себе, чем к Ефросинье: – И чего же ты хочешь? Чего?.. Несчастная! Добыть Володимеру престол? А почто же ему быть на престоле? От четвёртого удельного родился он! Что его достоинство к государству? Которое его поколенье? Ведаю, какой яд ты в душе таишь, и иных, скудоумных, тем ядом отравляешь!.. Да истина лише Богу ведома, а не тебе! Не ведая истины, ты движешься корыстью и вновь берёшь на душу чёрный грех, выставляя Володимера вместо меня. Я не похищением, не супостатством, не кровью сел на государство… Божиим произволением рождён я на царство и не усомняюсь в том, понеже меня батюшка пожаловал – благословил государством, да и возрос я на государстве!
Иван отступил, освободил Ефросиньины волосы. Ефросинья медленно, измученно поднялась с пола, не глянув на Ивана и будто вовсе забыв о нём, пошла к образам, опустилась перед ними на колени, беззвучно стала молиться.
Иван подошёл к ней, стал за спиной…
– Не победить тебе, тётка! – уверенно и твёрдо проговорил он. – Ни за что не победить! Со мной Бог и правда, с тобой лише зло! И хоть сильна твоя сторона и велико племя злопыхов и израдцев, но, будь вас даже в тыщу раз больше, вам всё едино не одолеть меня! За что вы стоите? За себя лише… За благополучие своё… Я же стою за себя и за Русь. Да, и за Русь! Нещадный, злобный, мерзкий… ублюдок, как мнишь ты и оные, но я, слышишь, я стою за Русь, а не вы – чистые, благоверные, непорочные… Вам не дано положить душу за други своя, ибо вы положили души свои за самих себя, и страсть ваша – истлевшая головешка! Она не осветит ваш путь и не согреет ваши души… Но пожар от неё может заняться… Может! Однако и на пожарище через год прозябает трава… И на пожарище я построю то, что задумал!
Глава третьяВ первое же погожее утро дьяк Разбойного приказа Василий Щелкалов велел заседлать лучшего своего жеребца и по давней и неизменной своей привычке, прежде чем ехать в приказ, отправился на посад: обсмотреть, проведать, проследить, где что делается и как делается? До всего ему было дело, до всего нужда: ездил по Москве как хозяин.
Чуть завидят его посадские – хоронятся по дворам, по избам. Лучше не попадаться ему на глаза: уж больно придирчив и въедлив дьяк. Ни за что ни про что прицепится, сыщет вину любому…
Не любят за это Щелкалова на Москве. Знает дьяк про эту нелюбовь – гордится. Когда едет по посаду и видит, как прячутся от него посажане, довольная ухмылка вползает ему на лицо. Его маленькие, вечно прищуренные глазки ещё проворней принимаются зыркать по сторонам. Под каждую подворотню заглянет, по дыму, на нюх, узнает, в какой избе в пост скоромное готовится или тайно от мытника брага варится.
Не дай Бог, если до его проезда кто-нибудь не поспеет отворить ставни: непременно в приказ повелит явиться. А уж там допытаются, почему в светлое время за ставнями сидишь? Чего сроду не думал и не делал – и в том сознаешься!
Пока держалась непогода, и пожили посажане спокойно. Не показывался Щелкалов на посаде: не хотел морозиться, а может, и боялся, что в такой завирюхе тюкнут обухом в темя, и только недобрый помин останется о нём. Злобы на него посажане накопили премного: каждый терпел от дьяка, и у каждого на него был припрятан за пазухой камень…
Знал об этом Щелкалов и в глубине души страшился посадских и за этот свой тайный страх ещё сильней измывался над ними.
Нынче никто не попался под руку, хотя и проехал он уже добрую половину своего обычного пути.
– Прячутся, ублюдки! – вздосадовался Щелкалов.
С утра у него всегда ломило душу – от тяжёлых снов и от постного завтрака. Не отыграйся он на ком-нибудь, не вызлись, не отведи душу – весь день будет мучить его тоска.
Жеребец шёл весело, прытко, игриво нахлёстывая себя длинным хвостом по ляжкам. Близ Мясницкой наехал Щелкалов на мужика, не поклонившегося ему, а только снявшего перед ним шапку. Мужик увернулся, но не совсем ловко – жеребец толкнул его боком, свалил в снег.
– Эк, лотрыга! Сермяк драный! – напустился на мужика Щелкалов – не столько от злости, сколько от радости, что нашёл-таки, на ком отвести душу.
Мужик неуклюже барахтался в снегу, проваливался то руками, то ногами и никак не мог подняться.
– Ну, подымайсь, подымайсь! – блаженствовал выпрыгнувший из седла Щелкалов. – Аль подсобить твоему заду сапогом? С ранья напивился, скот!
Мужик наконец изловчился, поднялся: без шапки, взъерошенный, будто из бани, на бровях, на бороде, на усах – снег, глаза растерянные, но не испуганные, не заискивающие…
– Пошто не кланяешься, сучий сын?
Мужик сдул с усов снег, спокойно отмолвил:
– А я никому не кланяюсь – ни царю, ни Богу. Чресла у мене не гнутся… Перешиблены!
– Врёшь, нехристь! – усомнился Щелкалов. – Плёткой взгрею – угнёшься!
– Пошто – врёшь?! Не вру вовсе! У царя нашего батюшки, Иван Васильевича, вопроси: кто первой на стену казанскую влез? Брат воеводы Курбского – Роман да я – Пров Авдеев! – Мужик осанисто выпятился, смачно сопнул. – За то мне от государя золотой жалован был!
– Уж пропил небось? – с презрением ухмыльнулся Щелкалов.
Мужик поморгал глазами – и виновато, и радостно, протянул снизу вверх по носу рукавом и доверительно, как своему дружку, признался дьяку:
– Пропил!.. В том же годе…
– Ну, не грех, – ободрил его зачем-то Щелкалов. Может, для того, чтоб поскорей и полегче от него отвязаться. Мужик уже надоел ему. – Не грех, – ещё раз повторил он и взобрался в седло.
– Не слыхал про мене, что ль? – простодушно подивился мужик.
– Не слыхал, – буркнул Щелкалов.
– На Казанском деле, что ль, не был?
– Ступай, ступай! – отмахнулся от мужика Щелкалов, задетый его вопросом.
Жеребец с места взял рысью, разбил встретившийся сугроб, обдав Щелкалова мокрой пылью. Проехав в конец улицы, Щелкалов круто поворотил назад и во весь опор поскакал к Китай-городу. После встречи с мужиком почему-то расхотелось ехать дальше. Сбил ему мужик охоту, сорвал с него самую острую и злую заядливость. Залегла в душу тоска, защемила, как боль… Заполз бы он в сугроб и сидел там, как медведь в берлоге, не ведая ни дня ни ночи… Или, как этот мужик, забрался бы с рассвета в кабак и замаял себя медовухой, чтоб и злость, и горесть, и радость – всё отлетело прочь. Чтоб молиться кабатчику, как Богу, а Богу – как кабатчику. Чтоб и греха-то было – лишь на алтын куплено. И ни забот, ни обид, ни зависти к сильным и именитым, ни страху перед ними, чтоб был он сам по себе, а всё остальное тоже само по себе. Чтоб не просыпаться по утрам с мыслью, что что-то не сбудется, а что-то не минется, что что-то не сделано, кому-то не угожено, с кем-то не слажено… Не рвать по-собачьи свою долю, не грызться за неё оголтело с другими, не пнуться наперёд и не бояться, что тебя заступят, обойдут, похерят… Не усердствовать, не лебезить перед толстосумами, не дрожать перед сильными – жить, как живут блаженные, зная и чтя одного Бога, вознося его надо всеми и надо всем.
– В монастырь! В монастырь! – вымученно и зло шепчет он самому себе, словно долбится чем-то тяжёлым в свою душу, в свою боль, в свою жалкую и постыдную неприкаянность. – В скит!.. На хлеб и воду!.. – А рука с плёткой всё яростней и яростней нахлёстывает жеребца. Жеребец, рассвирепев от боли, злобно рвёт копытами заледеневший наст, расшвыривает его по сторонам вместе с клочьями изжелта-белой пены.
– Эка забрало лешего, – бурчат в бороды встречные возницы, поспешно заворачивая на сторону своих медлительных лошадёнок. – Будто виялица в зад ему вскочила!
Какой-то отчайдушный мужичина, сиганув с дороги в сугроб, глумливо заорал:
– Гляди, Щелкан с глузду съезжает!
Ничего не слышит Щелкалов, жжёт и жжёт жеребца плетью… Промчался по Мясницкой, по Фроловке, по Евпловке… У Покровских ворот рванул под уклон и погнал вдоль Большой посадской стены.
Домчавшись до Сретенки, Щелкалов приостановился, оглянулся притаенно назад, почувствовав стыд за свою бешеную скачку… «Эка потеху черни устроил, – досадливо укорил он себя. – Ещё бы в грудь когтями да бороду в клочья».
Тоска щемила ему душу, и он опять подумал о монастыре… Даже попробовал представить себя монахом – кротким, смиренным, сидящим в мрачной и пустой келье на хлебе и воде. Тонкая, как тростиночка, свечечка, часослов и беспросветная, длинная-предлинная ночь, спокойная, как его душа, – и ничего более, даже мыслей о смерти и о грядущем судном часе. Впервые он так страстно и ярко представил себе то, что до сих пор для него было только словом, только мыслью – спасительной и успокаивающей, приходившей на помощь его разбесившейся душе.
– Нет, – сквозь стиснутые зубы продохнул Щелкалов. – Се не по мне!..
Вдруг вспомнились россказни о царе, ходившие по приказам, что будто в один из выездов на осмотр подмосковных монастырей он остановился возле разрушенного татарами Старо-Угрешского монастыря и неожиданно сказал сопровождавшим его воеводам, что уйдёт в монастырь.
Щелкалов обрадовался этому неожиданному, но как-то по-странному кстати пришедшему к нему воспоминанию, ободрившему его и успокоившему. Он чуть ли не со смешком, самонадеянно, как будто уверившись в каком-то своём превосходстве, подумал: «Пущай наш царь-батюшка, Иван Васильевич, убожится в келье. Всё едино его не убудет! На вечное блаженство – и во дворце, и в келье – миром помазанный! Однако ж не выбрал келью… И не выберет! Како ж мне, не знавшему дворца, идти в келью?!»
От Неглинной тянет ветром – тянет по пустырю вдоль рва, как сквозь трубу. Щелкалов хватает ртом жёсткую, густую прохолодь – до судороги в горле, будто пьёт из глубокого родника… Легко становится и свободно. По отгоревшим щекам растекается слабая бледнота: он дышит жадно и глубоко, будто хочет захлебнуться этой прохолодью.
«Нешто на весну поворотило?!» – накатывается на него расплошная мысль.








