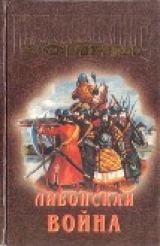
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 54 страниц)
До позднего вечера палил воевода Морозов по полоцкому посаду. Восемь возов ядер раскидал. Литовцы после обеденного звона вовсе перестали отвечать на пальбу. На вылазку тоже не решились… Затаились за стенами и не вызырали даже. Это и радовало Морозова, и настораживало. Настораживало – слишком уж опрометчивое спокойствие литовцев. Не то вправду Довойна уверился, что русские пришли на малую досаду – пограбить да пленных набрать – и к ночи уберутся, не то послал за подмогой и теперь, затаившись, поджидал её подхода, чтобы ударить сразу с двух сторон.
Высланные далеко за Полоцк дозоры подтвердили опасения Морозова. К Полоцку шло литовское войско – небольшое, тысячи две конницы, но шло быстро и к ночи могло подойти к городу.
Последний, вернувшийся уже после захода солнца, дозор доложил, что войско это остановилось станом на ночь вёрстах в пяти от города: сидят тихо, костров не жгут и даже дозоров вперёд не шлют, чтоб не открыть себя.
– Ах ты, старый обмылок! – и ругался, и торжествовал Морозов, проведав о замыслах Довойны. – Мнил устроить мне баню! Небось руки стёр от довольства?! Ну, поеборзись, поеборзись, почечуй тебе в гузно! С рассветом узришь, что не толико в вашем бору лисы водятся.
Лишь стемнело, прискакал к Морозову гонец. Русское войско было в трёх вёрстах от города. Морозов тотчас приказал пушкарям кончать пальбу, пищальников увёл из-под стен, притушил костры…
Ночь сулилась быть тёмной. Скрюченная от стужи луна медленно вползла на холодную чернь неба, недолго помельтешила в сгущающихся облаках, обложивших к заходу солнца большую часть неба, и спряталась за их плотной завесой. С темнотой пришла тишина – тяжёлая, неразрушимая, не поддающаяся никаким звукам. Чем больше прорывалось их, тем плотней становилась тишина: она словно боролась с ними, отвоёвывая себе хотя бы ночь.
Черной громадной глыбищей высился в темноте Полоцк – беззвучный, затаившийся, как какой-то страшный и грозный зверь, настороженно стерегущий свои владения.
Русский стан тоже затаился, только кое-где сквозь темень просвечивались, как прорехи, тусклые пятна костров, нарочно поддерживаемые, чтобы их видели литовцы и знали бы, что русские не ушли от города. Как раз это и должно было заставить их спать спокойно. Они непременно знали уже о подошедшем к ним на подмогу войске и готовились поутру отплатить русским за их дерзость.
Воевода Морозов отослал гонца назад к царю, велев передать, что литвина он стережёт крепко и войску можно спокойно подступать к городу.
В стане стали ждать подхода главного войска. Морозов разослал ко всем воротным башням конные дозоры – следить, чтобы из города не вылезли литовские лазутчики и не пронюхали бы о подходе больших русских полков. Оболенскому велел быть начеку, дабы не прозевать приезд царя, а сам поехал на похороны своих ратников.
Нынче у Морозова погибло пятеро. Немного. Порадовался бы воевода этому, да разве на похоронах радуются?!
Саженей за сто до могилы, вырытой в поле, за станом, Морозов спешился и эти сто саженей прошёл пешком. У могилы понуро стояло десятка два ратников да с десяток посошных, которые рыли могилу и должны были её закапывать. В неярком свете небольшого костра тускло поблескивали свежим тёсом пять грубых, тяжёлых гробов. Морозов остановился перед ближним, снял шлем…
– Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего!.. – дрожащим от холода голосом пропел полковой поп, заканчивая короткий молебен, размашисто осенил все гробы крестом и быстро спрятал руки в меховые варежки.
Посошники принялись заколачивать гробы. Кто-то тоскливо и зло сказал:
– Как жить ни тошно, а помирать тошней. Живот один токмо Бог даёт, а отымат его всяк гад!
– Сё верноть, – ещё тоскливей, со вздохом поддержал его другой. – Жисть надокучила, а и со смертью не обыкнешься.
– Эка затянули! – обозлился один из заколачивающих гробы посошников. – Како бабы! Не на живот рожаемся – на смерть!
– На смерть-то на смерть, да кажный норовит подоле с ней не стыкаться.
– Норовит! – с прежней злостью сказал всё тот же посошник. – А судьба, она идеже? Она, что ль, в хлеву у тя на ужах привязана? Она в кажный час на загривке сидит. Кого поторопней с ней стакнет, а кого намурыжит – сам кликать её починает!
– На войне смерть хороша – расплохом берёт, – спокойно и рассудительно сказал ещё кто-то. – Пошто кручиниться, что сгинул в поле? Паче в поле, неже в бабьем подоле!
– Ин доброе слово речено, – вымолвил поп. – И по-мужецки, и по-ратницки! И воеводскому слуху селико приямо! Смерть на поле брани освящена Богом, дети мои! Врата рая отверсты погиблым!
Когда поднесли крышку к последнему гробу, около которого стоял Морозов, воевода, до сих пор неотрывно смотревший в темноту, заглянул в гроб и узнал Тишку, убитого утром на его глазах. «Про мня вся Расея ведает», – вспомнил он его добродушную похвальбу и тихо сказал:
– Пухом тебе земля, Тихон.
После погребения погибших Морозов вернулся в свой стан. В его шатре вместе с Оболенским сидел царь.
Морозов растерялся от неожиданности: Ивана он ждал, но не думал, что тот завернёт к нему в шатёр.
Иван терпеливо переждал его растерянность, мягко, шутливо сказал:
– Без спросу забрался к тебе, воевода… Не изгонишь? Мой-то шатёр в коше[96]96
Кош – личный обоз царя, князя, воеводы.
[Закрыть]. Покуда довезут да покуда раскинут!.. Сам ведаешь, каки у меня расторопники!
– Честь мне за что такая, государь? – взволнованно вымолвил Морозов.
– Ему говоришь, от мороза сховаться негде, – опять пошутливо сказал Иван, – а он тебе про честь! Ну-к, приди в себя, воевода! Что ты предо мной, как пред красной девицей. Ратных прятал? Сколь их у тебя?
– Пятеро, государь…
– Ну, невелик счёт. Гораздо ты поуправился! Мне Оболенский про всё уж поведал… Доволен я тобой, воевода. – Иван снял с пальца перстень, протянул Морозову: – Вот тебе за усердие и за смелое дело. С яхонтом он… И не благодари – не по блажи даю! Доволен тобой! Заслужил! Другому б не дал!
– Потщились, государь… Чтоб не уронить славы оружия русского!
– Не витийствуй, воевода! Тебе сие ни к чему! Кто славно воюет, тот и без красного слова приятен мне. За десять вёрст слышал твою говурю с литовцем. Такая говоря мне боле по сердцу.
Иван помолчал, поласкал Морозова глазами, довольно спросил – спросил не столько у Морозова, сколько у самого себя:
– Не вылез, стало быть, литвин?
– Не вылез, государь, – ответил Морозов, хотя и понимал, что Ивану не нужен был его ответ. Отмолчаться на вопрос Ивана, даже будучи уверенным, что он не ждёт ответа, мало кто решался: редко на лице Ивана отражалось то, что было в его душе.
– Ну так и не вылезти ему! – засмеялся Иван. Он был возбуждён, радостен, непритворно радостен и непритворно приветлив и добр. Редко приходилось Морозову видеть его таким. После взятия Казани да ещё при освящении Покровского собора на рву видел Морозов в глазах Ивана этот чистый, наивный, ребяческий блеск.
– Не вылезти! – снова повторил Иван, не переставая смеяться. – Поутру мы ему такое учиним, перекреститься не сможет литвин! Против главных ворот выставим весь стенной наряд, а из остального учнём палить по острогу – калёными ядрами, чтоб подпустить красного кочета! Поглядим, как он закудахчет на его подворье!
– По посаду всего сручней палить с островка, что на Двине, – сказал Морозов. – Туда лёгкий наряд поставить да стрельцов с пищалями… Лед на Двине крепок, можно и большой наряд переволочить и бить из-за Двины. С двинского боку стена острога послабей.
– Дело говоришь, воевода, – довольно сказал Иван. – Вот подойдут полки, сберемся на совет… Послушаю вас всех! А тебя более других: ты тут уже пораскинул глазами, повынюхал слабины у литвина… А войско то, как мыслишь, не кинется на вас?
– Две тыщи конных, государь, – проть нашей силы! – усмехнулся Морозов.
– Две тыщи! – повторил Иван тоном Морозова. – Упомни, как ливонский маршалок Филипп Белль кинулся с пятью сотнями супротив наших двенадцати тыщ!
– Белль безумец был, государь!
– Безумец?! Мне бы поболе таковых безумцев в воеводы! Я ему на то и голову велел отсечь, чтобы не имели мои воеводы супротив себя такового храброго воинника. Магистр ливонский Фюрстенберг мне за него десять тыщ талеров выкупу сулил. Десять тыщ!.. Фридерик дацкой у них за двадцать тыщ все эзельские и пильтенские земли купил, а тут за единого человека – десять тыщ! Но я велел отсечь ему голову, ибо и тридцатью тыщами не окупил бы того урона, который мог причинить нам Белль, воротись он снова в Ливонию.
К полуночи все русские полки подошли к Полоцку. На совете у царя решено было охватить город полукольцом – от Полоты до Двины, поставив у Полоты, против Великих ворот, Большой полк с тяжёлым стенным нарядом, а полки правой и левой руки выставить не справа и слева от Большого полка, как обычно делалось при осадах, а оба полка вместе – слева ближе к Двине, оставив между ними раствор для передового полка.
Сторожевой полк, по совету Морозова, переведён был по льду за Двину и поставлен на южных подступах к городу – вдоль противоположного берега Двины, чтобы отразить удар пришедшего на помощь Полоцку литовского войска, если бы оно всё-таки решилось напасть на русские полки.
До самого рассвета воеводы расставляли полки по местам, а с рассветом, лишь только первые всполохи света очистили небо от черноты и последние хлопья тьмы растворились в стылой белизне, литовцы увидели под своими стенами вместо вчерашней немногочисленной рати огромнейшее русское войско, заполнившее всё окрест на несколько вёрст. Войска было так много, что, казалось, не только земля, но и небо занято им.
Царь ещё до рассвета облачился в доспехи, велел оседлать своего актаза[97]97
Актаз – белая арабская лошадь.
[Закрыть] и вместе с дворовыми воеводами, с князем Владимиром, Алексеем Басмановым, Бутурлиным, Серебряным и Шуйским, под охраной татар, поехал поближе к городу. По пути их встретил Морозов. Воевода был растерян, испуган – от вчерашнего его бодрого вида не осталось и следа. Царю поклонился так, будто клал голову на плаху. Иван заметил это, встревоженно и недовольно спросил:
– Что приключилось, воевода?
– Как и сказать тебе, государь?.. – Морозов совсем поник под Ивановым взглядом. – Сердца нет во мне… Умом не вздумаю… – Он окинул взглядом Бутурлина, Басманова, Серебряного, Шуйского, словно бы просил у них помощи, но те так же встревоженно смотрели на него. Князь Владимир в испуге даже отстал от Ивана, уступив своё место около него Морозову.
– Говори!
– Тысяцкий мой, Хлызнёв-Колычев, пропал, государь, – на едином духу выпалил Морозов.
– Пропал? – поначалу спокойно и даже разочарованно переспросил Иван, но вдруг лицо его стало бледнеть. – Сбежал? Собака! – яростно зашипел он и жёстко хлестанул плёткой по холке своего актаза. Конь вздыбился с жалобным ржанием – Иван чуть было не вылетел из седла. – Догнать! Схватить! Схватить!!! – завопил он; губы его почернели, щёки тряслись, как у старика. – Басманов!.. Шуйский!.. Догнать! Я его на кол!.. Своими руками!..
– Не догнать его, государь, – спокойно сказал Басманов. – Беглому одна дорога, а погонщикам – сто!
– И ты?! – Иван замахнулся на Басманова плёткой и вдруг разом сник, уронив руку с плетью себе на колени. – Пусть ему… – сказал он тихо и скорбно, как о покойнике. – Одной гаведью[98]98
Гаведь – дрянь, мерзость.
[Закрыть] стало меньше на Русской земле. Нам об ином пристало думать, воеводы… Перед нами – Полоцк… Твердыня литвинов! Нам её надобно сокрушить!
– Сокрушим, государь! – сказал ему осмелевший князь Владимир. – Вели починать!
Иван поднялся на стременах, несколько минут внимательно смотрел на город. Над полоцким детинцем медленно поднималось знамя. Издали оно казалось маленьким лоскутком, взвитым в небо случайным порывом ветра, и вот-вот должно было быть унесено им, но лоскуток поднялся почти до середины неба и замер, словно приклеился к нему, как осенний измокший лист.
– Почнём, – сказал Иван, – но допрежь, по неизменному христианскому обычаю, пошлём им сказать, чтоб сдались подобру, на милость, без пролития крови и тяжкой порухи.
– Довойна знамя поднял над детинцем, – сказал Басманов. – Не примет он нашего слова.
– В том его воля. А я обычая не хочу порушить, – твёрдо сказал Иван. – Наряжайте гонца. Да быть ему почестней! Пусть видит Довойна, что шлем не простых, которых вызволять не станем, коль он не выпустит их от себя.
– Кого велишь: из детей боярских, из воевод? – спросил Басманов.
– Воеводу шлите, а с ним детей боярских.
– Тогда Пронского пошлём, – сказал Басманов.
– Пронского нельзя слать, – не очень твёрдо вступился за своего воеводу князь Владимир. – На нём вся моя дружина.
– А что, коли Оболенского послать?! – предложил Серебряный. – И в чести – князь, и воевода… Молод токмо, да не со своего ума говорить станет, государево слово повезёт.
– Шлите Оболенского, – согласился Иван. – Грамоту пусть о моих печатях везёт. Обетует всем живот без плена, воеводе и архиепископу отъезд свободный с майном и семьями, а наёмным, ежели они ляхи или иные чьи, – також свобода.
Серебряный и Морозов отправились снаряжать Оболенского к поездке в Полоцк, а Иван с оставшимися при нём воеводами объехал исполчившееся войско и спустился к Двине, чтобы посмотреть на островок, о котором говорил ему Морозов.
На Двине посошники рубили проруби. Басманов спешился, сошёл на лёд, заставил прорубщиков измерить его толщину, вернувшись к Ивану, сказал:
– Лед не больно тяжёл, но хорош – в две пяди… На Ловати в Луках был потоньше. Там лёгкий наряд без моста перетянули, а тут, мню, и тяжёлый перетянем.
– Не спустит Довойна знамя, нынче и перетянем, – сказал Иван. – Все дальнобойные за Двину поставим и нацелимся на посад. На островок стрельцов посадим с лёгким нарядом. Стена перед ним невысока – через неё палить будут. Ладное место, будто для нашего дела как раз и устроено. Сколь от него до острожной стены? – спросил он у воевод.
– Полсотни саженей, не более, – первым ответил Басманов. – Средним зарядом – в самый раз!
– Поболе! – уверенно сказал Шуйский. – От него до берега, поди, саженей пятьдесят прямиком да от берега до крайней прибрежной стрельницы – ещё, поди, пятьдесят!.. А стена от башни вон каким загибом идёт по-над берегом… Видать, затон обходит? Сто – полтораста саженей, не менее!
– И то ладно, – сказал Иван. – Нам, чтоб на сто саженей под стену подобраться, пять дней туры двигать надобно! А тут разом хоп – и под стеной! И посад как на ладони. А кто верней угадал, тому от меня нашеломник с рысиной пастью… Какой у Курбского был – помните?.. Покуда не утерял он его вместе с шеломом да чуть было и не с головой в здыбке с Рыжим Радзивиллом, под Невелем! Ловок тот, дьявол, – чуть помолчав, добавил Иван с искренней завистью. – Сам на здыбки ходит! Копьём, рекут, управляется, как баба ухватом! Я б супротив него устоял, как мните? – вдруг спросил он и хитровато оглядел враз обникшие лица воевод. – Копьём я несилен, – как бы выручая их, признался Иван. – А вот с мечом устоял бы?
– Тебе и думать про таковое не в честь, государь, – сказал напыщенно князь Владимир, – а выходить на бой и того паче! Что супротив тебя Радзивилл? Хоть и первый пан в Литве, а всё ж – холоп Жигимонтов!
– Храбрый воин царю под стать! – усмехнулся с прежней хитроватостью Иван. – Ибо храбрость царственна, а трусость гаведна!
– Единой храбростью, государь, с сильного и шапки не струсишь, – заметил Шуйский.
Иван скосился на него, и хитроватая его усмешка как-то разом превратилась в издевательскую.
– Ан ты неслаб, Шуйский, почто же не выступил николиже проть Рыжего сам на сам? Все по шатрам отсиживался!
– Я по шатрам сидел не праздно, государь, – с достоинством ответил Шуйский. – Кто более меня добыл в Ливонии? Я низложил Дерпт, Торваст, Нехаус, Алусну… На поединке Рыжего одолеть – славность велика!.. А польза? Одолеть его как воеводу, с войском, – в том и честь, и польза. Станься мне сойтись с ним под Невелем – не спустил бы я ему… Уж то я знаю накрепко. А сам на сам – в том как удача! Что ль, отродясь копья к руке не меряли?
– Давно не слышал я от тебя за раз столико слов, воевода, – удивился Иван. – Да и слова какие! За каждое по гривне положить не жаль! Без смеха говорю… Боюсь токмо, как бы и ты, иным под стать, не стал вместо дела речи говорить. Витий около меня – хоть за колокольню вместо звонов вешай!
– Я – воевода, государь! – буркнул Шуйский.
– Все воеводы. Федька с Васькой лише у меня не воеводы. Да они и не говорливы. А воеводам толико дай язык подрать… А как в поход – взашей толкай! Будто на дело какое постылое! Мне, государю, всякий раз наряжайся с вами, назирай за вами, будто за детьми малыми… И вередливыми! Покуда сам не пошёл на Казань – не могли сладить с татаровей! В Ливонии – також! Поручил я вам дело позалетось – на Колывань идти… Ослушались! Под Пайдой протоптались, покуда ливонцы вам бока не памяли. А не ослушались бы иль нарядись я с вами – Колывань уж под нами была бы! А ныне она под свеями…
– Кого нам тогда надлежало слушать – тебя иль Адашева? – неожиданно сказал Бутурлин, и так смело и дерзко, что все обмерли. – Ты нам велел идти на Колывань, а Адашев направил под Пайду. Мы и поплелись туда, как овцы, и стояли там, прижав к задам хвосты…
– Почто ж стояли? – рыкнул Иван.
– Пото, что не знали, какового нам пастыря слушать. А будь на то твоя единая, твёрдая воля – добыли бы мы Колывань!
– Почто же прошлой весной… – шёпотом крикнул Иван, – вы воспротивились моей единой, твёрдой воле? Почто? Адашева уже не было! А поход на Ливонию вовсе не стался! Да оттого, что овцы стали волками. Волками! – сдерживая душивший его гнев, снова шёпотом крикнул он и, надрывно и жадно вздохнув, освободившимся голосом продолжал: – Адашев в свою сторону гнул, а вам то на руку было. Вы не хотели более воевать Ливонию. Что добыли – на том и посесть, удоволиться, угомониться… На что вам Ливония? На что вам море? Что вам – плавать по тому морю? Жиреть от него? Вы и Яузу в челне переплыть страшитесь! А жиреть вам – в Диком поле, где вы вотчины разметенете, деревень напашете… На той мысли вы и стоите! Да не больно ухищрённы вы! И государь под вами, слава Богу, ума на свою державу не ищет! И не ждёт вашего охочего изволения, а сует вас взашей на потребные дела и ещё жалует, коль вы их под палкой кое-как исполните!
– Вот ты как об нас? – угрюмо вымолвил Бутурлин.
– Вот так, – уже поспокойней сказал Иван. – Коль вы царю дерзости – он вам правду! А ежели правда душу ломит, в том не правда винна, воеводы. Службы вашей честной я не оставлял и не оставлю без пожалования, а нерадения и пакости – не прощу!
Иван тронул коня, выехал наперёд, стал внимательно осматривать подступы к полоцкому острогу со стороны Двины.
Всходило солнце. Оно уже отделилось от земли на целую пядь или на две пяди, и в этом узком просвете чётко проступил неровный, будто оплавленный, край земли, накалённый до темно-красного цвета.
Вспыхнули купола Софии, будто на них плеснули алое пламя; окрасился алым трепещущий над полоцким детинцем лоскут знамени, приколотый к небу тонкой иглой реи; сверкнула ледяной чешуёй Двина, заискрились, засияли белым глянцем снежные поля вокруг острога, и его чёрные стены стали ещё черней от этой яркой, напитанной солнечным светом белизны.
Через Двину, во вздыбах всколотого копытами льда, шалым намётом нёсся всадник. Первым заметил его Басманов.
– Никак гонец от Горенского, государь?!
Всадник, не придерживая коня, с ходу метнулся на снежную крутизну берега, выскочил наверх – шагах в двадцати от того места, где стоял Иван с воеводами, и, видать, в самое последнее мгновение узнав царя, на полном скаку соскользнул с седла в снег. Конь унёсся в поле, а всадник бегом, утеряв шапку и рукавицы, припустил к Ивану.
– Государь!.. Воевода Горенский… вели… сказа… – заглатывая вместе с воздухом слова, стал кричать он, ещё не добежав до Ивана, – войско литвино… приближ…о…сь и, не зади…ась… пошло… в отступ!
– А ну прочти «Богородицу»! – строго приказал Иван.
– Богородица… дева, радуйся, – испуганно забормотал гонец, – благодатная Мария, Господь с тобой… Благословенна ты в жёнах… и благословен плод чрева… твоего… яко Спаса родила… еси душ наших… Аминь!
– Теперь «Отче наш»!..
Вконец потерявшийся гонец, уставив на Ивана неподвижные глаза и стараясь не исковеркать ни единого слова, почти без запинки прочёл молитву.
– А теперь сказывай, что повелел тебе воевода?
– Воевода велел сказать тебе, государь, что войско литвинов приближилось, постояло малехо и, не задираясь, пошло в отступ.
– То гораздо! – довольно буркнул Иван.
– Воевода велел спросить тебя, государь: гнаться за литвинами иль пущай тикают?
– Что ль мы на охоту за зайцами пришли сюда? – сказал Иван, и голос его смягчился. – Что ответим Горенскому, воеводы?
– Ты уж ответил, государь, – сказал Басманов.
– А буде, шуганём литвина? – неожиданно загорелся князь Владимир. – Выдерем ему хвост!
– На что нам синица? – опять сказал Басманов. – Нам журавля добыть надобно.
– Верно, – согласился с ним Иван и кинул взгляд на вьющееся над Полоцком знамя. – Пусть на месте стоит воевода, – сказал он гонцу, – и дозорит литвина, чтоб не подкрался нежданно. Нам от Двины безопасно должно быть!








