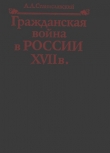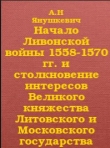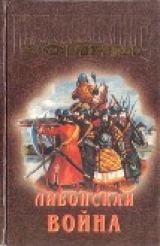
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 54 страниц)
Весть о том, что царь войну унял и велел воеводам собирать войско в обратный путь, пришла в полки дорогой гостьей. Обрадовались ратники… И хоть не всем сулилось вернуться к весне домой – многие должны были остаться в Полоцке, – всё равно радовались: кончались тяготы походной жизни, её постылое бесприютье, кончались ратные тревоги, мытарства… Служба в городе куда терпимей: тут и ночлег тёплый, и корм сытный, и десятник поспокойней – не так лютует и измывается, как в походе, не рычит без умолку, как натравленный пёс, не раздаёт зуботычин с обеих рук… Служба в городе проста, размеренна, расписанная воеводами на каждый день, на каждую неделю, и, если не подойдёт под стены враг, не затеет приступа, можно и жир нагулять, служа в городе.
Первым уходил из Полоцка Большой полк. Вместе с ним уходил и наряд, собранный со всех полков.
Сам царь выехал проводить в обратный путь Большой полк. Вёл полк Алексей Басманов вместе с воеводой Бутурлиным.
Изготовив полк к выступлению, Басманов и Бутурлин подъехали к царю, слезли с коней, низко поклонились.
– Доброго пути, воеводы, – сказал сдержанно Иван. – Нелёгок ваш путь, зато радостен. Великое дело сотворили мы, и земля отняя встретит вас щедрой хвалой! Выступайте!
Последним, спустя неделю, двинулся в обратный путь сторожевой полк воеводы Горенского. Царь не выехал проводить Горенского, и его провожали большие воеводы Шуйский и Серебряный.
Мороз в это утро был на редкость яростен. Сидеть в седле не было никакой мочи, а Горенский всё медлил, поглядывал на Великие полоцкие ворота, надеясь, что царь, быть может, всё-таки окажет и ему честь…
– Довлеть тебе, князь, царской милости ожидать, – с мягким укором сказал ему Серебряный. – Будь уж нам рад – не обижай нас с воеводою!
Горенский натянуто улыбнулся, снял рукавицу, обтаял тёплой ладонью изморозь на усах и бороде, собираясь поцеловаться на прощание с Серебряным и Шуйским, и, не удержавшись, ещё раз взглянул на Великие ворота.
– Кланяйся на Москве боярину Челяднину и передай ему, что чаянья его исполнились – мы привели царя к ещё одной победе, да нам бы оттого горестей не прибыло. Перекажи ему из уст в уста, что исконные страха не емлют и правоты своей не отдадут! Как речётся в святом писании: «Что было, то и будет, и что деялось, то и будет деяться, и ничего не будет нового под солнцем!»
Горенский с тревожной смущённостью и растерянностью слушал Серебряного и молчал. Глаза его, ища спасения от властного взгляда воеводы, всё время перескакивали на Шуйского, но тот безучастно пощуривался и тоже молчал.
– Тебе, князь, також не пристало бы запамятовать, на чьих корнях вызрела Русь! – уже совсем откровенно говорил Горенскому Серебряный. – Нашей кровью политы все её всходы, и нашей же кровью окроплена её слава. И посему не милостей мы должны ждать, а почестей… Почестей, князь!
– Я всегда молю Бога дать мне силы и стойкости быть достойным священных заветов старины, – наконец вымолвил Горенский и поперхнулся, как будто от этих слов ему сдавило горло. – Но и царь… свят для меня! И милостей его ищу я по заслугам своим, а не худыми поползновениями. Вы також, воеводы, не чурались царских милостей, и шестопёры ваши воеводские – они от царя…
– Истинно, воевода, – сказал, как всхрапнул, Шуйский и криво улыбнулся. – Во дни благополучия – пользуйся благом, во дни несчастий – размышляй! Так, что ли, наставляет нас святой проповедник? – Горенский не нашёлся, как ответить Шуйскому, а Шуйский, пощурившись на него, покровительственно прибавил: – Размышляй, князь, размышляй… Да поможет тебе сие уразуметь услышанное, а заодно и остальное всё!
– Прощай, князь, – сказал ободряюще Серебряный. – Скоро ль свидимся – Бог весть, но желал бы я свидеться с тобой с радостью!
Ушла из города большая часть войска и посохи, и поугомонилась на спалённом полоцком посаде толчея бесприютных ратников, не нашедших крова в завоёванном ими городе и коротавших дни и ночи под открытым небом. Посвободней стало и потише, только в детинце царь ещё целую неделю трубил торжество, ублажая своё честолюбие и дивя прибывающих к нему с поздравлениями иноземных посланников своим величественным благодушием, щедростью и мощью своей военной силы, лучшим доказательством которой служил сам покорённый Полоцк.
Покуда ехали к нему гонцы и посланники из зарубежья, ни один топор не тюкнул на порушенных стенах полоцкого острога, ни одно бревно не было положено в пробоины на стрельницах; не расчищался ров, заваленный турами, не отводились от стен осадные башни, с сожжённого дотла посада не была свезена ни одна головешка – царь не велел ни к чему прикасаться, чтобы иноземные посланники могли воочию убедиться и рассказать своим государям, какой великий урон причинил он не сдавшемуся на его милость Полоцку. Только Великие полоцкие ворота были расчищены от завалов, и через ров, на подъезде к ним, был наведён новый мост. По этому мосту через Великие ворота иноземные гонцы и посланники въезжали в город. Их нарочно везли через посад, мимо снесённых до основания острожных стен, мимо мощных стрельниц с развороченными венцами и сбитыми обломами, мимо чёрных, смолящихся выжжищ, и, когда поражённые гости вдоволь напичкивались видами поверженной литовской твердыни, их привозили к царю, который собственным обличьем, радушием и необыкновенной щедростью поражал их ещё больше.
Когда посланнику австрийского императора царские рынды накинули на плечи соболью шубу, опушённую горностаем, а Иван собственноручно повесил ему на шею тяжёлую серебряную цепь, у того подкосились ноги, и он опустился перед Иваном на колени, впервые нарушив незыблемое правило, по которому послы и посланники Габсбургской империи приветствовали московских государей без коленопреклонения.
А если выдавался погожий день, солнечный, невьюжный, пусть и морозистый, Иван, отстояв обедню в Софийском соборе, неизменно устраивал скачки по Двине на тройках, стремясь и здесь удивить иноземцев. Выстоявшихся лошадей впрягали в лёгкие узкополосые сани, устеленные обледенелыми рогожами, а сами сани гладки, как столешница, и скошены к заду – на таких санях долго не продержишься, снесёт, когда возница разъярит лошадей батогом. Но в том-то и диво, и азарт затеи – удержаться в санях на трёх вёрстах бешеной скачки, а удержаться – мудрёно, ибо рукавиц с собой в сани брать не положено. В такой скачке на хлёстком ветру за полверсты обморозишь руки! Но тут уж или удача, или руки!
После скачек, одарив удачливых и ловких, Иван сам садится в сани – не в такие, на которых резвились лихачи, а в добротные, с бортами и спинкой, но полоз у них тоже узок, и в ходу они легки. Велит и иноземцам подавать сани… Усаживает их царская челядь к высоким спинкам, в ноги кладут медвежьи шкуры, закутывают в шубы с головой, чтоб не поморозились, ибо царь любит быструю езду и будет мчаться и пять, и шесть вёрст, покуда лошади не выдохнутся. Возницей у него неизменно Васька Грязной. Сноровен царский любимец в быстрой езде: в угоду царю будет работать плетью до тяжёлой испарины, шубу скинет, до рубахи разденется, а промчит царя так, что у того слёзы на щеках позамерзнут.
После катания – неизменно горячий сбитень. Прямо с огня, только-только сваренный, пахучий, жгущий губы, горло, нутро – только такой сбитень любит Иван и похлёбывает его, как простой мужик, из берестяного корца, блаженно постанывая и умиляясь мучениям расхоленных иноземцев, старающихся ни в чём не уронить себя перед русским царём и настойчиво, вслед за ним, смаргивая неудержимые слёзы, глотающих этот огненный напиток, который они непременно назовут варварским.
После сбитня иноземцам показывают самое дивное диво – купание в проруби. Перед широкой прорубью, вырубленной загодя посередине реки, с полдюжины ничем не приметных мужиков снимают с себя свои шубейки, кожушки, кафтаны, рубахи, порты – не торопясь, будто не на яром морозе, а под палящим солнцем, – и, оголившись, не раздумывая, не примеряясь, плюхаются в ледяную купель. Это зрелище так поражает иноземцев, что они просят Ивана показать им этих людей поближе, и, когда те, одевшись и обогревшись у костра, приближаются к ним, они не могут удержаться, чтобы не потрогать их руками и не убедиться, что это действительно живые люди. А Иван, то ли стремясь ещё больше поразить их, то ли желая просто-напросто прихвастнуть, присказывает через толмачей, что у него ледяной купелью не только простые балуются, но и знатные – такие, как большой воевода Шуйский, воевода Щенятев да и другие воеводы и головы полковые.
…Вскоре, однако, поутих и детинец: поразъехались иноземные посланники, а новых уже неоткуда было ждать, и унял царь свои торжества. Не служили больше пышных служб в Софии – царь молился в своей молельне, устроенной для него в покоях градницы, и всё свободное время проводил в разъездах по городу, дотошно осматривая его стены, стрельницы, рвы, защитные валы вокруг острога и даже подъёмные устройства на водовзводной башне.
Закипела работа на посадском пожарище; на перевяслах и башнях острога засуетились плотники, подсобники, устраивая на стенах и верхушках стрельниц журавли-подъёмники; зачастил топоровый перестук, забрякали в притинах кузнецы, принявшиеся за ковку скоб, клиньев, гвоздей, стяжек, обручей и прочей железной снасти, необходимой в стенном деле.
Закончился февраль. Из-за Двины задули густые оттепельные ветры и нанесли тепло. Пообтаяли бугристые берега на Двине и на Полете, белые поля вокруг Полоцка понаморщились бурыми волнами, запахли молозивом боры…
Оттепель заторопила Ивана, и во второй день марта он выехал из Полоцка. В Полоцке оставались воеводы Шуйский и Серебряный. Им было наказано спешно, не мешкая, укреплять город, чтобы сидеть в нём было безопасно, – для того, где будет нужно, рвы старые вычистить и новые покопать, чтоб были рвы глубокие и крутые, и в остроге, которое место выгорело или разрушено, заделать накрепко в три или четыре стены. Литовских людей – приезжих и тутошних панов, землян и чёрных людей – ни под каким видом в город[120]120
Город – здесь: центральная часть, детинец.
[Закрыть] не пускать, а ежели в какой-нибудь день торжественный или в праздник великий попросятся в Софийский собор, то пустить их в город понемногу, учинивши в сей час береженье великое, прибавя во все места надзирателей; и ни под каким видом, без воеводского ведома и без приставов, ни один человек, ни шляхтич, ни посадский, в город не входил бы – в городе должны быть одни попы у церквей, со своими семьями, а лишние люди у попов не жили бы.
Повелено было також сделать в городе светлицу и каждому воеводе ночевать в ней поочерёдно; с фонарём ходить по городу беспрестанно. Управу давать литовским людям, расспрося про здешние всякие обиходы, как у них обычаи ведутся, – по их обычаям и судить. Судебню сделать за городом в остроге, выбрать голов добрых из дворян, кому можно верить, и приказать им судить в судебне всякие дела безволокитно, и к присяге их привести, чтоб судили прямо, посулов и поминков не брали, а записи у них вести земским дьякам, выбранным из земских людей. Кто из детей панских, шляхты и посадских людей останется жить на посаде, у тех бы не было никакого ратного оружия. Ежели в ком из них воеводы приметят шатость, таких людей ссылать во Псков, в Новгород, в Луки Великие, а оттуда в Москву.
Шуйский с Серебряным провожали царя за Полоту, версты на три от города… Прежде чем проститься с ними, Иван, выйдя из саней, долго, напряжённо смотрел на город, крепко сжимая обеими руками висевший у него на груди, под расстёгнутой ферязью, серебряный крест, надетый им в Можайске по нарицанию юродивого. Лицо его было спокойно, только расслабленные, слегка приоткрытые губы выдавали давнюю, тяжёлую выстраданность. Заговорил он тоже спокойно, негромко и неторопливо, с какой-то не присущей ему ранее мягкостью, словно бы оправдывался перед кем-то:
– Лучшее, что мною добыто, оставляю вам, воеводы. Хотя, не будь надо мной высшей воли, сам бы остался тут… Кто ещё ревностней меня прибирает землю нашу и градит её от посягательств?! Кому более могу довериться, как не себе?! Но Бог создал меня двуногим, двуруким и двуглазым. В каждый след не пойти, всего не объять, за всем не усмотреть!.. И говорю я Богу с горечью: почто ты создал меня пастырем земли моей, не дав под мою руку подпаска? И знайте, воеводы: хоть я и есть самый ревностный заступник земли нашей отней, не мной сильна земля наша! Сильна она духом племени нашего русского, а я – лишь вождь его!.. И слуга, и раб… И наравне с вами служу ему – и радуя себя, и гнетя, и неволя на многие неправые дела, не отстраняя своей совести от той неправды. Посему реку вам: не мыслите, что служите мне, Ивашке из рода Рюрика, счастливым рождением посевшему на престол… Вы служите земле нашей и племени нашему. Не забывайте сего, воеводы! Зло на человека да не станет причиной измены отечеству!
Шуйский, не скрывая обиды и оскорблённости, резко ответил Ивану:
– Не тревожься, государь, зло на человека не приведёт нас к измене отечеству! Се тебе говорю я, Петруха из рода Рюрика! – Глаза Ивана рванулись из глазниц, тяжёлые морщины рассекли лоб… Шуйский, не обратив внимания на исказившееся от злобы лицо царя, с прежней резкостью договорил: – Покуда я буду жив, покуда во мне будет тепла кровь, город сей будет твоим, государь, в имени твоём и державе!
– Дозволь мне, государь, не повторять слов князя Петра, – вслед за Шуйским сказал Серебряный, – ибо сердце моё говорит мне то же самое. У нас, как и у тебя, государь, нет иного выбора, и удел наш так же тяжек и горек, как и твой. Ты родился на царство, ну а мы не на измену родились!
– Храни вас Бог, воеводы, – угрюмо качнул головой Иван и, обежав их быстрым взглядом, с неожиданной кротостью и смирением добавил: – И помоги вам быть стойкими в вашем деле. А я, государь ваш, службу вашу почётом одарю и от милостей своих не отставлю. Берегите Полоцк! Берегите, воеводы! Я избрал вас на сие сердцем и умом, понеже нет у меня воевод лучше вас, а которые были – тех мне поминать скорбно. Простимся по доброму обычаю!
Расцеловавшись с воеводами, Иван понурился, не глядя ни на кого, залез в сани, Васька Грязной укрыл его шубой и, не дожидаясь повеления, тронул с места. Вслед за царём тронулся весь санный поезд, сопровождаемый царским охоронным полком. Воевода Зайцев, удостоенный чести возглавлять этот полк – за свой смелый прорыв на полоцкий острог, – проезжая мимо Шуйского и Серебряного, деланно отвернулся от них и не приказал полку отдать честь воеводам. Шуйский потемнел, закусил губу… Серебряный успокаивающе тронул его за руку.
Полк лёгкой рысью прошёл мимо воевод, и вскоре узкое полотнище дороги вытянулось за ним до тоненькой бечевы и оборвалось за ближними холмами.
Через три дня, под вечер, царь прибыл в Великие Луки.
На переправе через Ловать, по обеим её берегам, в ликующем молчании стояли тысячные толпы народа. Пылали огромные костры, извергая в темнеющее небо смерчи пламени, дыма и искр. Торжественна и зловеща была эта неистовая пляска огня: будто все небесные и земные силы – силы добра и зла – сошлись в этот миг сюда и завязали свой извечный бой. Белые, жёлтые, багровые отсветы костров разрастались и множились в сгущающейся темноте, и начинало казаться, глядя на это всё увеличивающееся буйство огня, что с ним уже не совладать, не удержать его и вот-вот этот огненный смерч сорвётся с места и пойдёт пепелить всё вокруг.
Иван с жутью смотрел на огонь, окружавший со всех сторон переправу… Ему вдруг вспомнился Фома, которого он пытал вместе с Левкием в подвале полоцкой градницы, вспомнились его смелые, почти безумные еретические слова, его яростные и неукротимые, как этот разрастающийся огонь, вера и неверие и ещё более яростный и неукротимый протест – протест против всего, что невыносимой тяжестью висело на его жизни, на его душе, на его совести, на мыслях, на истине, которой он так и не нашёл. И вновь, как и тогда, в камере перед Фомой, Иван содрогнулся от мысли, что перед ним не просто огонь и не просто костры, зажжённые в его честь, а страшная, затаённая сила Руси, Руси, неведомой ему, таинственной, святотатной и праведной, ликующей и равнодушной, смиренной и непокорной, но всегда грозной, как и огонь, зажжён ли он в ликовании или в злобе. Эта тягостная мысль вдобавок ко всем остальным мучившим его раздумьям как-то враз подломила его, отчаяла, он впервые почувствовал себя беспомощным и беззащитным против всех сил, возбуждённых против него им самим, и тех, которые существовали ранее, и тех, которые ещё были неведомы ему, но которые он остро предчувствовал.
Иван забился в глубь саней – под козырь, куда отсветы костров почти не проникали, поджал под себя ноги, спрятав меж колен охолодевшие ладони, и замер. Васька Грязной, правивший лошадьми, намерился было остановиться перед мостом, думая, что Иван выйдет к народу, но тот приказал:
– Правь в детинец… Не мешкая… Утомился я.
В детинце Ивана встречали воеводы, уже приведшие в Великие Луки свои полки из Полоцка, но он не остановился и перед воеводами.
Подкатив к крыльцу казённых палат, где царь собирался перебыть ночь, Васька разогнал батогом выскочившую навстречу челядь и сам повёл Ивана в палаты. Иван выбрал небольшую светлицу с широким кутником возле печи, устало разделся, сбросив шубу и ферязь прямо на пол, и, повелев Ваське не пускать к нему никого, только подать свечи и грамоты, присланные из Москвы, остался один.
Почти до полуночи сидел Иван в одиночестве, а потом позвал к себе Малюту. Малюта вошёл осторожно, но не робко, глаз его пытливо обежал светлицу, потом перескочил на Ивана, сидевшего на кутнике с тяжёлым взором.
– Не занемог ли, государь? Буде, снадобья?.. Аль вина крепкого?.. А буде, бабу? – притишил голос Малюта. – Зельную!.. Чтоб горела во плоти! Ты доверься мне, государь… Пожелай!.. Малюта всё сделает!
– Сядь, Малюта, – тихо сказал Иван.
– Иде ж сесть? – огляделся Малюта. – Ты бы лавки повелел поставить…
– Рядом сядь… – Иван тяжело опустил руку на кутник, указывая место рядом с собой.
– Ни за голову, государь, – сглотнув умильные слёзы, тихо сказал Малюта. – Я того недостоин! И ежели век тебе прослужу преданней пса, всё едино не удостоюсь!.. Дозволь паче долу сесть у ног твоих.
Малюта сел на пол у ног Ивана, задрал по-собачьи свою косматую голову. Когда он смотрел на Ивана, его неизменно мрачное и напряжённое лицо смягчалось и светлело.
– Что там? – кивнул Иван за дверь.
– Хмуры все и встревожены… Дивен ты ноне, государь. Нешто хворь?
– Хворь моя – неприкаянность… И страшно мне, Малюта, – вдруг выговорил сдавленным шёпотом Иван. – Страшно! – Прерывистый вздох содрогнул его тело, плечи вздыбились и болезненно замерли, будто что-то вонзилось ему в спину.
– Что же так, государь? – опечаленно вымолвил Малюта. – Нешто сила твоя государская не крепка? Повели – ниц полягут все!
– Повели… – ещё тише и сдавленней прошептал Иван. – А как воле моей воспротивятся? Все! До единого! Зрел нынче костры? Чудилось – полземли горит!
– В твою честь палили! Славно палили!
– Славно?! – Иван угрюмо откинулся на кутник. – А как не в честь, а на погибель запалят они огонь?
– Людва простая тебя любит, государь, – сказал Малюта. – Простой людвы тебе не надобно страшиться. Все за тебя пойдут, понеже ведают, что ты проть бояр, а от бояр они лихушки понатерпелись!
– Я проть всех, – тяжело сказал Иван. – Людве твоей угоден добрый царь, чтоб милости да щедроты расточал, чтоб поборов не делал, на брань не сзывал. Поп им потребен!.. Да и попа они не любят! Они любят бабу, да печь, да горшок со щами, да медовуху… Об чём мужик радуется? Деньжину прикопил! Об чём горюет? Поборы велики! Что мужику до того, что Русию окрест враги обсели – поляки, да литвины, да свей, да крымцы?! И каждый норовит поживиться её телом! Каждый норовит напиться её крови! Кто за Русь, за веру нашу православную перед Богом в ответе? Мужик свою лише избу городьбой огораживает, а моя изба – вся Русь! Мне её потребно огородить! А ежели и иное что примысливаю, то також не во зло и не в разор Руси. Коли море добуду, дух иной пущу по Руси, и мужику повольготней станет, бо богатства наши умножатся! А стану я благочиние блюсти, сердобольничать, милостыни раздавать по всем её весям да мечи на орала перекую – что станется с Русью? Проедим её… И ворог понакинется на нас – снова под его иго пойдём?! Разумел бы то мужик!..
– А ты поведай ему, государь… Выйди на место высокое и поведай мужику. Ан споразумеет он тебя?! А споразумеет – душой к тебе перейдёт!
– Не посули ему благостей, ни к кому он душой не перейдёт – ни к царю, ни к Богу, – презрительно сказал Иван. – А посули, да ненароком не исполни – он за топор! Помню, как после великого пожара на Москве, в лето моего венчания на царство, чернь крамолила и буйствовала! Бабку мою, Анну Глинскую, да дядьёв моих, Глинских, убить заходилась да одного и убила, уволоча его прямо из храма, от святого алтаря… Вся Москва замутилась. Еле я укротил их тогда!
– Что про то вспоминать, государь?! Малолетен ты был тогда… На царстве некрепко стоял. Токо-токо силу свою проявил! Ан опять же не проть тебя чернь крамолила… Проть бояр!
– Я, что ль, смерд? Повыместятся они на боярах – за меня примутся! Коль и ублаговолю я их и ужалую – всё едино не пойдут за мной! Тёмный народ можно токмо гнать, как стадо. Вести его за собой нельзя – не пойдёт, разбредётся. И я буду его гнать. Бичом! Бичом!! Чтоб посвист его пригибал их до земли!.. И чтоб ведали они лише одну правду – правду бича! Не то займётся пожар на Руси, выгорит она дотла, и засыпятся пеплом все наши деяния, распочатые ещё Рюриком.
Иван смолк. Видно было, что, выговорившись, он чуть поуспокоился. Малюта преданно и восхищённо смотрел в его лицо, ставшее вновь решительным и гордым. Иван улыбнулся ему, порицающе сказал:
– Совет твой пуст, да благо неволен… Не стань ещё и ты поучать меня. Испротивели мне умники!
– Государь!.. – Малюта повинно приткнулся к сапогам Ивана.
– Оставь, Малюта… Не виню тебя, не упрекаю… Хочу службы твоей, хочу верить тебе, как самому себе… Хочу, чтоб руками моими стал, злобой моей, местью!.. Главный мой час настаёт, Малюта, и мне теперь нужны не советчики, а исполнители! Чтоб воля моя была в них и умом, и сердцем, и духом!.. Таких от любого отца приму, из грязи, из гноя выну, за стол с собой посажу, но службы от них захочу самой ревностной. Чтоб по слову моему ни отцов, ни матерей родных не пощадили, чтоб от Бога отреклись, коли я повелю. – Иван снова улыбнулся Малюте: глаза его с жестоким откровением выплёскивали на него свою чёрную глубину. – Я ныне добр, Малюта, – сказал он тяжело. – С добром и пожалованием отпущу тебя, ежели засмутилась твоя душа от моих слов. Подумай, я дозволяю… А обдумаешься – после лишь плаха разведёт нас!
– Не пытай меня государь, такой пыткой, – заплакал Малюта. – С того самого часу, как приглядел ты меня, жись моя перешла в твою без остатка…
– Верю тебе, Малюта… Хочу верить! Глядел я на тебя на двинском льду, коли ты с израдцами управлялся… И мне будто глас с неба на тебя указал. Сомнений я избавлялся, глядя на свою ненависть к израдцам, ныне страху избавился, глядя на твои слёзы.
– Спаси тебя Бог, государь, – заплакал ещё сильней Малюта. – Спаси Бог.
– Ну ин довольно!.. – сморгнул слёзы и Иван. – Слёзы и кровь пуще всякой клятвы связывают, да хватит души!.. Разуму надобно в дело вступиться. Стряхни слёзы, Малюта, слушай меня… Пишут мне воеводы из Смоленска… – Иван взял лежащий на кутнике небольшой свиток, развернул его наполовину, что-то поискал в нём глазами, нашёл, вчитался, глуховато заговорил: – Прислал к ним в Смоленск казачий атаман Олекся Тухачевский языка, литвина, взятого под Мстиславлем. – Иван отпустил край, свиток свернулся. Иван положил его рядом с собой. – И тот литвин показал, что литовский гетман пошёл к Стародубу, а с ним много людей литовских, и пошёл гетман по ссылке с стародубским наместником… Измену великую замышляют служилые мои – стародубский наместник Васька Фуников да воевода его Ивашка Шишкин. Стародуб – крепость мою порубежную – намеряются литвинам сдать! – Иван стиснул зубы. – Вестимо, какого поля ягодки… Адашевского! Его родственец – Шишка Иванец!.. В далёком колене, а верен родству. Да нитка, видать, не от Шишки тянется, а от братца Алёшкиного – от Данилы… А буде, и ещё подале – от князя Андрея, от Курбского. Вольготно им было при Алёшке-то при Адашеве! Избранными сидели при мне… Почести да тарханы[121]121
Тарханы – всевозможные льготы.
[Закрыть] из-под моей руки раздавали, разом во всём были, разом и на измену идут.
– Мыслимо ли, государь?! – ужаснулся Малюта. – Ан и в Полоцке також коварство таится… В клетку бы их – Шуйского да Серебряного!
– А тебя на воеводство? – понуро усмехнулся Иван.
– Биться я могу! – с искренней простотой сказал Малюта.
– Биться?.. – ещё сильней понурился Иван. – Лучше неверных оставить, да искусных, чем верных, да неспособных. Ан и убережёт их Бог от измены, и удержат они город, а неспособные сами погибнут и город погубят. О Полоцке я непокоюсь, да Стародуб мне в бо́льшую тревогу.
– Пошто же медлишь, государь? Вели мне скакать в Стародуб да имать подлых! Животами тебе их доставлю, а в городе иных людей на бдение наряжу – сыщу средь незнатных, твоим именем посулясь… Так и будет крепость в надёже.
– Затем и призвал… Снаряжайся наскоро – утром чтоб в путь. С собой татарчуков-царевичей возьмёшь да полусотню из моего охоронного полка. Воеводу, да наместника, да иных, которые с ними заодно, имать тихо, дабы по городу ропот не пошёл. В городе скажешь, что наместнику и воеводе государь службу переменил. Людей верных подберёшь и над ними царевичей поставишь, а к царевичам приставь тайных доводцев[122]122
Доводец – доносчик, осведомитель.
[Закрыть]. Не скупясь оплатишь их… Васька! Федька! – громко крикнул он и поднялся с кутника.
В дверь заглянул Васька Грязной, из-за его плеча – Федька…
– Сундук с серебром, – повелел им Иван.
Васька с Федькой внесли в светлицу небольшой сундук, окованный медью. Иван достал откуда-то ключ, отпер сундук, поднял крышку…
– Три пригоршни возьми, – сказал он Малюте, наклоняясь над сундуком, и тут же заскупился. – Нет, две… Двумя управься!
– Одной управлюсь, государь, – сказал Малюта, захватив полную пригоршню серебряных монет.
– Две – я изрёк, – разозлился Иван и, когда Малюта взял и вторую пригоршню, примирительно сказал: – Паче неразумная щедрость, неже разумная скупость. Вынесите! – приказал он навострившим было уши Федьке и Ваське и, когда те вынесли сундук, вновь заговорил о деле: – Поймав Шишку да Фуникова, цепи на них наложишь и в Москву повезёшь. И там також крепко беречь их! Меня станешь дожидаться… В Москве чтоб тебе бояре препоны не чинили – вот!.. – Иван снял с пальца перстень с печаткой, положил его в ладонь Малюте. – Отчёту никому не давай и ничьей воле не повинуйся! Дожидайся меня! А опричь всего, в Москве глаз за Данилой Адашевым нарядишь. Тихо будет сидеть – не трогай! Начнёт ссылаться с кем – ведал бы, с кем ссылается, а коль в бега намерится, проведав про Шишку, переймёшь и також за ключи посадишь!
– Всё исполню, государь!
– Також в кабаках побывай, поприслушайся, да на торгу средь чёрных да торговых людишек потолкайся… Средь купцов заезжих. Послушай, какими слухами Москва полнится! Ныне вельможные смуту в народ понесли… Шепотников подпускают, хотят растревожить чернь, застращать, занепокоить, взбаламутить!
– Всё исполню, государь! Всё, как велишь!