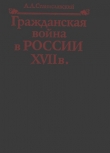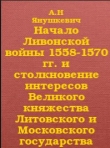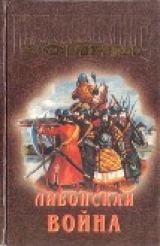
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 54 страниц)
– Истинно, государь, – качнул подобострастно головой Варлаам.
– Досель, однако, – возвысил голос Иван, – всё больше иноземцы, пришельцы от чужих языков, смущали русскую душу своими мудрованиями и ересью. Явился в бытность деда нашего из Киева в Новыград учёный иудей Схария и пустил по Русской земле злую новетрь – ересь жидовствующую… И многие в ту ересь поползнулись. Чему учили смрадные?! Троицу святую единоначальную отвергать, Исуса Христа, Бога нашего, Богом не почитать! А после явился на нашу землю гречин Максим, инок святогорский, отцом нашим призванный на доброе дело – книги святые греческие нашим языком изложить. И на что вознамерился пришлец тот афонский, навостряемый умом своим, науками извращённый?! Книги служебные исправлять по своему разумению и почину, да и того пуще – Евангелие святое толковать по своему же уразумению. Слово, пространно излагающе нестроения и бесчиния царей, – его же, Максимовой, рукой писано… «Несть боле мудрых царей и ревнителей отца небесного! Все живут для себя лише и лише о расширении своих держав помышляют! Друг на друга враждебно ополчаются, друг друга проторят[209]209
Протори – убытки.
[Закрыть] и льют кровь верных народов, а о церкви Христа Спасителя, терзаемой и оскорбляемой от неверных, нимало не пекутся! Как не уподобить окаянный наш век пустынной дороге?!» Вон како кипела негодованием душа просвещённого инока! На нас, правых государей земли нашей, ополчал открытую злобу свою премудрый старец, о церкви Христа, Спасителя нашего, терзаемой от неверных, соболезновал, а тайно злоумышлял противу нас же, противу церкви святой нашей! К турским пашам и к самому царю турскому грамоты скровные посылывал… И речи подлые говорил людям нашим, деи, быти на земле Русской салтану турскому, занеже салтан не любит сродников царегородских царей[210]210
Сродники царегородские – великий князь Иоанн III был женат на греческой княжне Софье Палеолог – племяннице последнего византийского императора. Посредством этого брака великие князья московские вошли в родство с византийскими (цареградскими) императорами.
[Закрыть]. Так не грешен ли, не преступен ли и не скорбен ли разум, познавший науки, но не познавший праведности и не обретший благолепия? За истину ли подъемлется он? И ведёт ли и истине многая мудрость? Ан как уводит она от истины?!
– Суть изумления[211]211
Изумления – здесь: сумасшествия.
[Закрыть] римского еретика Иеронима все писания и дерзости Максимовы, – сказал с угодливой и гневной подобострастностью Левкий, подлаживаясь к Ивану. – Иеронима Савонаролы, коего даже папа, сам отступник Божий, и тот повелел предать огню.
– Пусть им, – жёстко сказал Иван. – Не нашего они племени, не нашего языка… Не велика досада! Но велика будет глупость и оплошность наша, коли собственных подобных заводить станем. Были уж у нас Башкины, да и иные есть – и поныне! И малая учёность не пошла им впрок. Ни польз, ни добродетелей не приимела вера наша от них и государство наше… Один урон и разврат! Что же, нынче своей рукой новых творить станем?
– Не гораздо то!.. – бодливо трясанул головой Варлаам, и даже клобук его набекренился. – Потворы творить искушениям дьявольским – преступно! Воспяшати[212]212
Воспяшати – препятствовать.
[Закрыть] тем искушениям – осе истинное благодеяние, государь!
– А вот бояр попытаем, – с заумной расчётливостью бросил Иван, делая вид, что слова Варлаама не больно много значат для него. – Вот ты, боярин… – приклонился он к Глинскому, – скажи нам своё мнение. Не обинуясь скажи… Ан как не настоящ[213]213
Не настоящ – здесь: не прав.
[Закрыть] я?.. Иль намеренно всё так измыслил?
– Что ж сетовать, государь, на кознования ума человеческого? – неохотно ответил Глинский. – И тело, и душу, и ум человеку – все веди Бог сотворил и каждой части пищу свою предопределил: чем питаться телу, чем душе, чем разуму… – Глинский говорил с неохотой, но откровенно и прямо, не кривя душой. От усталости, от глубокой надломленности и смуты в своей собственной душе и от безразличия ко всему говорил так Глинский. – Разум питается знаниями… Сие от Бога, государь, и непреложно сие, ибо и на небе и на земле всё разумно. И Бог сотворил человека по своему образу и подобию – разумным. Не хотел он видеть человека неуметелем и невеждой, тёмным и диким, подобно зверю. Ибо не приходит зверь к Богу, а человек пришёл… И познал его… И просветился.
Иван растерянно и зло потупился: не ждал он от Глинского такого и не готов был к этому… Однако не перебивал, слушал – гордыня брала верх над злобой.
– …И не сдержать разума человеческого, не одолеть его никому. Дай разуму свободу, государь, но заставь его служить себе, и непоколебим будет твой престол. Иначе… сам ведаешь, государь, нет в человеке ничего страшней, чем разум его.
– Ан ты ещё и филозоф, братец, – справившись с недолгой растерянностью, бросил насмешливо Иван. – Не про то мы тебя спрашивали, и не на то ты нас наставляешь, усердник…
В голосе Ивана почуялась мальчишеская запальчивость: вот-вот и снизошёл бы до брани с боярином, как раньше бывало… До слёз спорил и отстаивал свою правоту чуть ли не перед каждым из них. Теперь – нет! Не тот он уже, хотя и кипит в нём по-прежнему капризная ярость спорщика, готового драться за каждое своё слово, – только теперь уже не с каждым, да, собственно, почти ни с кем! Пришло иное понимание своего положения, своей власти, своей особенности, иное чувствование своего превосходства надо всеми и всем, что было в его власти, и это понимание, эта вызревшая осознанность своей исключительности вознесли его и над самим собой, над своими привычками, над своими слабостями, над своими страстями… Он научился видеть, но главное – уважать в себе царя!
– …Мы не неволим разума, не угнетаем его, – сказал он с весёлой, вальяжной назидательностью, испустячивая дерзкие разглагольствования Глинского, но более всего – успокаивая самого себя. – Разум у нас царствует, а глупость юродствует! А о престоле нашем почто тебе радеть, братец? Престол наш крепок и неколебим от веку и до веку… И не чужим разумом, коим ты нас так красно прельщал, а своим, присным, дедами нашими и прадедами приятым от пращура нашего – Рюрика. Тем разумом мы Русь державою соделали! Поглянь – что ныне Русь! В каких пределах её держим! От немцев до татар простёрли свою державу! И нынче – не тризну правим, но пир – во славу новой победы нашей! Не так ли, братец?.. Да уж молчи, молчи, усердный, – недобро остановил Иван Глинского, намерившегося что-то ответить ему. – Молчи, любезный!.. Ты уж своё изрёк, поучил нас!.. Да и княжича, поглянь-ка, порадовал! Общника в тебе учуял и мнит небось, что ты у нас самый разумный, что твоими устами глаголет истина?! Ну-ка сознайся, княжич, так ли помыслил, внимая боярину?
– Красно рек боярин, – смутился Пётр. – Токмо… не всё мне в радость в словах его… Что – и в смущение. Како ж может быть разум страшней всего в человеке? Жесточь, неправедность, зло, богохульство!.. Но разум… Како ж разум?!
– Вон, стало быть, как? – игриво нахмурился Иван. – Стало быть, и в смущение?.. А братья твои, гляжу я, пуще прежнего удручились. Им, должно быть, вовсе худо на душе? Что же удручились, княжичи?
– Не отпускай, государь, Петра за рубеж, – глухо и гневно сказал Андрей. – Не отпускай! Попытай иных бояр – пусть скажут… Нелепость[214]214
Нелепость – здесь: непристойность, нехорошее поведение.
[Закрыть] братца нашего горше смерти его, государь.
– Гораздо, – враз меняясь в лице, сказал Иван. – Попытаю и иных… Ты, Челяднин, како мнишь, сказывай?
– Како ж я мню, государь, на пиру сидючи? – усмехнулся Челяднин. – В притче как сказывается: во хмелю что хошь намелю, а просплюсь – отопрусь. Не моё сейчас мнение, государь, – хмелево… Да и усадил бы ты недоросля за стол, к яствам, к вину… Мужать княжичу пора. Мы в его лета на бранях промышляли, полонянок окарач ставили, а он, должно быть, ещё и хмельного ни разу не пригубил. Пусть испробует – с похмелья блажь отойдёт. А нет – жени его, государь, пусть в постельных науках изощряется.
Иван выслушал Челяднина спокойно и как будто даже равнодушно; его лицо, только что бывшее возбуждённым, кощунственно весёлым и красивым, стало непроницаемым и презрительно-спокойным.
– Ты, Мстиславый… – вяловато повелел он.
– Что нас пытать, государь?.. – сухо ответил Мстиславский. – Его самого попытай: поцелует ли крест тебе и станет ли вежливо службу нести и честно? Ежели нет – что тебе в нём тогда?! Пусть идёт прочь, без доли, без чести… Пусть несётся ветром, как былие во поле.
– Русский он, Мстиславый! – ощерился Иван. – Русский!.. А за каждого русского я пред Богом и совестью своей в ответе. Как былие во поле!.. – злобно передразнил он Мстиславского. – Что с Русью станется, коли таких вот сынов её, как былие во поле, распускать?! Пригож он мне, и разумею я его, да он меня не разумеет. Не к тем наукам соблазн его… Отечеству служить навыкать надобно в первый черёд, как пращуры наши! Предок наш славный, Мономах-князь, с тринадцати лет трудился в разъездах бранных… Отцы наши, деды, прадеды допрежь навыков книжных да премудростей филозофских на бранное поле шли супротив супостата, кровь свою проливали за отечество, а уж потом науку книжную постигали. И не в постелях бабьих, знамо тебе, Челядня, отцы наши и деды мужали, а опять же – в походах и сечах лютых. А кабы на бабах обретали мы мужество своё, не стояла бы Русь подобно Риму, а рассыпалась бы в прах, как Содом и Гоморра. Да и не так уж мы темны, како мнится иным из нас… Вера наша правая просвещает нас! Слышишь, Глинский? Вера! Души наши и разум питаются добром и мудростью Бога нашего, и Бог предопределил все наши пути.
– Ох истинно, государь! – умильно вздохнул Варлаам, с восторгом и благоговением слушавший Ивана. – В руце божией благоуспешность человека, и на лице книжника он отпечатлеет славу свою.
– Университас, государь, такое же место, что и храм божий, – сказал тихо Глинский. – Во храме, пред ликом Господа, человек насыщает душу, в университасе – разум. И то и другое – Божье произволение, государь.
Варлаам фыркнул за его спиной, переглянулся с Левкием – на их лицах остро проступила коварная блаженность.
– Ужли и нам устроить университас? – бросил насмешливо Иван.
– Пошто бы и не устроить? – всё так же спокойно отозвался Глинский. – Не стало бы нужды вот таким молодцам (Глинский вяловато и скорбно кивнул на младшего Хворостинина, понуро ждавшего своей участи) оставлять свою землю, свой дом, чтоб к наукам и прочим полезным делам приобщиться, в коих нужда превеликая государству нашему.
– Государству нашему нужда превеликая в добрых воинах и истых мужах, – убеждённо и властно сказал Иван. – Ещё многое добыть надлежит государству нашему, и добывать то всё придётся мечом, на поле брани! Всему своё время, как писано… Время убивать и время врачевать!.. Время разрушать и время строить!.. Время войне и время миру. Разумеешь ли ты меня, княжич? Подыми свои глаза, погляди на меня… – Мягкость, но какая-то особенная, не сочувственная, а подкупающая, снисходительная мягкость была в голосе Ивана, не заставлявшая отступаться ни от чего его самого, но требовавшая отступничества от другого. – Разумеешь ли ты меня? Что бояре рекли – то пустая изощрённость их лукавых душ… Не приспело ещё время садиться нам за харатьи[215]215
Харатьи – собственно книги, написанные на пергамене, который в Древней Руси называли харатьёй, от его латинского названия charta pergamena.
[Закрыть] да мудрствовать прелукаво о суете сует, изводя втуне недолгий час наш земной. Вельми много ещё сотворить нам надобно – руками сотворить, силой, храбростью… и злобой нашей, и жесточью! Ибо, подвизавшись на доброе и великое, не можем мы сердца свои мягче воска смягчать! Великое дело грядёт, княжич! Тебе непросто разглядеть его, но меня Бог поставил выше…
– Мне трудно уразуметь тебя, государь, – сказал горько Пётр. – Мысли твои высоки… Необъятны! Но ежели ты разумеешь меня, государь… Ты сказал – разумеешь!.. Тогда отпусти меня… Отпусти, государь! Нет сил душу свою вспять повернуть. Паче уж мне в темнице сидеть или сгинуть.
Крупные слезины выкатились из напряжённых, немигающих глаз Петра, на мгновение замерли на крутых взломах его щёк, словно скипелись с их пылающей бледностью, и медленно блестящей струйкой оползли вниз, к уголкам губ. Страшней любой отчаянности были эти слёзы и дерзостней любого протеста.
– Вели увести меня, государь, – тихо попросил Пётр.
– Ты не в моей воле, – сухо, отчуждённо сказал Иван. – В судьбе твоей властны братья твои старшие. Так извечно ведётся у нас на Руси, и я не властен рушить обычая. Как скажут они, так и будет с тобой учинено.
Пётр покорно опустил голову.
– В темницу его, государь, – гневно и твёрдо сказал Андрей. – Иначе он самовольно побежит за рубеж.
– В темницу, – быстро повторил вслед за старшим братом Дмитрий.
Крутая морщина сползла с Иванова переносья.
– Прощай, государь, – поклонился Пётр. – Прощайте, братья!.. Я рад, что и вы не преступили своей души.
Дмитрий не выдержал, повернулся к Петру, но обнять его на глазах у царя и старшего брата ему не хватило духу.
– Прощай, братец, – еле слышно сказал он и опустил перед Петром глаза.
К утру второго дня пиршество в Грановитой палате стало чуть притихать. Попригасли свечи в паникадилах, поистомились стольники и виночерпии, поупились гости…
Царь отправился почивать. Только он один и мог уйти с пира, другим – так уж велось с давних пор – не дозволялось оставлять пир по своей воле до самого его окончания. И день, и два, и три тянется государев пир, щедро льётся вино, яства ломят столы – легче дюжину необъезженных жеребцов обуздать, чем высидеть на таком пиру, но сидят, из последних сил сидят, изнывают, наливая себя вином, набивая яствами… Не выдержишь, обопьёшься, свалишься под стол – не велика беда: опозориться – не надерзить! Вытащат слуги вон из палаты и, посмотря по чину, по достоинству, то ли домой свезут, то ли кинут, как простого ярыжку, наземь. Такое простится, оставится, но уйди-ка самовольно, посмей – тут уж несдобровать никому: ни худородному, ни именитому. Две дерзости не прощаются никогда и считаются самыми великими – проехать через весь Кремль или уйти самовольно с государева званого пира.
Дерзнул однажды окольничий Головин проехаться через Кремль – зло и намеренно дерзнул, бросая вызов царю, – и был исщедра попотчеван за дерзость свою незабываемым лакомством из сыромятных бичей. Так попотчеван, что и других, повадных до дерзостей, стошнило.
Вот и нынче, как ни кортело окольничему уйти с пира, как ни подмывало его вновь надерзить царю, не собрался, однако, с духом, не отважился, сидел, запивая злобу вином. Гневной дрожью окатывало его воспоминание о тех трёх дюжинах плетей, что всыпали ему кудермы перед Разбойной избой, и мучительно терзалась в нём его попранная гордыня. Не тело его истязали тогда – гордыню его, честь его! Горела его душа, саднило её, как будто ему прямо душу исстегали бичами. Мести жаждал он, отплаты, открыто и исступлённо жаждал, как выкуневший щенок, почуявший крепость зубов в пасти. Но что он мог один? Разве только опять лечь под плети и стать живым укором для тех, кто трусит, кто выжидает, кто уповает на царское благоразумие и ждёт от него добродетели.
Будучи зван на пир, поехал он прежде кое к кому из бояр – к Кашину, к Шевереву, к Куракину, к Немому, стал призывать их к решительным действиям, уговаривал не ехать на царский пир либо уйти с пира – всем, разом, дружно! Пусть попробует замахнуться на них – на всех сразу! Не сыщется в нём столько смелости и решительности. Крут и скор на расправу он лишь с одиночками, вроде его, Головина, или Бельского, или Воротынского, а как подняться всем разом и не отступать, стоять на своём до последнего, до конца! Не отважится он пойти против всех, отступится, спрячет зубы: нрава он волчьего, но и волку дорога своя шкура.
Да не вняли бояре его речам и уговорам. Отсопелись в бороды, отъюлили, отбоярились: «Упаси тебя Бог, окольничий!.. Неладным ты душу свою изгнетил. Образумься! Удержи себя от греха, от преступленья и иных в свой след не тащи!»
Благочестивые отговорки! Извечно рядится в эту одёжину зломудрое лицемерие и лукавство. Как броней, покрывает она души – попробуй пробейся сквозь неё!
Сказал им всем прямо в глаза Головин: «Трусы вы, трусы, а не хитрецы, и не лукавство в ваших душах, а страх, и не с царём хитрите, а меж собой – друг с другом: ходите лисой один перед одним, мутите воду, и кто посноровней, половчей, тот ловит рыбку в этой воде и ушицу похлёбывает, а кто растяпа, простак, а хуже того – доверчив и честен, тот ходит в дураках». Сказал, рубанул сплеча, и вот – теперь уж точно остался один, как верста в поле. Не простят ему бояре прямоты: горды, чванливы, самолюбивы, да и не того полёта он птица, чтоб взяли они его в свою стаю. Нет ему места среди них и не будет – да и пусть! Не места он ищет, не тщеславие изводит его… Царь, царь!.. Вот его мука, его боль, его непокой, его исступление. Взгляд уронит в его сторону – чёрной злобой заходится душа, и каждая мысль о нём – как плеть, что вонзалась в него в тот незабываемый день. И уж совсем нестерпимо своё бессилие, и одиночество, и отверженность… В своей среде он тоже изгой. Сторонятся его, чураются… Нынче на пиру он по роду и чести на главном месте сидит за столом окольничих, но погляди-ка на всех остальных – сидят с таким видом, будто его вовсе и нет за столом. Вяземский, Ловчиков, Зайцев – вот кто нынче главенствует за столом окольничих, на них лебелизо пялят хмельные глаза, их, как блинами с огня, потчуют масляными прихмылками, к ним нынче льнут и примащиваются, перед ними усердствуют в угодничестве и щедро расточают вкрадчивую ухищрённость корыстного двоедушия. Меняется ветер, перекладываются и паруса. Держать против ветра – кому под силу?! Таким, как он, Головин, и то невмочь! А всей этой лизоблюдствующей братии, с её утлыми душонками, и подавно не выстоять против ветра. Да и зачем ей это?.. Зачем ей Головин, зачем бояре, когда есть царь – царь, стоящий надо всеми! За ним они пойдут, на его сторону станут, его выберут – и уж выбрали! И наплевать Головину на них, всегда было наплевать, он бы с ними всё равно не связал себя: они для него то же, что и он для бояр, – мелкие пташки. Пусть чураются, пусть пренебрегают – наплевать! Но душа его скомит: тягостно чувствовать свою отверженность, тягостно сознавать своё одиночество и бессилие. Ничего он не может в одиночку: одной рукой и узла не завяжешь! А царь силён нынче, силён как никогда! Но можно, можно обломать его нрав, можно принудить его быть покорным. Есть ещё такая сила, которая может противостать ему… Эта сила – бояре!
Головин спустит, как пса с цепи, свой злобный взгляд, устремит его на боярский стол – каждого-каждого обойдут его глаза, обмерят, обшнырят, обдадут гневным укором и как будто облают презрительным лаем. С языка у него так и рвётся негодующий упрёк, яростный, исступлённый… Крикнул бы он им: «Жирные вы караси, богатины пентюшивые, неужто застлало вам, не видите, к чему дело клонится? Не гомозитесь, не чваньтесь, не лукавьте друг перед дружкой! Нет сейчас врага страшней, чем царь! Восстаньте на него купно и твёрдо… Все, как один, восстаньте! Стеной, глыбой воздвигньтесь пред ним, и в миг один не станет его! Падёт он ниц перед вами, положит свою волю на ваши руки. Всё будет под вами!.. Понеже сила ваша ещё могуча. Вы ещё можете обратать его… Ещё можете?.. А упустите сей час – конец вам! Всем – конец!»
Да не крикнет, теперь уже не крикнет, не станет больше вразумлять их… Тоже гордость есть, и немалая! Лежит она в нём поперёк его души тяжёлым, угловатым камнем: нелегко ему с этим камнем, с трудом осиливает он его, с трудом ворочает из стороны на сторону. Повернул было, пришёл к ним с открытой душой – не вняли, отмахнулись, отвернули от него свои души… Ну так пусть теперь пьют свою чашу, она уж для них приготовлена. Он свою також изопьёт – в одиночку!
А за боярским столом – не слышит того Головин – перебирают его косточки: степенно, беззлобно, этак даже снисходительно… Боярин Немой, словно ненароком, словно в хмельной истоме, притыкается к Кашину и, оглушая голос до шёпота, сторожась сидящего неподалёку Умного-Колычева, увалисто буркотит:
– Головинский-то отпрыск… Эвон как зарит![216]216
Зарит – смотрит не отрываясь.
[Закрыть] Глаза что ножи!
Лицо у Немого раскалённое от хмеля, хоть онучи суши, но взгляд умудрённо остр и голос твёрд, внятен. Много влил в себя хмельного зелья боярин, но рассудка не залил, стати своей не принизил – крепок боярин, не впервой на пирах сиживает.
– Да уж навёл на себя он страсть, – согласно отшептывает Кашин, – хоть руки на себя накладывай.
– Давеча… – Немой сострадательно морщит лицо, только сострадательность-то его пополам с надменностью: уж над кем, над кем, а над Головиным-то он чует свой верх. – Что призадумал-то давеча… – с нарочитой удивлённостью говорит он. – Наехал ко мне на подворье…
– К тебе ли единому…
– Вестимо, не к единому…
– У кого нет голосу, тот и петь охочь, – роняет надменно Кашин и плоско, как сыч, смотрит на Немого: поди пойми, о ком он так – о Головине ли, а может, о нём, о Немом?
Немой плющит лицо в согласной улыбке, а глаза его сквозь ехидные щёлки так и режут Кашина, так и жгут, но Кашин непроницаем, глаза его мелки, как плошки, и будто не за ними таится одна из хитрейших и изощрённейших душ – только на тонких губах его лежит еле заметный, вяловатый изгиб презрительной самонадеянности.
Немого коробит от этой неутаивающейся презрительности и самонадеянности Кашина. Плюнул бы в его разлукавую рожу – ох и рожа: борода апостольская, а усок дьявольский! – да не плюнет, ведь это всё равно что в собственную рожу плюнуть. Не многое разнит их!
– Спета его песенка, – говорит Немой равнодушно, и чувствуется в его равнодушии тонкое отмщение кашинской надменности.
За боярским столом вольготная суетня, шум, веселье… Повзбодрились бояре с царским уходом, пораспрямились, рассупонили свою спесь, распнули свою широкость: не стало над ними царского глаза, не стало его суровой и злой пристрастности, ну и дали себе волю! Хоть ненадолго, на несколько часов лишь, а всё ж вольны!.. Вольны встать из-за стола – и не скромненько, не с поклоном царю, и не с мольбой в глазах, когда нет уже мочи осиливать перепотчеванное чрево, а легко, и свободно, и запросто, как у себя дома, – вольны громче обычного кликнуть слугу да и в морду вольны ему съездить от пущего куража, вольны в полный голос говорить, смеяться, вольны, коль заблагорассудится, и на голову стать – кто их теперь урезонит, кто остепенит?!
Воевода Шереметев в злом истерпье подзывает к себе прислужников, велит снести себя до ветру. Смешон воевода на руках у прислужников – этак-то носят по улицам в срамной рубахе баб-блудниц.
Князь Хилков, распираемый хохотом, сыпанул вслед куражливый мат – не в обиду воеводе, в потеху иным, – и завихрился по палате скоромный хохот: над боярским столом – откровенный, идущий из самой утробы, над столом окольничих – более сдержанный, притаённый, но и ехидноватый, с тонкой злорадинкой, от которой никогда не может удержаться ни одна окольническая душа, если выпадает удобный случай в чём-нибудь попотешиться над боярами! Хохочут – как розгами секут! Зато там, где порассеялась мелкая сошка – не родовитые, не чиновные: подьячие да прочий приказный люд – от приставов до судебных старост, – там совсем иные страсти, там не хохот, там хохоток – услужливый, вежливый, мягкий, как подовый пирог…
У всей этой служилой мелюзги душа всегда на привязи, и боже упаси дать ей хоть в чём-нибудь волю! Безликие, услужливые, приятные – везде и во всём, – тем они и сильны, оттого и живучи, оттого и неуязвимы, и счастливы тем!.. Какие только ветры не дуют над ними!.. Какие грома громыхают! Рушатся судьбы, падают головы, жизнь разверзается до самой истошной своей безобразности и затягивает в свои смрадные глубины всё и всех… Всех, но не их! Они остаются – неизменные, неизбывные в своей терпимости и стойкости, неуязвимые в своей заурядности, хитрые своей бесхитростностью и страшные своей живучестью.
Унялся хохот в палате, да не унялся Хилков: пошёл он тормошить да пинать под бока поулёгшихся на полу вдоль стен истомившихся от хмеля и бессонья гостей. Следом за ним увязался (поплёлся!) Салтыков. Сам-то вот-вот в себя пришёл царский оружничий… Дюжий хохот бояр пробудил его, а то ведь дрых боярин на столе, ткнув холёное лицо своё в кучу рыбных объедков. На бороде так и осталась прилипшая чешуя.
Хилков сапожиной под бок, а то и в сурло прямо (потешней – в сурло!), а Салтыков зловещим громом:
– Так-то царя встречаете!..
Вскинется бедолажный от этого покрику как ошпаренный – в глазах ни сна, ни хмеля… Всё улетучивается вмиг! Жуть закатывается под веки, рот немотой сводит, рожа от страху по шестую пуговицу вытягивая стоя, а Хилков с Салтыковым – за животы…
Всех поснувших переполошили в палате, один лишь князь Юрий – убогий царский братец, свернувшийся калачиком на троне, куда он в блаженной простоте перебрался после ухода Ивана, не проснулся от глухоты своей.
Князь Дмитрий Вишневецкий, с простецкой казацкой бесцеремонностью умостивший свою лохматую голову меж золотых блюд и чаш, прокинулся от дурных покриков Салтыкова, недоумённо порыскал глазами по палате, соображая что к чему, и, видать, до конца так и не поняв происходящего, опять опустил голову на стол.
– А что, князь, – подавшись к Вишневецкому, негромко сказал Мстиславский, – у Жигимонта так ли вольготно на пирах?
– У Жигимонта, шановный князю, паны панами, а блазни[217]217
Блазни – шуты (польск.).
[Закрыть] блазнями, – ответил язвительно Вишневецкий. – Чрез то он и нищ, круль-то… Трёх коп грошей не сыщется в его скарбне! – с заумной рассудительностью прибавил он, насмешливо засматривая в глаза Мстиславского. – Бо йому за едну справу на две строны плациць тшеба… На едну – панам, на другу – блазням! Како ж того скарбу настачишь? А на Московин, глянцу я, бардзо добрый та разумный у господаря ужитэк[218]218
Ужитэк – уклад, правило (польск.).
[Закрыть]. У него и паны и блазни – в едином лице.
Мстиславский как-то странно улыбнулся, выслушав Вишневецкого, – не то согласно, не то сожалеюще, и переглянулся с Челядниным. Челяднин уныловато и тяжело вздохнул, устало смежил глаза.
– Злословен ты, князь, – с мягким укором проговорил Мстиславский.
– Да прав, – не открывая глаз, буркнул Челяднин.
– Ужли прав? – невозмутимо и по-прежнему мягко сказал Мстиславский. – Заблагорассудится князю похлебить царю, пусть повторит ему своё суждение.
Вишневецкий тоскливо потянул со стола чашу с вином… Мстиславский подождал, пока он выпьет вино, спокойно, вполголоса продолжал:
– Нынче у нас на Москве всяк пеший[219]219
Пеший – самый бедный, самый незначительный человек.
[Закрыть] в боярина грязью метит. Ату их, бояр!
– И поделом, – вновь буркнул Челяднин.
Мстиславский вяловато улыбнулся… Он как будто ждал этого от Челяднина и не ждал, и эта деланная улыбка что-то скрыла в нём – то ли растерянность, то ли радость, но заговорил он всё тем же ровным, спокойным, лишь чуть более приглушённым голосом:
– Вот уж и сами себя хулим… Да дай Бог, чтоб сие от лукавого шло. Тебе ж, князь, хочу ответить на твои рассуждения своими рассуждениями. Не возмни, будто от обиды устремленье моё… Вон боярин един с тобой душой, да и я не стал бы на правду восставать… Однако же… праздник наш – не пустое винопитие. На победном пиру сидим, князь… А шутовскими бубенцами, как ведомо, крепостей не рушат…
Было шумно, и вряд ли кто мог слышать Мстиславского, даже прислушивающийся Левкий, сидевший на противоположном конце стола, но Мстиславский всё равно оглушал голос, наполняя его какой-то особой, тонкой, подкупающей доверительностью, и чувствовалось, что делает он это намеренно, желая придать всему разговору побольше таинственности и связать с собой этой таинственностью, как круговой порукой, и Вишневецкого, и Челяднина, сделать и их причастными ко всему, что выскажет он и затронет.
– …и шуты побед не добывают ратных. Шуты в ином преуспевают, князь. И стало быть, раз мы победу празднуем – кто-то добыл её! Государи, что також ведомо, полков не водят, и с ратью на приступ не ходят, и меч свой лише в гневе на подданных своих обнажают. А Полоцк-то пал, сокрушена твердыня литовская! Стало быть, князь, коли дело великое приспевает, сыскиваются и средь нас таковые, что годны на великое… И приспеет час себя щитить, свой дом, обычаи предков наших, мы и в том деле рьяность явим, и силу свою, и твёрдость, и непреклонность.
Вишневецкий, дотоль почти не слушавший Мстиславского, вдруг пристально, с острым любопытством взглянул на него, словно хотел понять – для него или не для него всё это говорит боярин. Учуял он в речи Мстиславского тонкую изощрённость – хитрил боярин: лук натягивал в одну сторону, а стрелы пускал в другую.
Вишневецкий свёл глаза с Мстиславского, вновь потянулся за своей недопитой чашей.
– Така речь, шановный князю, на пэвно[220]220
На пэвно – непременно, обязательно (польск.).
[Закрыть] убедит, в чьи бы уши она ни попала, – сказал он с учтивым равнодушием, поднося чашу ко рту. – Тылько… не доведи боже, шановный князю, попасть ей в уши тому, кто, благословясь у Бога, уж не грязью метит в вас!
Мстиславский остался невозмутим, и не притворялся он, не вымучивал из себя эту невозмутимость, наоборот, ещё и доволен был (довольность как раз же скрывал!), собой доволен – к тому-то ведь всё и вёл. Пусть поспесивится, поумничает Вишневецкий… Что он ему?! Не о нём он думал, не для него говорил – для Челяднина, только для Челяднина говорил он. Хотел разузнать: чем дышит пожалованный опальник и так ли уж смирен, как кажется, так ли на самом деле стал равнодушен и безучастен к тому, что ранее вызывало в нём гнев и протест? Или, может, таится, умудрённый жестоким уроком? Присматривается, выжидает – ведь, поди, десять лет провёл в изгнании, не знает, что здесь и как, чем живёт, чем дышит Москва? А может, на распутье старик, растерян и веру утратил в бояр, в их силу, в успех борьбы?.. Ласки царя могут приворотить его к нему: старость, она покоя жаждет и уж не так строптива, не так горда, не так дерзостна – отступится старик от своей души, станет верноподанным, учнёт служить верой-правдой да к смерти потихоньку готовиться. Царь, должно быть, на это и рассчитывает. А ну как удастся на такого матерого ошейник надеть!
Знает царь истинную цену этому старику, знает, как опасен он для него, ведь только за ним, за Челядниным – за единым! – пойдут все маститые, пойдут не колеблясь до конца! Таков уж он, этот старик! Вот и вернул он его в Москву, и не только с тайной надеждой приворотить к себе… Должно быть, и по-иному рассудил царь: лучше держать волка в загоне, чем рыскать ему в поле.
Мстиславский краем глаза глянул на Челяднина, успокоенно подумал: «Живо в тебе всё, боярин!.. И дух твой челяднинский, и матёрость твоя… Всё живо, токмо схоронил ты сие поглубже, поукромней. Буде, и сам не почуял, как схоронил. Наступили тебе на хвост, крепко наступили, вот и спрятал ты зубы. Да отсеки волку хвост – всё равно не будет овца!»
Челяднин, нахохлившийся, как кречет под колпаком, недобро и нетерпеливо взирал на Вишневецкого, ожидая, когда тот оторвётся от своей чаши. Деранул, должно быть, нагловатый казак своими последними словами душу Челяднина – спала с боярина его пристойная сдержанность, готовился он ответить самонадеянному казаку.