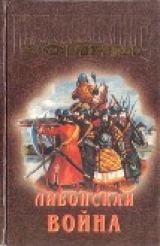
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 54 страниц)
– Здрав и бодр князь Андрей.
– Вступил на наместничество с тоской иль с радостью?
– Служба тебе всегда была в радость князю. Сие ты, должно, и без меня ведаешь.
Иван сел на лавку, мельком глянул на воевод, посъежившихся от холода, с усмешкой сказал:
– Затвори, Васька, дверь. Перемёрзнут воеводы – не с кем станет в поход идти.
Он снял свою длинноухую шапку, положил её на лавку. Плечи его устало опустились.
– Чел я ныне в ночь, – заговорил он глухо, затягивая слова, отчего речь его казалась даже скорбной, – и перечёл трижды сказание о князьях наших великих володимерских. И преисполнилась душа моя гордостью, воеводы, пред величием предков наших… Помните, воеводы, как писано там: егда сед в Киеве на великое княжение князь Володимер Мономах и начал совет творити со князи своими, и с бояры, и с вельможи, слово тако рече: «Князь великий Олег ходил и взял со Царяграда велию дань на вся воя своя[55]55
На вся воя своя – на всех воинов своих.
[Закрыть], и потом великий князь Всеслав Игоревич ходил и взял на Константине граде тяжчайшую дань…»
Иван вдруг смолк. Воеводы вытянули шеи… Симеон Касаевич, ничего не понявший из сказанного Иваном, ещё пристальней вперил в него свои поблескивающие щёлки и от усердия открыл рот.
Иван обметнул воевод испытывающим взглядом, лукаво спросил:
– Кто продолжит, воеводы?
Воеводы враз втянули шеи, завертели глазами, поглядывая друг на друга так, словно каждый уступал другому честь говорить первым.
– Не почитаете вы, бояре и воеводы, книг, – с издёвкой протянул Иван. – А веди ещё в Изборнике великого нашего князя Святослава речено: «Добро есть, братие, почитанье книжное, паче всякому христианину. Красота воину – оружие, а кораблю – ветрила, тако и человеку почитанье книжное!»
– Хе!.. – ощерился из угла Федька Басманов. – Пронскому крест на грамоте в тягость, а ты ему про книги!
Пронский ожесточённо сопнул, словно старался втянуть в себя весь воздух, который был в горнице.
– Такое лише от тебя могу терпеть, государь, – надрывно выдавил он.
– Вот и внемли сему так, будто я тебя укорил, – хохотнул Иван. – Симеон Касаевич – татарин, а русской грамоте выучен.
Симеон Касаевич закрыл рот, а щёлки его глаз стали ещё у́же – он смеялся. Иван тяжело посмотрел на его весёлый прищур, жёстко сказал:
– Татарин смеётся над тобой, Пронский! Эх! – выстонал он истомно и крикнул: – Сгинь с моих глаз!
Пронский метушливо хапнул с лавки свою шубу, уронил, снова хапнул и, не надевая, потащил за дверь.
– Так что ж, бояре и воеводы, – враз успокоившись, спросил Иван, – никто не продолжит?
– Велишь, так я продолжу, – сказал Челяднин.
– Велю!
– Великий князь Володимер Мономах споведал своим князьям, и боярам, и воеводам, что дело прародителей своих и отца своего Всеволода Ярославича продолжить тщится, и вопросил у них: «Каков мне совет воздаёте?»
– Истинно, боярин! Радуюсь тебе! Продолжай далее, ежели помнишь.
Челяднин продолжил:
– И ответили великому князю Володимеру Всеволодовичу князья, и бояре его, и воеводы, изрёкши так: «Сердце царёво в руце божий, яко есть писано, а мы есмя вси рабы твои под твоею властию!»
– Сердце царёво в руце божий! – вскочив с лавки, громко повторил Иван и метнулся вдоль стола, чуть не загасив свечи в шандале. – А мы есмя вси рабы твои под твоею властию! Вот, бояре и воеводы, чем сильны и могутни были наши предки… Купностью и согласием! Вы же речёте мне: «Веруем в веру, юже предаша нам отцы наши», – и противитесь мне! В думе вопите юродных пуще, воззывая укротить меня святым крестом!
Иван встал за спиной Касаевича, положил ему руки на плечи, губы его злобно подёргивались…
– Укорительные и гневные послания шлют обо мне, царь, чернцам убогим по монастырям и скитам… О кривине суда царского печалуются, о поругании невинных! Кары Божьей на меня просят!
– Башка долой надо, – сморщив лоб, сказал Касаевич.
– Я же терплю, царь, не гоню их прочь с глаз моих… Разве самых никчёмных… Совокупляю их и реку по обычаю прародителей моих: «Каков мне совет воздаёте?»
Иван помолчал, пережидая приступ злобы, поспокойней спросил:
– Каков же совет вы мне воздаёте, бояре и воеводы?
– Да надобен ли тебе наш совет? – вопросом на вопрос ответил Шуйский. – Сдаётся нам, государь, что ты давно уже всё сам порешил и не нуждаешься в наших советах.
– Порешил, – резко сказал Иван и как будто что-то оборвал, убил в себе. – Завтра от заутрени выступаем. На Полоцк! С Большим полком пойдёт Басманов… со мной и князем Володимером. При нас воеводы Бутурлин и Морозов – со смоленской ратью! – Иван приостановился, нашёл глазами Серебряного, жёстко сказал ему: – Ты, Серебряный, пойдёшь левой рукой[56]56
Левой рукой – возглавлять полк левой руки. Войско состояло из Большого полка, полков правой, левой руки, передового и сторожевого.
[Закрыть]. При тебе дружина князя Володимера – с Пронским. Правой рукой пойдёт Шуйский. При нём Щенятев. Передовой – тебе, Токмак. Вторым воеводой возьми Оболенского. С тобой татары и черкесы. Но ты им не указ: их Симеон ведёт с царевичами. Татарам на приступе не стоять. От Невеля выпущу их в набег.
– Карашо погуляю! – сморщился Касаевич.
– Под тебя, Горенский, сторожевой отдаю!
Горенский на радостях от такой чести подобострастно поклонился Ивану.
– Басманов добро про тебя говорил, – приняв поклон Горенского, мягко сказал ему Иван. – Изведаю сам: Басманов мне не порука! Нерадивости не оставлю… Никому! Слышите, воеводы?! – Глаза его встретились с глазами Челяднина. – А тебе, боярин, – в Москву! Ведать тебе Казённым двором.
На пир к князю Владимиру Челяднин приехал, когда уже втрете обнесли пирогами. Князь сам вышел из-за стола к нему навстречу, расцеловал, отвёл к своему столу, усадил рядом с собой. За княжеским столом, по левую руку от князя, сидели лишь Пронский да княжеский духовник Патрикий, по правую руку Владимир усадил Челяднина.
Княжеский стол стоял на возвышении. У стола – лавка со спинкой, покрытая мягким ковром. По всей горнице тоже ковры – на стенах, на полу… Горница жарко истоплена, вся в свечах. Множество слуг…
Челяднин не ожидал такой пышности. Глаза его удивлённо обежали горницу… Ниже княжеского стола, вдоль стены, стоял другой стол, длинный, под белыми скатертями, уставленный дорогой посудой, – за ним бояре и воеводы: все, кого нынче днём Челяднин видел в Разрядной избе. Не было только Басманова и Токмакова. Басманов, должно быть, и зван не был, Токмакову же нынче припало забот больше всех – передовой полк получил под своё начало, а на таком воеводстве не до пиров: везде и во всём нужно быть впереди.
– Чашу боярину! – повелел князь Владимир. Княжеский кравчий поставил перед Челядниным серебряную чашу, зачерпнул из ендовы, сверкавшей позлащёнными выворотами краёв, полный черпак вина и наполнил боярскую чашу.
Слуги понесли на стол жаровни, поставили на них блюда с мясом – запахло пряностями, пригаром и терпким ольховым чадом, шедшим от вздутых углей жаровен.
– Князья! Бояре! Воеводы! – тихо, но торжественно сказал князь Владимир. – Нынче мы при великой радости! Славнейший родом, умом, почтеннейший ваш боярин, твёрдость которого преисполнила нас пущей любовью к нему, снова с нами! И мы изопьём в его честь наши чаши до самого дна, до последней капли, так же, как испил свою горькую чашу наш дорогой подружник!
Владимир встал, поднял чашу.
– Здравье боярину! – почти выкрикнул он и первым осушил свою чашу.
Челяднин только пригубил… Пронский переглянулся с князем Владимиром: он, должно быть, уже успел кое-что порассказать князю о первой встрече с Челядниным и теперь только ждал доказательств своим рассказам.
За боярским столом виночерпий опять наполнил чаши. Тяжело поднялся Шуйский. Он уже был изрядно пьян, и наполненная до краёв чаша расплёскивалась в его руках.
– По княжьему слову испили мы заздравную чашу… Сию же, бояре и воеводы, осушим за то, чтобы горькая чаша, испитая нашим подружником, не истяготила его горьким похмельем! Прежним хочу видеть тебя, боярин, и за прежнего пью сию чашу!
Челяднин опять лишь пригубил свою чашу и, не став ждать должного по обычаю троекратного величания, встал и невесело начал говорить в ответ:
– Отрадно мне ваше почтенье ко мне, бояре! И честь, которую ты, князь, оказал мне, також в радость и в гордость мне… И всем вам, гляжу я, також в радость сие вольготное гостивство и княжья тчивость[57]57
Тчивость – щедрость, великодушие.
[Закрыть]… Так пошто же, бояре и воеводы, мрачить и мою, и вашу радость недобрыми поминаньями?! Старое минулось, оно за плечьми, новое перед очами!
– Нет, не минулось старое, добр боярин, – сдавленным голосом проговорил Пронский. – Ужли минулся ты? Ужли минулся князь Горбатый? Воротынский? Ужли минулась Русь, где от искони обретались в чести и благополучии наши предки?
– Укорительны твои слова, князь Пронский, но пошто обращаешь ты их ко мне? Неужто царская опала должна вечно лежать на мне, дабы в тебе не учиняло скорби попрание исконных устоев? Перейми её на себя и утешься.
– Неблагорассудны вы, бояре, – тихо промолвил Патрикий. – Пыха[58]58
Пыха – гордость, чванство.
[Закрыть] и усобные зазрения суть губители ваши. От них все напасти…
– О душах бы наших молился, чем обличать-то! – досадливо бросил Пронский.
– О душах ваших аз молюсь непрестанно. И едина мольба моя к Богу: совокупить вас. Есть бо премудрая притча: в густом былии коса вязнет, и вязана в веник лоза не ломится.
– На свете премудростей вельми много, святой отец, – усмехнулся Челяднин, – да знать бы, коей держаться?
– То верно! – буркнул Пронский.
Патрикий скорбно, с сожалением вздохнул и кротко потупил голову. Князь Владимир с неодобрением посмотрел на Пронского, но тот даже глаз не смутил под княжеским взором. Он выжидающе смотрел на Челяднина.
Челяднин стоял как перед судом – жестоким и лицемерным, готовым осудить его за то, за что он сам с большим правом мог судить своих судей. Ни оправдания, ни просьбы, ни даже раскаянья не колеблют жестокой предвзятости такого суда, и он не стал оправдываться, не стал говорить обо всех тех суровых истинах, до которых и сам-то дошёл лишь под конец своей жизни, – эти истины здесь никого и ни в чём не могли убедить, ибо каждый здесь верил только себе, себе одному, и, сойди с небес сам Иисус Христос, стань перед ними и начни их вразумлять, они скорее смогли бы вновь распять его, чем поверить ему и согласиться с ним. Он стал обвинять – без зла, но сурово, с гневным достоинством.
– Не спуста молвится, бояре: что в сердце творится – на лице не утаится. Зрю я ваши лица и разумею ваши сердца. Окручинились они и смутились. А всё через что? Через что не глядишь мне в глаза ты, Шуйский? А ты, Пётр-князь? Не через то ли, что я, боярин Челяднин-Фёдоров, целован царём и Казённым двором пожалован?!
Замерли руки у воевод: оставили они хренницы, солонки, ножи, ложки, понапружили плечи и шеи, стромко выгнули спины, будто под зад им метнули иголок. За их спинами с подносами и блюдами над головами, как ангелы с поднятыми крыльями, замерли слуги.
– …А буде, иное что смутило ваши души, бояре? Отступником мните меня? И готовы судить? Но судья мне лише Бог и моя совесть, но не вы, бояре! Ибо нет среди вас никого, кто сказал бы, что более, чем я, был гоним и унижен и стоял на своём твёрже, чем я!
– Тех уж нет, кто сказал бы тебе и стал вровень с тобой, – тяжело выговорил Пронский.
– И в том вы повинны, бояре! – Челяднин выждал, чтоб каждый прочувствовал его слова: в них было больше, чем обвинение. В них была боль, в них была скорбь – такая боль и скорбь, что даже самых возмущённых и самых несправедливых его порицателей они должны были обернуть против самих себя. – Вы всё лукавили, за чужую спину хоронились… Мнили, что отсидитесь, что обойдёт вас беда! Мнили, отведёт он душу на самых дерзких и непокорных и уймётся…
– Побойся Бога, боярин! – вскинулся Шуйский. – Пошто вину такую на нас возлагаешь?
– Вы сами возложили её на себя! И ежели у Бога просите кары на него, просите кару и на себя!
– Остановись, боярин! – встревоженно поднялся со своего места Серебряный. – Остановись, Иван Петрович!
Серебряный перешагнул через лавку, оттолкнул стоявшего за его спиной слугу, торопливо прошёл через горницу к княжескому столу.
– Не в место такие речи, боярин, – сказал он тихо Челяднину. – В избе сучков много…
– Доноса страшишься, Пётр-князь?
– Страшусь!
Челяднин уныло покачал головой, посмотрел на Пронского, на Патрикия, на князя Владимира…
– Нет среди нас доносчиков! – грохнул по столу Шуйский. – Нет! Скажи ему, князь! Незачем нам продавать свою душу дьяволу! Незачем! – гневно потряс он растопыренной пятерней. – Злата и серебра в сундуках наших вдоволь, а то, что мы тщимся иметь, он не отдаст нам и за наши души!
– Ты хмелен, воевода, – сказал осторожно Серебряный. – Стать буяет в тебе… Но послушай: нынче в Разрядной избе царь, при всех нас, слово в слово повторил весь мой гнев, что излил я однажды в думе.
– Эк и срам-то какой, воеводы! – возмущённо потряс руками Бутурлин. – Мы, как овцы в хлеву, поподжали хвосты и не волка страшимся, а друг дружки. Ты, Серебряный, больно нюхлив! Как кобель!
– Поостерёгся бы, воевода, таковыми словами кидаться!
– Ты эк, мил князь, не стерёгся, коли нас в доносчики поверстал!
– Будет! – снова трахнул с яростью по столу Шуйский. Попадали на пол кубки, послетели с жаровен блюда… Шуйский упёрся руками в стол, решительно сказал: – Говори, боярин! Говори всё, что есть на душе! Не страшись никакого доноса! Все мы связаны тут единой нитью. Тот, кто первым пойдёт доносить, будет токмо последним на плахе.
– Не мне учить вас, бояре, – грустно вымолвил Челяднин, – вы все умны на свой лад… Токмо знайте: смутное и страшное время заходит. Как гроза ополночь. Чем она изойдёт – никто не ведает. Один Бог… А та сила, что грозу ту нагонит, уже рвёт бразды из наших рук. И не малец уже на престоле, на коего стрый[59]59
Стрый – родственник, дядя по отцу.
[Закрыть] твой, князь Шуйский, поглядывал с неудовольствием, коли тот вертелся у него под ногами в царских покоях. Царь на престоле! Царь, бояре!.. И не от блажи отроческой венчал он себя царём… Посягнул он на столь высокое, что нам с вами туда и взора не кинуть. Отец его, великий князь Василий, в такие годы токмо-токмо из-под руки отцовской вышел, а сей – задумайтесь, бояре! – власть свою уж простёр от татар до немцев. Кто ещё из князей московских был столь яр и упорен?!
– Одержим он бесовской страстью, – обронил Патрикий.
Серебряный, всё ещё стоявший возле княжеского стола, так весь и вытянулся от слов Патрикия, будто схваченный судорогой.
– Укроти свою дрожь, воевода, – сказал ему устыжающе Пронский. – У князя слуги глухи.
– Так вот моё слово, бояре и воеводы, – чуть возвысил голос Челяднин. В глазах у него, глубоко под зрачками, затлелся горделивый огонёк. – Сию чашу я пью за царя!.. Ибо пусть даже он одержим и бесовской страстью, всё едино он нам всем не чета! Ныне, в веке сущем, нет на Руси иного, оприч него, кто так крепко управился б с властью!
– Пить за царя?! – удивился до возмущения Пронский. – Как ты можешь пить за него, когда посажен в темницу Бельский?.. Когда изгнан в сослание Воротынский?.. А сам ты не вдоволь, что ль, лиха хлебнул?!
– Не за того я пью, по воле которого изгнан в сослание Воротынский, не за того, который держит в темнице Бельского… Я пью за того, кто привёл в свою волю татар и немцев, кто добыл Казань, Асторохань, Феллин, Дерпт, Нарву и добудет Полоцк!
Воеводы стали разъезжаться с пира, не добыв и до пятого кушанья, хотя на всех прежних княжеских пирах, которые он устраивал чуть ли не каждый день – благо, закончился рождественский пост! – досиживали до последнего – до похлёбки.
Лишь только обнесли жареными карасями в грибах и стерляжьим студнем с печёным луком, вылез из-за стола и откланялся воевода Морозов. Лицо его лоснилось – не столько от жары и выпитого вина, сколько от стыдливой испарины. Стыдно было воеводе показывать свою трусость… Хоть и пил он вместе с Челядниным за царя, и речей крамольных не говаривал, но лучше быть подальше от греха. Как всё обернётся – поди узнай! Сам-то он доносить не собирался и в мыслях такого не держал, но за других – где порука? Чужая душа – потёмки. Донесли же на Серебряного! А ежели царь прознает про нынешние речи, никому не минется – ни говорунам, ни слухцам. Ему так и подавно защиты не у кого искать. За Шуйского да за Пронского все именитые встанут, вся дума заропщет… Да и царь гневлив и крут, а с разбором: на исконных, на Рюриковичей, лишь замахивается, а головы летят у таких, как он. Нет уж, своя рогожа чужой рожи дороже!
Вслед за Морозовым поднялся Щенятев. Во весь вечер ни слова не вымолвил он, и только один виночерпий замечал его за столом. Щенятев всегда был молчуном, но, когда его обделяли местом, как сегодня – в Разрядной избе, тогда он молчал, как Христос на голгофе. Все знали за ним эту странность, но за труса его никто не знал. Бесстрашие Щенятева было ведомо всем, и всем было в зависть: кому в добрую, кому в худую. Доброй завистью он не тешился, от худой не страдал, ибо и самым злым своим завистникам не давал повода для злословия и насмешек: он не боялся ни смерти в бою, ни царя в миру, ни всех своих завистников и врагов. Оттого-то и царь его не миловал! Нынче и полка ему не поручил – Горенскому отдал, который по всем статьям был ему не в версту.
Удивились воеводы, когда увидели, что Щенятев откланялся князю Владимиру. Удивление быстро сменилось тревогой. Щенятев своим неожиданным уходом вконец переполошил их: раз уж и у Щенятева не хватило духу, значит, зарвались, наворотили такого, о чём и вспомнить будет страшно.
– Ишь, баловес! – засмеялся Шуйский. – Пошёл на конюшню с конём говорить. У него всегда так… Душу отводит токмо с конём.
Только смех и объяснение Шуйского никого не успокоили. Воеводы заёрзали, завздыхали, стали по одному вылезать из-за стола, кланяться князю… Тот никого не удерживал. Он, видать, и сам был рад их уходу: молча принимал поклоны, молча провожал глазами до двери.
Когда за боярским столом вместе с Шуйским остались лишь Оболенский и Серебряный, Шуйский зачерпнул из ендовы полный черпак вина и, не переливая его в свою чашу, хлобыстнул одним духом, как будто выплеснул за спину. Отдышавшись, лениво зевнул, натуженно выжевал искорёженным ртом:
– Разбеглись… Се их Щеня распужал! Он на конюшню, а они под образа! Ну хрен по хрену! Мы Рюриковичи, князь! Мы как персты в кулаке! – Он сжал кулак, повертел его перед своими глазами, показал князю Владимиру – тот ободренно улыбнулся. – Нас нелегко одолеть! А тем овнам словесным он споро хребет сломит!
– Я всегда помню, что вы, Шуйские, меня с матушкой из темницы вызволили, – сказал льстиво князь Владимир. – Матушка ежелет на помин сродников твоих в Свято-Троицкий монастырь вклад делает.
– Отец твой помер в цепях – вот жаль! – вздохнул Шуйский. – Смелой души человек был князь Андрей! Не доверься тогда он Елене… На слово её…
– Не против престола шёл – оттого и доверился, – сказал Челяднин. – Себя оборонить хотел.
– Не против престола? – Шуйский долгим взглядом упёрся в Челяднина. – Пошто же сразу к её ногам не притёк? Не доверился Богу и судьбе? Рать поднял?! К новгородцам пошёл?!
– Елене он верил, – ответил Челяднин. – Любимцев её страшился. Телепнёв больно ко многому руки простёр тогда… А Елена Телепнёву благоволила.
– Благоволила?! – скабрёзно осклабился Шуйский. – На постелю к себе брала!
– Батюшка мой не искал вреда престолу, то истинно, – сказал своё слово и князь Владимир, но видно было, что сам он так никогда не думал, а только повторил слова Челяднина.
– Эка заладили! – Шуйский тряхнул головой, взял с блюда кусок мяса, запустил в него зубы…
Все молчали: Челяднин – устало, князь Владимир – растерянно, Патрикий – выжидающе, Пронский – угрюмо и тупо, как грозный страж, приставленный к великой тайне. Молчал Серебряный, молчал Оболенский – всем им разбередил душу Шуйский.
В наступившей тишине громко раздавалось его яростное чавканье. Виночерпий плеснул ему в чашу вина. Шуйский запил, утёр ладонью замасленные губы, зло обкосил Серебряного и Оболенского.
– Твой сродничек, Серебряный, и твой, Оболенский, всё сие устроил! Не вздурись он властью, не собери полки против князя Андрея… Да что – полки?! Не завлеки он лукавством его на Москву, посулив Еленино прощенье, быть бы Старице крепкою вотчиной! Эх! – Шуйский закинул руки за голову, выпятил грудь, блаженно вздохнул. – Сел бы я на коня да и отъехал к иному господарю! Как бывало ранее, при дедах и прадедах: не сдружился с московским князем – отъехал к тверскому… А с тверским не поладил – к ярославскому!
– Оттого-то и пировало на Руси всякое воронье: то печенеги, то половцы, то татары! – холодно заметил Челяднин.
– Сие верно, боярин, – так же холодно согласился Шуйский. – Ну а ныне пируют Темрюки да лапотники! А мы, Рюриковичи, – соль от соли, мы – корни и ветви великого древа, что зовётся Русью, смотрим, терпим и ждём топора. Топора! – крикнул он и вдруг сник, будто что-то сломилось в нём – какая-то подпора, на которой всё это время держались и его злость, и негодование, и трезвость. Борода его распласталась по кафтану, придавленная поникшей головой, руки упали куда-то вниз, будто вовсе оторвались, даже казалось, что он и сам вывалился из кафтана, оставив на шёлковых завязках проймы только одну голову.
– Что же, пора и честь знать, – сказал, поднимаясь из-за стола, Челяднин. – Вам от заутрени – в поход, мне – в путь. Славной победы желаю вам, воеводы, и да убережёт вас Бог от шальной беды! В живе и здраве хочу узреть вас всех на Москве. Тебе, князь, великая благодарность и низкий поклон за гостеприимство! – Челяднин низко поклонился князю Владимиру. – За честь, за величанье – також!
– Путь твой – на Ржев, боярин, – сказал Челяднину Владимир. – Не обмини Старицы… Заверни, поклонись матушке. Скажи, Бог даёт, в здраве я и в печали о ней. Пусть молится обо мне… и женишке передай мой поклон, и слово любезное, и печаль мою о ней. Дело, скажи, ратное захватило меня. Поуправимся с крепостью – на рысях прискачу. И ещё скажи: царской милостью я сполна одарён и с ним вместе на крепость иду. Пусть молятся обо мне!








