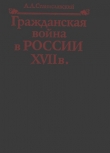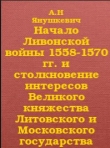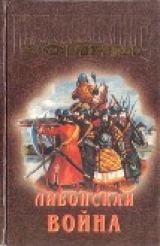
Текст книги "Ливонская война"
Автор книги: Валерий Полуйко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 54 страниц)
Васька ударил в медное било на монастырских воротах, подождал, ещё раз ударил – посильней… После третьего удара на левой створке ворот откинулась заслонка смотровой скважни, сонный, заскорузлый голос что-то забормотал в неё – не то молитву, не то проклятье, потом долго давился зевотой, наконец спросил:
– Кто тама… не дьявол коли? В ночь-то иною…
– Царский служка я, – воткнув лицо в скважню, сердито сказал Васька. – Царь к вам!.. Отворяй! И беги кличь игумена.
Монах завозился с засовами, пришёптывая, как от боли: «Осподисусехристе… осподисусехристе…» Тяжёлые створки ворот медленно вдавились внутрь, медленно разомкнулись, в образовавшейся щели показалось натужное, перепуганное лицо монаха. Васька налёг на створку, помог монаху… Вдвоём они быстро растворили тяжёлые монастырские ворота. Монах побежал за игуменом, а Васька вернулся к лошадям, взял их под уздцы и ввёл на монастырский двор.
Иван, не дожидаясь, пока Васька поможет ему, вылез из саней, потянулся, поразмял затёкшие ноги и спину, медленно пошёл через монастырский двор.
Он уже бывал здесь однажды… Возвращаясь из Кириллова монастыря, куда ездил на богомолье после своей тяжкой болезни, он заезжал и сюда, в Песношскую обитель, повидаться и побеседовать с Вассианом Топорковым. К тому времени Вассиан уже прожил десять лет в своей одиночной келье, построенной им собственноручно в стороне от остальных монашеских келий, прожил затворником, не встречаясь ни с кем, и только для царя сделал исключение. С тех пор прошло ещё десять лет, и снова Вассиан вынужден будет нарушить обет затворничества.
Навстречу Ивану от настоятельских келий уже спешили соборные старцы[166]166
Соборные старцы – руководители монастыря.
[Закрыть], за ними следом, с фонарями, – монахи-прислужники…
Иван остановился.
Ступая, как по лужам, по тусклым пятнам света, отбрасываемым фонарями, старцы приблизились к Ивану и замерли в растерянности и нерешительности. Должно быть, заявись к ним в обитель сам дьявол, они не были бы так поражены и растеряны: как вести себя с дьяволом, старцы, несомненно, знали, а вот перед царём, невесть какими судьбами занесённым к ним среди ночи в монастырь, они потерялись. Царь был пострашней дьявола: ни крестом, ни молитвой от него не защитишься, если он приехал не с добрым намерением.
– Что же оторопели, святые отцы? – снисходительно буркнул Иван. – Благословите государя своего земного.
Он подошёл к игумену, снял шапку, преклонил перед ним колено, игумен поспешно благословил его. Иван поцеловал дрожащую руку старца, выпрямился, ласково сказал:
– Дары я привёз в обитель. В санях у меня… Холоп мой вынет.
Старцы молча поклонились Ивану – по-прежнему недоумевающие, растерянные и встревоженные, а Иван, словно нарочно, продолжал мучить их своей ничего не говорящей ласковостью:
– Заутреню отстою у вас. Готовьте службу… К рассвету намерен я быть в Клину, а к обедне, даст Бог, поспею в Иосифов монастырь. – Иван помолчал, порассматривал встревоженные лица старцев, помучил их ещё немного, наконец сказал: – А покуда сведите меня к старцу Васьяну… К нему я приехал.
Вассиан молился… Маленькая лампадка, слабо мерцавшая в углу – у тябла с иконами, лишь чуть разжижала загусший мрак тесной и узкой, как нора, Вассиановой келейки. Иван перекрестился на иконы и замер, не смея перебить молитвы старца. Благоговейной, святой отрешённостью дохнуло на Ивана – отрешённостью от всего, с чем он пришёл сюда, и он почувствовал, как велик, и целомудрен, и чист, и целебен, и спасителен этот мир, в котором Вассиан затворил свою душу, но ему стало страшно от безысходности, от однообразия, от смиренности и убогости этого мира, обрекающего душу на вечную покорность – покорность миру, от которого уединялся, покорность злу, которому не противился, покорность неправде, которой не хотел слышать и знать, покорность страстям, которых боялся и стыдился, и даже на покорность врагам, которым уступал без борьбы.
Сердце Ивана, поначалу чуть трепыхавшееся от благоговейной затаённости, вдруг забилось мощно и зло. На какое-то мгновение всё-всё: и келья с её мертвенным мраком, и покой, и отрешённость, которыми был пропитан этот маленький мир, населённый одной-единственной душой, и сам Вассиан, смиренный и будто бесплотный, пристывший к полу серой тенью, – всё это стало противным Ивану, и он вдруг пожалел, что приехал сюда, пожалел о своей настойчивости, с которой стремился в эту келью, пожалел о своих чувствах, с которыми мчался к этому старцу, и, пожалев, устыдился своего отчаянья, пригнавшего его сюда.
Страшно захотелось уйти отсюда, не медля, не дожидаясь, пока этот бесплотный старец обратит на него свой взор, и он уже намерился сделать это, но Вассиан вдруг прервал молитву и повернул к Ивану своё лицо. Спокойный взгляд старца остановил Ивана, и от этого взгляда в душе у него вдруг всё перевернулось, всё стало совсем иным – иными стали и келья, и мрак, наполнявший её, и сам Вассиан… У Ивана вновь сбилось дыхание, и он взволнованно поклонился Вассиану.
Вассиан словно ждал Ивана: ни одна морщинка не дрогнула на его чёрном, измождённом лице, а глаза, подержав Ивана в своих цепких лучиках, спокойно, но почтительно опустились долу, давая понять Ивану, что даже здесь чтут его царственность.
– Приходил ко мне нынче во сне покойный митрополит Даниил, – тихо вымолвил Вассиан – так, будто продолжал прерванную молитву. – Вопрошал меня: «Идеже имя наше, Васьян? Попрано?» Подивился я, раздумался – про что бы сие? Тебя вспомянул, государь. Молиться учал… Осе[167]167
Осе – вот.
[Закрыть] и ты предо мной. Не попрано, стало быть, имя наше.
– Имя ваше свято, – протяжно прошептал Иван. – Помнит Русь и престол её про вас… И враги их також не забыли имя ваше!
– Здравствуют, стало быть, они? – как камень опустил в душу Ивана свой вопрос Вассиан.
– Здравствуют… – сквозь стиснутые зубы вышептал Иван и, поймав своими настойчивыми глазами спокойные, мудрые глаза Вассиана, ещё тише, словно таясь от кого-то, спросил: – Скажи мне, старец… – Иван привздохнул, как-то беспомощно, по-мальчишески. – Отец мой внимал твоим советам… Скажи мне, сыну его, как я должен царствовать, чтоб всем у меня быть в послушании?
Вассиан остался невозмутим, словно не услышал вопроса Ивана… Иван прямо, неотрывно смотрел в его глаза, будто надеялся в них, в глазах, прочесть ответ Вассиана, а взгляд старца, дотоле спокойный, твёрдый, вдруг стал неуловим, хотя глаза его по-прежнему прямо смотрели в глаза Ивана.
– Скажи мне, старец… Скажи…
Вассиан опустил глаза, спокойно, твёрдо и безжалостно, словно мстя кому-то, вымолвил:
– Ежели хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни единого советника, который был бы разумней тебя, понеже ты лучше всех.
Иван осторожно взял руку Вассиана, благоговейно прижался к ней губами. Уже на пороге, обернувшись к Вассиану, громко сказал:
– Будь жив мой отец, то и он такового полезного совета не подал бы мне.
Глава седьмаяВ Москве готовились к встрече царя… Готовились бояре, готовилось духовенство – каждый на свой лад, каждый со своими заботами.
Митрополит Макарий выслал навстречу царю в подмосковное село Крылатское ростовского архиепископа Никандра с братией, а сам, несмотря на немощь, готовился встретить царя в Москве. Подъезжать к Москве царь должен по Можайской дороге, в Москву въезжать – через Арбатские ворота, и встречу ему Макарий собрался устроить на Арбате, перед церковью Бориса и Глеба. Загодя посносили в неё и в соседнюю с ней церковь Воздвиженья кресты, хоругви, иконы – самые дорогие и красивые кресты, хоругви, иконы, взятые в кремлёвских соборах. Велел Макарий пособрать со всей Москвы гораздых до величального звона звонарей и поставить их на всех арбатских звонницах: «Дабы звону величальному быти неумолчну, велию и славну!» Ещё повелел митрополит: «Всякому духовному и священническому чину быти при встрече государевой в дорогие одежды, в ризы, в стихари сболчены, дабы государю радость была велия божьих служителей во стольком великолепии зрети».
У бояр были свои заботы… Оставленные «для градского бережения», они должны были встречать царя прежде всего плодами этого бережения. Как ни торжествен и радостен будет царь, въезжая в Москву, а зоркий, всевидящий глаз его всё заметит – и не расчищенную от снега берму перед посадской стеной, и изъеденные зеленью, ни разу за зиму не чищенные пушки и пищали на раскатах и башнях Нового города, и неподновлённые настилы мостов, и даже обржавевшие цепи запрометного моста перед Кутафьей стрельницей, через которую он въедет в Кремль, не ускользнут от его зоркого взгляда.
Много хлопот у бояр… Мотаются они по Москве, по Арбату, через который поедет царь, обсматривают всё вокруг, проверяют – как бы чего не проглядеть, не оставить царским глазам чего-нибудь негораздого, неисправленного, неподновлённого… Но особенно хлопотно царской дворне: к возвращению царя нужно приготовить дворец, вычистить, вымыть, выскрести каждую половицу, каждую ступеньку… Покуда царица не разрешилась от бремени, во дворце и сору не мели, попрятав куда подальше все мётлы и веники, чтоб, не дай Бог, не подвернулось ей под ноги какое-нибудь помело да не переступила она его ненароком: через помело переступать – детей тяжко рожать!
Развольготствовалась дворня от такого безделья. Всю зиму били баклуши, моты мотали – день коротали. Девки с парнями по чуланам прятались, тискались и любились или, улизнув из дворца, бежали на Москву-реку кататься на санках, благо, напротив дворца, в стене у Благовещенской стрельницы, были пробиты ворота, звавшиеся Портомойными. Кинется, бывало, кто-нибудь из стольников или сам дворецкий Никита Романович Юрьев искать на какое-нибудь дело челядинцев, все подклети избегает, а там, кроме баб, кислошниц[168]168
Кислошники – специальные люди, занимавшиеся квашением овощей.
[Закрыть] да поварих, – никого! А бабы подскажут: «Ты, батюшка, по чуланчикам прометнись, чай, кого и сыщешь!»
Отправится Никита Романович искать по чуланчикам, позастукает с добрый десяток блудней и блудниц – вечером в чёрных сенях учиняется порка. Хоть и добр был боярин, но нерадивости и огурства, а особенно блудовства не прощал. Парням, словленным на блуде, – по полдюжины розог, девкам – по полной! Девкам нет пощады, нет оправдания. Их вина навек закреплена притчей: сучка не схочет, кобель не скочет. Старухи доносчицы посмеиваются над девками… Им бы пожалеть их, бедолаг, да не жалеется, ибо бабья доля здесь у всех одинакова: и их молодость была иссечена розгами, и они наплодили детей, не ведая от кого, и пораздали их по монастырям. Челядным дворцовым девкам замужество заказано: не должно быть у них ни мужей, ни детей, ни забот иных, кроме забот о царском доме. Так и проводят они весь свой век во дворце мирскими монахинями. Вот и нет тут ни у кого друг к другу жалости! Не жалеется, привыкли, да и не нажалеешься: отлежатся девки – и снова за своё примутся. Так что порка блудных сходит всегда за потеху. Не потешно лишь тем, кто ложится под розги, и благо ещё, если порют свои, челядинцы; они не шибко усердствуют, а если кличут конюхов, тогда лихо! Тем что по конским спинам хлестать, что по человечьим!
С рождением царевича кончилась у дворцовой челяди беззаботная жизнь. Дворец был запущен, грязен, полон крыс, мышей, тараканов, а возвращавшийся из Полоцкого похода царь был уже на подъезде – известие о рождении царевича застало его в Старице, поэтому спешно взялись наводить порядок и хотя старались вовсю, но со всем поуправиться всё равно не успели. Не сделали и самого главного – не вытравили тараканов, которые досаждали больше всего. Их собирались повыморозить зимой, растворив на мороз все окна и двери, но, опять же, из-за царицы не стали: недомогавшая Марья боялась недоносить ребёнка и ни на один день не соглашалась оставить своих покоев. Дотерпели до весны… Родила Марья, и теперь уже сама повелела Юрьеву ввезти её на подворье брата своего Михайлы и повытравить из дворца эту нечисть.
Разошёлся Юрьев, раззавзятился! Полдня подгоняемые им челядники всем скопом вытаскивали из дворца ковры, перины, одеяла, подушки, шубы, полсти, кровати, сундуки с рухлядью – словом, всё, что можно было вытащить, а потом за дело взялись тараканщики. Подвезли ко дворцу три воза конопляных головищ с зёрнами, растопили во дворце все печи ясеневыми дровами, позатворили на окнах наглухо ставни, подложив под них мокрые рогожи, и, как только печи достаточно раскалились, принялись сыпать на загнетки, полные жару, конопляные головища. Щедро сыпали! Бурый густой дым, поваливший из печных труб царского дворца, застлал вскоре пол-Кремля.
Юрьев, взгромоздившись на заваленный шубами старый великокняжеский трон, принадлежавший ещё великому князю Иоанну Васильевичу, который челядинцы выволокли из хором вместе с кроватями и сундуками, нетерпеливо, сердито кричал тараканщикам:
– Да затворяйте же, окаянные, двери! Двери в белых сенях затворяйте! Весь дух уйдёт!
Тараканщики затворили и законопатили в белых сенях двери, полезли на крышу забивать в трубы дым.
Юрьев опять запричитал:
– Мало, ой мало конопли наметали! Не изведётся, проклятый!
– Вона, мало! – смешливо загалдели челядники, сгурбившиеся вокруг боярина. – Куды боле – два воза! Медведя пусти – издохнет!
– Мало! – не унимался Юрьев. – Таракан живучей медведя. Надобе было и третий воз пометать.
– Вовсе ты, батюшка-боярин, опупел! – выпаливает кто-то скороговоркой.
– Ах семя хамское, подлое, языкатое! – сокрушённо вздыхает Юрьев и устраивается поудобней на великокняжеском троне, будто рассчитывает этим самым защититься от зубоскальства дворни.
– Истинно, батюшка-боярин, – присказывает всё тот же быстрый голос, хитро присказывает: поди пойми – соглашается или прежнее гнёт?
Но Юрьев и сам хитёр.
– Ну-ткась, высолопи, высолопи, что там ещё на твоём подлом языке вертится? – говорит он нестрого, покладисто, дабы не выпугать дерзкого болтуна и не отбить у него охоту ещё подерзить.
– А то, што истинно опупел, батюшка-боярин. От твоего усердия за полвека хором не выветрить! Тебе-то любо – в их не мешкать, а нам с государем – мешкать!
– Ах, подлый! Се ты, Фанаська-корнозубый? – узнает наконец по голосу Юрьев. – Сознавайся – ты?
– Истинно, батюшка-боярин…
– Дран ноне будешь. За хамство, за дерзость и за всё прочее.
– За прочее вечор был дран, батюшка-боярин. По незаживленному како ж драть?
– Брюхо цело – на брюхо и получишь!
– То не по-божески, батюшка-боярин. Спать-то я како должен?
– Стоймя, как конь! – на потеху всей дворни отпускает Юрьев.
В Кремле меж тем поднялся переполох. Дыма без огня не бывает, а огонь – это беда! Ко дворцу стал сбегаться народ: бежали с баграми, с пешнями, с крючками, с лопатами, тащили ведра с водой, с песком… От Троицких ворот намётом пригнал коня Шереметев, ополз с седла подле Юрьева, потаращил глаза на сундуки, на кровати, на перины, комами наваленные на них, на полсти, на ковры, разложенные вокруг, и опешенно завопил:
– Да что же ты расселся, боярин?!
– Таракань морю, – сказал ему с блаженной улыбкой Юрьев.
– О господи!.. – Подкосились ноги у Шереметева. Он осел на землю, облегчённо перекрестился. – Гляжу – полнеба заволокло! – сказал он успокоенно, глядя, как тараканщики забивают дым в трубы, размахивая над ними кусками холстин. – Сердце обмерло… Вот, думаю, встретили государя! Ох, боярин, боярин!.. Поглянь, сколико люду всполошил!
– Разбредутся, – невозмутимо улыбался Юрьев. – Царица сама повелела. Уж терпежу не стало… Да мало конопли наметали, мало… Не изведётся чёртова живность!
– Гляди, гляди! – закричали челядники. – Таракань ползёт!
Кинулись топтать поползших из дворца тараканов. Сбежавшийся ко дворцу люд поглазел-поглазел на весёлую забаву царской дворни, покидал свои пешни, багры, крюки, да и себе туда же!
Шереметев поднялся с земли, наставительно сказал:
– Чтоб таракань пропала, надобно в лапоть насадить столько, сколько в доме жильцов, и лапоть тот через порог переволочь и через ближнюю дорогу.
– Иде таковой лапоть взять, воевода? – ухмыльнулся Юрьев. – Я уж давно в дворне со счёту сбился. Бочку огурцов за один присест съедают!
Юрьев повздыхал, покряхтел, доверительно сказал Шереметеву:
– В неделю государя встречать.
– Дал бы Бог, – вздохнул Шереметев. – Заждались уж!..
– В неделю… – вздохнул и Юрьев. – Вечор гонца прислал… Три дня в Иосифовом монастыре пробудет… На молении. Потом прямо на Москву. Последний ночлег велит приготовить в Крылатском. Намерился я ему туда царевича меньшого выслать… Старшой в Иосифовом монастыре встрел его, меньшой пущай в Крылатском порадует его!
Юрьев покричал тараканщикам, чтоб побольше забивали в трубы дыма, поелозил на своём неудобном сиденье, посопел, поглядывая украдкой на Шереметева, – хотелось ему ещё что-то сказать воеводе, и, не вытерпев, сказал:
– Тревожно мне, однако… Не стряслось бы чего худого. Сон нынеча видел – баба срамное место казала… К чему бы сие?
– Кирпич из печи выпадет – то к худу, – сказал Шереметев – не то участливо, не то в насмешку. – Да вот ещё ежели локоть чешется… Иль коли небо приснится – ох к худу!
– Параскеву-ведунью с Успенского вражка призывал… Сказала – пустой сон. А я чую, не пустой! Баба всегда к лиху снится!
– Лихо-то у нас и не переводилось, – буркнул Шереметев. – Гляди, что далее будет, коли государь вернётся.
– А что будет? – с деланным простодушием спросил Юрьев.
– Мне ли то знать, – уклончиво ответил Шереметев. – А будет!
– Плох ты на уме, воевода… Плох!
– Да откель тебе ведать моё наумие? – Шереметев в упор посмотрел на Юрьева, тот не выдержал его взгляда, отвёл глаза. – Нынче всяк себе на уме. – Шереметев погладил ладонью старую, потемневшую парчу на спинке трона, уныло завздыхал: – Э-хе-хе-хе! Чего токмо на веку моём ни было… Великого князя Иоанна Васильевича помню на сем государском месте. Сколико дел славных свершил он, сидя на нем!
– Небогатое место, – сказал деловито Юрьев. – Нынеча государю на таковом месте перед своими сидеть соромно, а перед иноземными и подавно!
– Ранее Русь ни перед кем позлащёнными тронами не кичилась, – сказал с угрюмцей Шереметев. – Великий князь Иоанн Васильевич принимал иноземных послов, сидя на деревянной лавке в брусяной избе, а ежели барана им слал от себя, то шкуру назад требовать не стыдился. И всё было ладно, и крепко, и богато!
– Было времечко… – задумчиво покачал головой Юрьев. – Целовали всех в темечко, а теперь – в уста, и то ради Христа! Всякому свой век нравен, воевода. А про лагоду и богатство чего с попрёками поминать? Кто ту лагоду и богатство расстроил? В одной избе разными вениками не мети: разойдётся по углам богатство. Тридцать лет разными вениками мели в сей избе, – кивнул Юрьев на царский дворец.
– Мне твои речи заведомы, боярин, – насупленно перебил его Шереметев. – Слово в слово могу их тебе пересказать, и не про меня они! Я свой век доживу с тем, что накопил сам. Иных пожалуй своей мудростью… ежели они её восприимут. Мне уж почитай восемь десятков, и делить с ним мне нечего. Мне уже ничего не надобно… На коня взлажу ещё – и слава Богу!
– Ох, не криви душой, воевода, – тихо выговорил Юрьев. – Ты меня добре знаешь: я не доносчик и не указчик ему… Он сам своих врагов ведает. Про наши уши говоря сия, и скажу я тебе, коль уж мы завелись про такое… Скажу я тебе, воевода, что человек до последнего издыхания про своё благополучие печётся. Вот же, прискакал ты сюда! Об чём думал, гнавши коня?! Знаешь об чём! Никто не прискакал, ты один! Потому что ревность явить хотел!
– Ты будто по писаному чтёшь, боярин, – невозмутимо сказал Шереметев. – Да токмо душа моя за семью замками, и тебе ни единого не отомкнуть! А потому, что она у меня всё ж человечья, я и прискакал сюда. О благополучии ж своём печась, я уже полвека не слажу с седла и не выпускаю из рук воеводского шестопёра, воюя с недругами земли нашей, а ты, боярин, своё благополучие добываешь, воюя с тараканами!
Шереметев победно глянул на опешившего Юрьева, хлестнул плёткой по голенищу и пошёл к своему коню.
Юрьев подхватился с трона, будто его в зад шпигнули, косовато позыркал вслед воеводе, плюнул, опять уселся… Лицо его угрюмовато насупилось.
На Арбате людно – как на торгу в Святки. Нынче царю быть в Москве, и ещё до рассвета, с первым звоном, потянулся к Арбату люд. Шли из Заречья, шли с Малого посада – с Дмитровки и Петровки, и даже из самых дальних концов – из Заяузья, с Покровки, со Сретенки топала завзятая, разрадовавшаяся чернь, чтоб поклониться своему царю-батюшке и назло израдникам-боярам, умеющим лишь хитро стлаться перед ним, покричать ему: «Осанна!»
В церквах отошла заутреня.
Вываливший из церквей народ вконец запрудил тесные арбатские улочки, по которым с часу на час должен был проехать царь.
Бояре, съехавшиеся к церкви Бориса и Глеба, заволновались: царю не проехать! Окольничий Темкин с черкесами да с полусотней царских охоронников, приведённых в Москву Малютой, принялся освобождать дорогу, но народ зароптал, угрозливо сплотился в громадную толпу – возмущать её было опасно, и Темкин отступился. Вернувшись к боярам, с досадой сказал:
– Пусть им!.. Вон какое зверюжное скопище! Как бы лиха не вышло!
– Како ж царю в город въехать? – удручился Мстиславский. – Негораздо так! Разгневается государь!
– Не удручайся, боярин, – успокоил его Темкин. – Перед государем все расступятся!
Рудое солнце вкатилось на купола кремлёвских соборов… Серая сгусткость утра пестро окрасилась радужными цветами, воздух высыпало блестящей сыпью, и невесомая, хрупкая прозрачность заполнила всё пространство между небом и землёй.
Над высокими старыми осинами у Неглинной загомонила сварливая стая грачей – первых грачей, только-только прилетевших в Москву. Чёрная стая взвилась над Кремлем, покружила над Троицкой башней, над Колымажной, над Боровицкой, унеслась к государевым садам, к Москве-реке…
Весна! Неряшливая, торопливая, нагрянувшая так стремительно, что даже грачи опоздали к её приходу.
Вот-вот загремит ледоход на реках… На Неглинной уже вспучился, потрескался, протаял на стрежне серый, загаженный за зиму лёд – ходить по нему уже никто не решался. Взбухает и Москва-река: не сегодня завтра вскроется.
Мстиславский угрюмо щурится, глядя на поднимающееся солнце: не радостно ему от весны, от солнца, от света… Тревожно ему и одиноко, неуютно среди всего этого люда, и гомона, и торжественной суеты, как будто он случайный пришелец или незваный гость на чужом пиру. Нынче всю ночь глаз не сомкнул: одолело недужное скопище мыслей, и каждая – как приставленный к горлу нож!
Конь под Мстиславским нетерпеливо всхрапывает, бьёт копытом, рвёт из рук поводья; Мстиславский, чтоб успокоить его, пускается шагом через площадь – вдоль нестройного ряда бояр и окольничих, занявших место у правого придела Борисоглебской церкви. Прямо перед папертью расположился митрополит с архиепископами, епископами, иереями; мелкое духовенство толпилось сзади, у притвора.
Уже вынесены иконы, кресты, хоругви…
На паперти – певчие. Перед ними, в шубном кафтане из алой венецейской тафты, в забекрененном парчовом клобуке с собольими отворотами, – Ивашка Нос, царский любимец, гораздый из гораздых до знаменного пения, ученик славного на всю Русь новгородского певца Савы Рогова. Нынче Ивашке петь «Казанское знамение», сочинённое в память о казанской победе и неизменно любимое царём.
Ивашка дороден, высок, счастлив и рожей, и горлом. Если тянет в соборе «Славься!» – под куполом гром гремит!
Митрополит Макарий полулежит в санях, обложенный подушками, укрытый широкой полстью, – немочный, измождённый хворью, жёлтый, будто вставший из гроба… Высвободил руку из-под полсти, поманил проезжавшего мимо Мстиславского. Мстиславский подъехал, слез с коня, подошёл к Макарию.
– Всё ли гораздо, боярин? – слабо, с болезненным привздохом спросил Макарий.
– Черни премного скопилось – вот худо, владыка, – сказал Мстиславский.
– Онатось съемлются…[169]169
Онатось съемлются – пусть сходятся, собираются.
[Закрыть] Вящая радость государю зреть, како люд простой к нему ликование вознесёт. Радоваться надобно, что по своей воле пришли… и не дай господи воцариться на земле нашей государю, на усретенье которого народ нудьмо гнать доведётся.
– Быть и таковому, владыка, – равнодушно сказал Мстиславский. – В любви к Богу не все едины, а к государям – и того паче…
Макарий с укоризной посмотрел на Мстиславского – тот нетерпеливо скосился в сторону, на своего коня… Макарий, собиравшийся также и сказать ему что-то укоризненное, только слабо шевельнул рукой.
– Бог с тобой, боярин, ступай…
Мстиславский забрался в седло, сдерживая коня, поехал дальше… По другую сторону площади, почти мешаясь с толпой, подступавшей всё ближе и ближе к церкви, стояли дьяки, подьячие и прочий приказный люд, которому велено было присутствовать на встрече.
Дьяки, как и бояре и окольничие, все верхом, на добрых чистокровных лошадях… Тесным отдельным рядком – дворовые дьяки. Все на игреневых жеребцах. Осторонь от них, ближе к церкви, своим рядком – большие дьяки. Большие честью выше дворовых, но дворовые, эти всевластные распорядители царского двора, не хотят считаться с разрядом и держат себя с большими дьяками независимо и надменно. Вот и сейчас – наперёд выперлись, щеголяя малиновыми епанчами[170]170
Епанча – накидка, надеваемая для пышности, когда выезжают верхом.
[Закрыть] и делая вид, что, кроме них, царя и встретить-то некому. Но большим дьякам плевать на показную напыщенность надменных царедворцев! Они им платят той же монетой – и по праву, ибо в разряде они местом во всём выше дворовых и перед царём им стоять – впереди! Когда царь, ступив на площадь, поклонится на три стороны – народу, духовенству и боярам со служилыми, он поклонится им, большим дьякам, и даже подьячим, и даже писцам, но не им, дворовым, потому что они слуги его дворовые, а дворне своей царь не кланяется. И они знают про это и с подъездом царя покорно займут своё место за спинами больших дьяков, но сейчас как не похорохориться, как не поважничать, как не потрясти спесью, когда вся Москва собралась! И что ей, пялящейся во все глаза на всё, что манит, дивит, завораживает, что скомит душу завистью и охмеляет голову восторженным удивлением, что ей до разрядов и местничества, и всяких тонкостей, и обычаев, и правил, в которых, как в паутине, завязли все эти разряженные, самодовольные и властные люди?! Тысячеокая, зявящаяся, восторженная толпа видит и признает только то, что видит: кто разряжен – тот богат, кто напереди – тот первый! Какое ей дело, кто выше властью, а кто ниже, какое ей дело до того, кто ближе будет стоять к царю, а кто дальше?.. Она поражена блеском объяревых и оксамитовых[171]171
Объярь, оксамит – дорогие парчовые ткани, затканные выпуклым узором по гладкому фону.
[Закрыть] епанчей, роскошью чеканной сбруи, тиснением седел, шитьём конских чепраков и покровцев, выхоленностью и породистостью лошадей, роскошью боярских одежд, богатством икон, крестов, хоругвей! Такое не часто увидишь! Глаза разбегаются, дух захватывает! Где уж тут думать о том, что обладатели всего этого не пашут, не жнут, не ткут, не куют железа, не выделывают кож, не расшивают чепраков, не делают седел, не ходят за лошадьми!.. Или о том, что зима была голодной, а весна будет ещё голодней и нужда, как вошь, заест вконец!.. Или о том, что нет правды, нет меры в поборах, нет пощады от сильных!.. Не о том, не о том мысли беспросветного сермяжья, шало глазеющего на это роскошество, на это великолепие представшего перед ним того, иного мира, непостижимость и могущество которого сплетают в его сознании такой громадный клубок благоговейного восторга, что в нём уже не остаётся места для святотатственных мыслей.
«Расея!!!» – торжествующая, самодовольная гордость взламывает даже крепкие души и кружит, кружит взбудораженные головы: «Какова ты, Расея! Какова!»
Вот она, сила помпезности, её кощунственного обольщения и восторгающего дурмана! Вот она, фальшивая, прочеканенная с одной стороны монета, за которую покупается у черни и её покорность, и терпение, и самоотверженность, и воодушевление!
Россия! Московия! Третий Рим! Третий Рим – так провозгласила она свою государственность, и не только покорённые Казань, Астрахань, Ливония, Полоцк должны свидетельствовать об этом – оксамитовая епанча дьяка, пышное убранство боярина, золочёный доспех воеводы тоже призваны подтверждать это!
Солнце пылает в небе, как зев громадного горна, плавится над Кремлем золото куполов, разбрызгиваясь длинными, ломкими иглами, и блестящее эхо стремительных отсветов отдаётся в зеленоватой глуби очищающегося от туч неба. В воздухе – студенистая желтизна, колодезная, пахнущая плесенью сырость и не прекращающийся ни на мгновение наваждающий голк весны.
Кремль, высвеченный ярым весенним светом, возвышается над Москвой, над её понурой, тихой убогостью, как могучая голова над тщедушным телом. Могучий, суровый, отчуждённый, он величествен и грозен – олицетворение власти, вознесённой над Россией, олицетворение силы, владычествующей над ней, силы беспощадной, гнетущей, но и восторгающей!
– Едет! Едет! – понеслось откуда-то издалека – громкое и отчаянное, как причитание. Мгновение тишины пронзило висевший над площадью шум.
Мстиславский придержал коня, выжидающе посмотрел на виднеющийся вдали высокий шатёр арбатской вежи[172]172
Вежа – высокая наблюдательная башня.
[Закрыть]. Оттуда должны были подать знак, когда царь станет подъезжать к Арбату. Знака не было, радость изождавшейся черни была преждевременна, а Мстиславский опять попустил поводья…
Дворцовые дьяки осадили перед ним своих игреневых немного назад, чинно, дружно раскланялись… Раскланялся Мстиславский и с большими дьяками, но так же холодно, как и с дворцовыми. Надменный, обременительный кивок головы – вот всё, чем удостоил он больших дьяков – худородных служилых, которых царь всё больше и больше противопоставлял боярам. В них он нашёл как раз то, что ему было нужно: верность, усердие, беспрекословность, к тому же немалый, а порой просто недюжинный ум, который они, в отличие от бояр, щедро, хоть и не бескорыстно, отдавали государственной службе. За это он и жаловал их, и честь им воздавал – не по роду, а по уму, по службе, по делам! Вот он – Висковатый!.. Кто ещё сильней его в посольских делах?! Свору собак съел на этом деле! Вся посольская служба на нём, и ведёт он посольские дела с таким умением, так тонко и искусно, что все зарубежные послы дивятся тонкости и изобретательности его ума. Самые именитые бояре менее известны за рубежом, чем он – Висковатый, дьяк Михайлов, как зовут его в просторечии на Москве. Где бы ни правил он посольство и чьих бы послов ни принимал на Москве, никогда и ни в чём не допустит оплошности или промашки, и если не приведёт дело к благополучному исходу, то и разрушиться ему окончательно не даст: непременно измыслит что-нибудь такое, из чего хоть малая польза да выйдет.
К самым тайным делам приобщён дьяк… Дума того не знает, что знает он, и в думе не без основания говорят, что и самому царю не всё ведомо из того, что ведомо дьяку Михайлову.