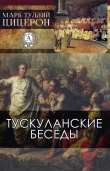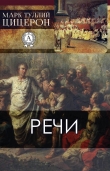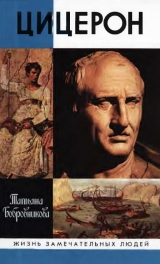
Текст книги "Цицерон"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
Такой сокрушительной критики религии Рим еще не слышал. Трудно поверить, что этот диалог писал тот же Цицерон, который несколько лет тому назад создал свои «Законы». Бездна пролегла между этими двумя произведениями. В «Законах» он признается, что следовал стоикам, и шутливо просит помолчать скептиков-академиков и не вносить путаницы (Cic. Leg., I, 38–39).Здесь же он прямо объявляет себя академиком и смеется над стоиками. В «Законах» он утверждает, что боги пекутся о человечестве и дали людям на потребу и плоды земные, и растений, и животных (Leg., I,2.5), то есть говорит то самое, над чем так зло издевается в нашем диалоге. В «Законах» от пишет, что все люди от природы добры, склонны любить друг друга (Leg., I, 43).От богов они получили величайший дар, драгоценнейшее сокровище – разум, присущий только людям и богам. Благодаря разуму человек и достиг такого преуспеяния (Leg., I, 23).А в «Природе богов» читаем, что разум – это страшное и опасное орудие, ибо люди злы и используют его для того, чтобы причинить друг другу неисчислимые беды. «Лучше бы бессмертные боги вообще не давали никакого разума, чем давать такой, который обладает столь губительной силой» (De nat. deor., III, 69).Автор «Законов» верит, что боги пекутся о людях, а у автора «Природы богов» эта мысль вызывает горькую иронию. Что же случилось? Неужели Цицерон изменил своим взглядам?
Далее. Чем более присматриваемся мы к диалогу, тем страннее и загадочнее он кажется. Первое. Все философские произведения Цицерона делятся на две группы: либо они имеют форму лекции, где один из героев объясняет другим сложную проблему и отвечает на их вопросы [120]120
Так построены диалоги «О законах», «Тускуланские беседы», «О старости», «О дружбе» и трактат «Об обязанностях», написанный в форме письма к сыну.
[Закрыть], либо это спор, где каждый отстаивает свою точку зрения и в конце один выходит победителем [121]121
Таковы «Государство», «О пределах добра и зла», «О предвидении», «Академики».
[Закрыть]. Но наш трактат не относится ни к одной из этих групп. Это не лекция, а спор. Но в этом споре нет победителя. Все существующие взгляды отвергнуты, но нового ничего не предложено. Поэтому читатель в полном смятении закрывает книгу. Второе. «Природа богов» – это диалог. В нем участвуют трое собеседников и многим кажется, что Котта – alter egoавтора. А между тем сам Цицерон тоже присутствует при разговоре. Зачем? Почему он здесь и, если уж он здесь, почему молчит? Какой смысл в этом приеме? Наше изумление еще возрастет, когда мы узнаем, что совсем недавно Цицерон обсуждал с Аттиком структуру предыдущего диалога «Академики». Аттик советовал поручить защиту взглядов скептиков Когте, герою нашего диалога. Цицерон отвечает, что это невозможно. «Если бы я предоставил Котге и Варрону рассуждать друг с другом… я был бы безмолвным слушателем». Автор же молчать не должен (Att., XIII, 19, 3–4).Итак, всего несколько месяцев назад Цицерон считал немыслимым вывести себя в виде немого слушателя, говорил, что это противоречит всем канонам философского диалога, придуманным греками, а сейчас вдруг сломал эти самые каноны. Почему? И наконец последнее. В заключение Цицерон говорит, что ему самому показались убедительнее доводы стоика. Ему они показались убедительнее – так почему же он молчал, почему не опроверг ни единого аргумента Котты, почему за Котгой осталось последнее слово? Что все это значит?
Существует множество попыток объяснить загадочный диалог. Одни думают, что Цицерон в целом одобрял стоиков, но ему не нравились некоторые крайности этой школы, особенно строгая детерминированность {63} . Но речь в «Природе богов» идет вовсе не о детерминированности, а о несправедливости устройства мира. Другие думают, что он просто хотел в увлекательной форме изложить мысли греческих философских школ о богах, заинтересовать сограждан или, как полагают некоторые, противопоставить ученым умствованиям простую и здоровую веру римлян {64} . Но те, кто говорят так, как будто не замечают, с какой трагической силой написан диалог. Нет, это не риторическое упражнение, не шутка, но полный боли протест, который человек посылает небесам. Исследователи забывают, что писал «Природу богов» не кабинетный ученый, не преуспевающий софист и ритор, а измученный, сломленный горем человек, потерявший все, что он любил.
Существует, наконец, точка зрения, что это трактат атеистический {65} , но Цицерон, боясь общественного мнения, укрылся под личиной Котты и в конце лицемерно уверяет читателя, что сам он с Котгой не согласен. Но и это мнение кажется мне невероятным. В Риме всегда была полная свобода слова. Обвинений в безверии, столь частых в Афинах, в Риме и не слыхивали. Нельзя было совершать кощунство, то есть открыто издеваться над обрядами, разбивать статуи богов, но думать и говорить можно было все, что угодно. И римляне издревле пользовались этим дозволением. У колыбели римской науки и культуры стоял Полибий, который прямо пишет, что религия – искусная выдумка ловких политиков. А современники Цицерона читали, перечитывали и конспектировали Полибия. Первый римский поэт Энний в ранних своих произведениях держался той же точки зрения. Ее проповедовал друг Сципиона Младшего, сатирик Люци-лий. Он даже называет царя Нуму, основателя римской религии, обманщиком. Оба эти поэта были классиками римской литературы и жили в век гораздо более набожный и религиозный. А тут вдруг нам говорят, что Цицерон испугался. Притом он не выступал открыто на площади. Он писал для узкого круга просвещенных людей. Нет, в это невозможно поверить. И потом. Цицерон был автором мистического «Сна Сципиона», который так поразил Гофмана. Всего несколько месяцев тому назад он написал диалог, который обратил к Богу Августина. Вероятно ли, чтобы атеист и скептик мог создать произведение, способное обратить к религии такого человека, как Августин? Наконец, несколько позже, уже после гибели Цезаря, Цицерон пишет трактат «О дружбе», где опять высказывает уверенность в бессмертии души и посмертном блаженстве. Как примирить все это?
У меня совсем другой взгляд на «Природу богов». Я бы сравнила ее с «Бунтом» Ивана Карамазова, написанным великим христианином Достоевским. Достоевский не упражнялся в красноречии, не хотел в увлекательной форме изложить перед читателем различные философские идеи. С другой стороны, он не боялся и не прятался под маской Ивана. Нет. Он мучительно хочет найти ответы на вопросы Ивана. И – не находит. Так же и Цицерон хочет опровергнуть Котгу – и не может. Достоевский написал «Бунт» после гибели своего ребенка, трехлетнего Алеши. Между «Законами» и «Природой богов» Цицерона лежат гражданская война, поля Италии, Греции, Африки и Испании, заваленные трупами римлян, гибель Республики и смерть Туллии. Однажды с его губ сорвалось в те страшные дни признание: «Раздумывая о тех превратностях, которыми меня так безжалостно пытала судьба, я порой теряю веру в добродетель», то есть в мировую справедливость, а значит, в благость Творца (Tusc., V, 3),Его душа прошла через горнило сомнений, и плод этих сомнений – диалог «О природе богов».
Великий диктатор
Только осенью 45 года Цицерон наконец появился в Риме. Он очень изменился. Горе согнуло его. Одному другу он писал: «Я навек утратил веселость, которой скрашивал наше грустное время». Другому он говорит: «Моя веселость и жизнерадостность, которые тебе особенно нравились, исчезли навек» (Fam., XII, 40, 3; IX, 11).В одном философском трактате тех лет он описывает различные движения человеческой души. О горе он говорит так: «…это пытка… смерть заживо. Она терзает душу, выедает ее… Не в нашей власти забыть. Оно нас терзает, мучит, язвит, жжет огнем, не дает дышать» (Tusc., III, 27; 35).Несомненно, это рассказ о его собственном состоянии. Ни разу до самой смерти он не решился назвать свою утрату по имени. Он никогда не сказал: «У меня умерла дочь» или «Я потерял мою Туллию». Он говорил: «Меня постиг ужасный удар судьбы», «На меня обрушилось лютое горе». Видно, рана так и не затянулась и всякое прикосновение к ней жгло его огнем. Но надо было возвращаться к привычной, такой постылой теперь ему жизни. А между тем в Риме происходили важные события.
В столицу вернулся наконец диктатор. Пламя гражданской войны полыхало с яростной силой. Не успевал Цезарь потушить его в одном месте, как оно вспыхивало в другом. Из Италии оно перекинулось на Балканы, с Балкан – в Африку, из Африки – в Испанию. Казалось, этому не будет конца. Во главе повстанцев в Испании стояли теперь сыновья Помпея. Наконец даже гуманный Цезарь потерял терпение и решил потопить восстание в крови. Он объявил, что милосердие его истощилось и всякий, поднявший на него меч, будет беспощадно убит. Кончилось все кровавой резней при Мунде. Говорят, слышались только слова: «Коли и бей!» Оба Помпея бежали. Их гнали, как диких зверей. Старшего отыскали где-то в глухих лесах, отсекли ему голову и принесли ее Цезарю. Младший бесследно исчез. Впоследствии он стал во главе корсаров и приобрел славу Робин Гуда. Наконец-то Цезарь мог вздохнуть спокойно. Война кончилась. Можно было пожинать плоды успеха. Осенью 45 года почти одновременно с Цицероном победитель вернулся в свою столицу.
Начались бесконечные торжества. Цезарь отпраздновал пять триумфов [122]122
Четыре были отпразднованы несколько раньше, в течение месяца после африканской победы, пятый сейчас.
[Закрыть]. «Первый и самый блистательный триумф был галльский, за ним – александрийский, затем – понтийский, следующий – африканский и, наконец, – испанский: каждый со своей особой роскошью и убранством» (Suet. Iul, 37).«Убранство галльского триумфа было из лимонного дерева, понтийского – из аканфа, александрийского – из черепахового рога, африканского – из слоновой кости, испанского – из чеканного серебра» ( Veil., II, 56; пер. М. Л. Гаспарова).«На Капитолий он вступил при огнях, сорок слонов с факелами шли справа и слева». Затем были устроены неслыханные по пышности гладиаторские бои и звериные травли. «В заключение была показана битва двух полков по пятьсот пехотинцев, двадцать слонов и триста всадников с каждой стороны; чтобы просторнее было сражаться, в цирке снесли поворотные столбы [123]123
Игры гладиаторов вошли в моду поздно, в основном при Сулле и особенно при Цезаре. Цирк же был построен для конских скачек, отсюда – поворотные столбы.
[Закрыть]и на их месте выстроили два лагеря друг против друга… Для морского боя было выкопано озеро на малом Кодетском поле: в бою участвовали биремы, триремы и квадриремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов» (Suet Iul, 37–39).
Конечно, чернь была в восторге. Но для образованных римлян в этом нарочитом великолепии было нечто оскорбительное. Все понимали, что это триумф над Римом.Особенно тяжелы были последние торжества. В предыдущих случаях еще можно было сказать, что празднуют победу не над Катоном и Сципионом, а над африканскими царьками, над египтянами, но теперь надменный победитель отбросил все эти жалкие увертки. То был триумф над римлянами, над сыновьями Помпея.Это возмутило римлян. «Негоже было Цезарю справлять триумф над несчастьями отечества», – говорит Плутарх ( Caes., 56).Кроме того, все знали, на какие деньги устраиваются эти неслыханные торжества. В Галлии Цезарь открыто воевал для денег. Этот гуманный человек допускал страшные жестокости, грабил мирные города и нападал на союзников. Он вынужден был идти на эти преступления, ибо, как он говорил, «есть две вещи, которые утверждают, защищают и умножают власть – война и деньги» (Dio., 42, 49).«Он опустошал капища и храмы богов… Оттого у него и оказалось столько золота… Он торговал союзами и царствами: с одного Птолемея получил около 6 тысяч талантов… Лишь неприкрытые святотатства позволили ему вынести издержки гражданской войны, триумфов и зрелищ» (Suet. Iul., 54).Теперь же к этому прибавилось имущество изгнанников.
Еще отвратительнее было поведение «адской свиты». «Цезарь, – говорит Плутарх, – сам не грабил всех подряд [124]124
Речь идет не о Галлии, а о цивилизованных странах Востока и об Италии.
[Закрыть], он только давал возможность делать это другим» (Brut., 35).Особенно отличался Марк Антоний. Он награбил больше всех, захватил множество домов опальных граждан и постоянно хвастливо выставлял напоказ свои богатства. «Взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии, и раскинутые при дороге шатры… и дома достойных людей, отданные под квартиры потаскухам и арфисткам. И все возмущались и негодовали», видя, как любимцы диктатора, «пользуясь властью, которой облек их Цезарь, утопают в роскоши и глумятся над согражданами». Все надеялись, что Антоний распоясался так в отсутствие господина и сейчас получит от него строгий выговор. Каково же было негодование римлян, когда они узнали, что Цезарь, вернувшись из Испании, «отметил Антония особенно высокой почестью»: сам он ехал по Италии в великолепной триумфальной колеснице, а рядом с ним сидел этот бандит Марк Антоний! (Plut. Ant., 9—10).Когда же кто-то очень осторожно намекнул Цезарю, что он не совсем хорошо делает, награждая подобных людей, он отвечал, что, будь его любимцы хоть разбойниками и головорезами, он делал бы то же самое (Suet. Iul., 72).И это неудивительно. Слишком уж он связал себя с этими людьми. Ему постоянно приходится угождать другим, говорил о нем Цицерон (Fam., IX, 18, 2; IV, 9, 3).
Выяснилось еще одно неприятное обстоятельство. Цезарь при всем своем обширном уме оказался удивительно падок на лесть. А в льстецах недостатка не было. Все эти нувориши, провинциалы и финикийцы, вытащенные диктатором из грязи, весь этот «пропащий» люд, которым полон был теперь сенат, буквально изощрялись друг перед другом в выражениях раболепства. «Угождали ему безмерно», – говорит Аппиан. Они твердили ему, что он – Цезарь, великий, сверхгениальный, несравненный, он почти бог, он может все. Цезарь получил титул ОТЦА ОТЕЧЕСТВА и ОСВОБОДИТЕЛЯ. В сенате и суде он сидел на золотом кресле в пурпурном одеянии триумфатора с лавровым венком на голове. На ногах у него были алые сапожки, какие, по преданию, носили цари Альбы Лонги. Весь Рим был уставлен его статуями. Когда во время празнеств в Цирк на священной колеснице везли статуи богов, среди них была и статуя Цезаря. Его именем был назван один из месяцев года. В Риме поставили ему статую с надписью: «ВОТ ПОЛУБОГ». Но и этого оказалось мало. Объявили, что вовсе он не полубог, а бог. Ему был воздвигнут храм, и коллегия жрецов служила там этому живому богу. Решено было поклоняться ему под именем Юпитер Юлий. «Во всех святилищах и публичных местах ему совершали священнодействия» (Аппиан). А главным жрецом стал все тот же Марк Антоний. После смерти Цезаря Цицерон ядовито спрашивал его: «Почему же ты перестал быть жрецом своего нового бога?» (Phil., II, 43; Suet. Iul., 76; Dio., 43, 14; 44, 6; XIII, 19; Арр. B.C., II, 106).
Вести себя этот ОСВОБОДИТЕЛЬ и ПОЛУБОГ стал теперь нестерпимо надменно. Раз он заметил, что с ним, с Цезарем, люди должны говорить осторожно и помнить, что каждое его слово – закон. Когда жрец сказал ему, что знамение дурное, он отвечал: «Все будет хорошо, коли я того пожелаю». Однажды сенат явился в полном составе, чтобы поднести ему новые почести. Цезарь гордо сидел в своем золотом кресле. Он должен был встать перед отцами, но он остался сидеть. Для римлян это было нечто неслыханное. А не встал он потому, что финикиец Бальб шепнул ему:
– Разве ты не помнишь, что ты Цезарь? Разве ты не потребуешь, чтобы тебе оказали почитание, как высшему существу?
Римляне это очень заметили и были глубоко оскорблены. Зато, когда перед ним не встал какой-то народный трибун, он пришел в бешенство и воскликнул:
– Не вернуть ли тебе и Республику, Аквила, народный трибун?
Долго он не мог успокоиться и, объявляя очередное свое решение, неизменно прибавлял:
– Если Понтию Аквиле будет это угодно (Suet. Iul., 78; Plut. Caes., 60).
Он стал требовать от всех неслыханной лести. Цицерон был скромнее других. Но, защищая Лигария, сказал: «Все мы в слезах лежим у ног Цезаря», и диктатору это доставило явное удовольствие ( Lig., 13).
Цезарь был не только диктатор, но и цензор, то есть страж нравов. Он взялся за свои обязанности очень ретиво и стал проводить суровые законы против роскоши и моральной распущенности. Он даже запретил какому-то претору жениться на женщине, только недавно разведшейся с мужем. Он наложил запрет на пурпурные платья, дорогие украшения и кушания. В Риме и прежде проводились похожие законы. Но предлагали их магистраты, избранные народом и подотчетные ему, то есть Республика сама ограничивала себя в чем-то. Теперь же эти законы издавал диктатор и они превращались в настоящие полицейские меры. «Вокруг рынка он расставил сторожей… чтобы они отбирали и приносили ему запрещенные яства, а если что ускользало от сторожей, он иногда посылал ликторов с солдатами, чтобы забирать уже поданные блюда прямо со столов» (Suet. Iul, 43).
К такому Рим еще не привык. Люди с озлоблением шептались между собой о том, что сам тиран, издавший эти законы, до страсти предан роскоши. Он обожал дорогие вещи и мог часами играть с ценнейшими жемчужинами, коллекционировал резные камни и чеканные сосуды. На обедах ему прислуживали изысканные красавцы, за которых он готов был платить бешеные деньги. Даже в походах он возил за собой мозаичные полы, строил великолепнейшие виллы, а когда одна из них чем-то ему не понравилась, велел тут же разрушить ее до основания и построить новую. Да и непохож он был на строгого римлянина времен бородатых консулов. Молодящийся старик, он отпускал волосы и зачесывал их вперед, чтобы не видна была лысина, а сверху водружал лавровый венок. Злоязычные римляне говорили, что и право всегда носить лавры он выговорил, чтобы скрыть сверкающую плешь. Он выщипывал все волосы на теле, как какой-нибудь развратный мальчишка. Когда он праздновал триумф, его солдаты пели:
Прячьте жен: везем мы в город лысого развратника.
Деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии.
Поминали они и его позорную связь с Никомедом.
Галлов Цезарь покоряет, Никомед же Цезаря;
Нынче Цезарь торжествует, покоривший Галлию,—
Никомед не торжествует, покоривший Цезаря
(Suet. Iul, 45–46; 49; 51).
При этом не к лицу ему, говорили римляне, играть в Катоны.
Цезарь достиг наконец венца желаний, той высшей власти, которой жаждал столько лет. Но, казалось, власть его не веселит. Он хандрил, тосковал, а по утрам жаловался на ночные страхи и кошмары. Он начал говорить, что пожил уже довольно и его зовет смерть. У его друзей сложилось впечатление, что ему совсем постыла жизнь. Даже его внезапную смерть считали доказательством любви к нему богов, которые избавили его от ставшего в тягость существования (Suet. Iul, 45, 1; 86, 1; Cic. Marcell., 25).
Однако каковы были намерения диктатора? Как собирался он переустроить Рим, вернее, мир, который теперь лежал у его ног? Об этом написано очень много и мнения высказывались разные. Моммзен полагает, что у Цезаря была цель, к которой он стремился с юности, – «политическое, военное, умственное и нравственное возрождение глубоко павшей римской нации», что он на тысячелетия предвосхитил ход истории, проложив путь, по которому до сих пор движется европейское человечество. «Но в этом… заключается… трудность, можно даже сказать невозможность… изобразить Цезаря. Как художник может изобразить все, кроме совершеннейшей красоты, так и историк, встречая совершенство один какой-нибудь раз в тысячелетие, может только замолкнуть при созерцании этого явления… Нам остается только считать счастливыми тех, кто созерцал это совершенство» {66} .
С. Л. Утченко, напротив, считает, что никакого плана у Цезаря не было, он был партийным деятелем и плыл по течению. «Цезарь с его долголетним опытом политической деятельности был сформировавшимся мастером интриг, комбинаций, борьбы. Он был вождем популяров, а под конец своей деятельности вдруг оказался в положении главы государства. Это уже совсем другие масштабы» {67} . Иными словами, много лет Цезарь ломал и разрушал, а сейчас нужно было созидать. В книге Утченко сквозит сомнение, мог ли этот революционер вдруг так переродиться.
Наконец, Буассье считает, что Цезарь был в глубоком нравственном кризисе. «Та верховная власть, к которой он стремился в продолжении двадцати лет с неутомимым постоянством среди таких опасностей, с помощью темных интриг, одно воспоминание о которых заставляло его, вероятно, краснеть, не удовлетворила его ожиданий и показалась недостаточной для этого сердца, столь горячо ее желавшего. Он знал, что его ненавидят люди, уважением которых он всего более дорожил, он принужден был пользоваться услугами людей, им презираемых, бесчестивших его победы своими выходками [125]125
Имеется в виду в первую очередь Марк Антоний.
[Закрыть]; чем более он возвышался, тем в худшем виде представлялась ему человеческая природа… Из отвращения он перестал даже ценить жизнь» {68} .
Здесь не место вступать в полемику: книга моя посвящена Цицерону, а не Цезарю. Поэтому скажу всего несколько слов. Я думаю, планов Цезаря мы никогда не узнаем. Он провел ряд реформ – в частности, увеличил число преторов и понтификов, наделил ветеранов землей, улучшил календарь, распустил клубы, с помощью которых Клодий некогда вербовал свои банды. Но все это были меры для стабилизации расшатанного смутами и гражданской войной государства, а не коренные преобразования. К коренным же преобразованиям Цезарь еще не успел приступить. И это естественно. Он окончил войну осенью 45 года, а убит был в марте 44 года. Все же последующее строительство империи было делом рук Августа. Мы даже не знаем, как Цезарь намеревался решить проблему престолонаследия. Ему было 57 лет, он был слаб здоровьем и страдал эпилепсией. К тому же он собирался на войну. В случае его внезапной смерти к власти должны были прийти начальник конницы Лепид и консул Марк Антоний (что и случилось после мартовских ид). Но оба они не годились в правители и неминуемо должна была вспыхнуть новая гражданская война. Возможно, Цезарь собирался что-то предпринять, но был убит. Но во всяком случае к середине марта 44 года еще ничего не было сделано.
Далее я хочу напомнить один факт. Цезарь замыслил огромный военный поход. «Он готовился к войне с парфянами, а после покорения их имел намерение, пройдя через Гирканию вдоль Каспийского моря и Кавказа, обойти Понт и вторгнуться в Скифию, затем напасть на соседние с Германией страны и на самое Германию и возвратиться в Италию через Галлию, сомкнув круг римских владений так, чтобы со всех сторон империя граничила с океаном» (Plut. Caes., 58; ср. Suet. Iul., 44, 2–3).Он уже собрался выступать, когда его убили. Ясно, что столь великие завоевания требовали многих лет. А это значит, что мирное строительство отходило на второй план. Мне представляется, что Цезарь выбрал путь, которым много веков спустя пошел Наполеон. Их недаром так часто сравнивают: у них очень много общего. Оба вышли из революции. Наполеон был революционным генералом, Цезарь – вождем демократии. Оба сделали ставку на армию, и она привела их к власти. Оба стали неограниченными властителями и постарались уничтожить свою мать революцию. Оба, начав с разрушения, должны были стать на путь созидания. Мы знаем, что Наполеон все силы бросил на завоевания. Очевидно, это же решил сделать и Цезарь.
Если видеть цель его в том, чтобы, как говорит Моммзен, в военном, умственном и нравственном отношении возродить римскую нацию, то цель эту он, конечно, не осуществил. Цезарь мечтал о покорении чуть ли не всего оставшегося мира, между тем военные завоевания окончились при Августе, так что возрожденным легионам не удалось себя испытать на деле. В умственном возрождении римская нация не нуждалась, так как эпоха Цезаря и Цицерона была временем высшего расцвета мысли. Что же до морального возрождения, то вряд ли можно назвать римлян эпохи Калигулы или Нерона более нравственными, чем их предки. Напротив. Лучшие римляне времен империи твердят об измельчении нации, о нравственном вырождении после великой лжи, деспотизма и террора, уничтожившего самых мужественных и честных. Цезарь, правда, проводил законы для укрепления нравственности, как позднее Август. Но это мало чему помогало. Никакими законами нравственность не укрепить.
Я также не совсем понимаю, в каком отношении Цезарь предугадал дальнейшее развитие Европы. Царскую власть выдумал не он. Существовала она давно. И почти весь греческий мир уже триста лет шел по пути восточной деспотии. Цезарь лишь присоединил к нему Италию. Главной же его неудачей было, по-видимому, то, что он не сумел покончить с революцией, как покончили с ней Кромвель и Наполеон. Революция пожрала его, как и всех остальных своих детей, а потом еще 14 лет пылала гражданская война.
Между тем все возрастающее высокомерие Цезаря и нестерпимая наглость его любимцев тяжело пали на сердце римлянам. Счастливцы, «которые созерцали это совершенство», находились в самом угнетенном состоянии. А тут прибавилась новая забота. Стало ясно, что Цезарь не довольствуется званием диктатора, но хочет царской власти. Современный человек может спросить, зачем Цезарю была корона, если он и так всем заправлял. Думаю, это было совсем не бессмысленно. Мы знаем, что Сулла и Август заявляли, что они восстанавливают Республику, а вовсе не придумывают новый строй, и, значит, они волей-неволей должны были притворяться и цепляться за старые республиканские титулы. Цезарь же часто и настойчиво повторял, что Республика пала, ее нет, это пустой звук. Самый пылкий и восторженный поклонник Цезаря Моммзен пишет: «Реалист до мозга костей, он не смущался образами прошлого и священными традициями; в политике он не признавал ничего, кроме живой действительности и законов разума» {69} . Но сами «законы разума», которые Цезарь так чтил, должны были подсказать ему, что, если Рим уже не республика, его следует назвать монархией, а главу государства не диктатором, а царем. Мешали этому только глупый страх римлян перед словом «царь» и те «священные традиции», которые так ненавидел Цезарь. Однако, будучи «реалистом», он представлял себе монарха, конечно, не в облике гомеровского Одиссея или легендарного Нумы Помпилия, а в виде современного ему эллинистического царя. Он насмотрелся на этих царей уже в молодости, а совсем недавно побывал в Египте при дворе Птолемеев, чья сказочная роскошь ослепляла путешественников. Вероятно, он был очарован не только Клеопатрой, но и окружающим ее великолепием. Вообще, очевидно, в царском венце есть что-то притягательное. Говорят, даже суровый пуританин Кромвель, всесильный лорд протектор, втайне мечтал о короне. А Кромвель, по словам Моммзена, более всего походил на Цезаря.
Но эллинистический владыка был не просто царем, он был богом на земле. Пышное одеяние и неземной блеск резко отличали его от смертных. Подданные повергались перед ним ниц, как перед сошедшим с неба Юпитером. Таким монархом, очевидно, и хотел быть Цезарь. Он уже сделал первые шаги на этом пути: сидел на золотом троне, носил багряницу, венец – правда, пока еще лавровый, а не золотой – и царскую обувь. Его открыто провозгласили богом. Оставалось добыть последнее, царскую корону. Но диктатор знал, что само слово «царь» ненавистно римлянам, поэтому необходимо было придумать способ, как заставить сограждан проглотить последнюю горькую пилюлю. И Цезарь со свойственной ему гениальностью этот способ придумал.
В середине февраля 44 года праздновали Луперкалии, очень древний праздник, восходящий еще к Ромулу. В этот день полуобнаженные жрецы-луперки совершают священный бег по городу. Как водится, в столице собралась уйма народа. Цезарь сидел на Рострах в своем золотом кресле, разряженный в пух и прах, и благосклонно наблюдал игры. Нагие бегуны проносились мимо него. Вдруг от них отделился один – он подлетел к Цезарю и распростерся у его ног. Все узнали Марка Антония, консула этого года. Антоний приподнялся и, стоя на коленях, протянул Цезарю корону. И тут же, как по команде, послышались аплодисменты, довольно, впрочем, жидкие. Цезарь оттолкнул рукой корону. Весь Форум потряс дружный крик восторга. Антоний снова протянул ему корону, снова с той же стороны послышались недружные хлопки, снова Цезарь ее оттолкнул, и снова Форум огласили бешеные рукоплескания. Странная эта сцена продолжалась довольно долго. Наконец Цезарь не выдержал. Он сбежал с возвышения, распахнул тогу на груди и громко закричал, что каждый желающий может перерезать ему горло [126]126
Впоследствии Цезарь оправдывал эту странную вспышку своей болезнью – он был эпилептик.
[Закрыть]. Когда же люди стали расходиться, то увидели, что все статуи Цезаря увенчаны царскими коронами. Два трибуна немедленно приказали их снять. Народ встретил их выступление бурей восторга, проводил домой и называл «Брутами». Ведь Брут, по преданию, изгнал царей из Рима. Узнав об этом, Цезарь был вне себя. Он сказал, что отрешает обоих от должности и запрещает выступать перед народом. При этом он кричал, что они «бруты»– то есть тупицы.
Сопоставив все это – поведение Антония, нестройные хлопки с одной стороны, диадемы, заранее уже надетые на статуи, и, наконец, какой-то чрезмерный, неестественный гнев диктатора – решили, что все было разьпрано по заранее написанному сценарию. Антоний от лица римлян должен был молить Цезаря принять венец. А он, как водится, поморщившись немного, наконец должен был снизойти к воплю народа. Вскоре предположению этому нашли новые подтверждения. Стало известно, что Антоний велел записать в фастах: «По велению народа консул Марк Антоний предложил постоянному диктатору Гаю Цезарю царскую власть. Цезарь ее отверг». Цицерон потом язвительно спрашивал Антония:
– О чем ты молил его? О том, чтобы стать рабом? Для себя самого ты мог просить о чем угодно… Но ни мы, ни римский народ тебя, конечно, не уполномочивали (Plut. Caes., 61; Ant., 12; Cic. Phil, II, 85–87).
Но этим дело не кончилось. Цезарь объявил, что выступает против парфян. Однако существовало древнее пророчество, что парфян может победить только царь. Поэтому было объявлено, что в марте будет созван сенат, который назовет Цезаря царем, но с тем, чтобы он носил корону и багряницу только за пределами Италии (Plut. Caes., 64; Brut., 10).Ясно было, что Цезарь не оставляет мыслей о престоле.
Теперь Рим кипел скрытым негодованием. Все, что делал диктатор, вызывало досаду. Даже мудрая реформа календаря возбудила злобу, потому что она была спущена сверху. Говорят, кто-то в присутствии Цицерона заметил, что завтра взойдет созвездие Лиры. А тот отвечал:
– Да. По приказу (Plut. Caes., 59).
После убийства диктатора Цицерон говорил: «Разве есть хоть один человек… который не желал этого и не обрадовался, когда это произошло? Виноваты все: все честные люди, насколько могли, приняли участие в убийстве Цезаря. Одним не хватало ума, другим – мужества, третьим не представилось случая. Но желали этого все» (Phil., II, 29).Его ненавидели все, но молча, пишет он в другом месте. Ведь государство было захвачено силой оружия, законы раздавлены (De off., II, 23–24).И вдруг среди этого безмолвия заговорил один человек, и все взоры обратились на него. Человек этот был Цицерон.