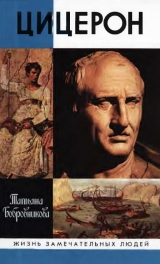
Текст книги "Цицерон"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
Умбрен подошел к галлам, заговорил с ними, выслушал их сбивчивый и гневный рассказ, стал громко возмущаться чудовищной несправедливостью и в заключение пригласил их в один дом. Там они познакомились с заговорщиками. Наконец их повели к самому Лентулу и тот открыл им все. Их ждет свобода, богатство, они сбросят ненавистное иго Рима, пусть только помогут заговорщикам. Буйная ярость варваров сменилась таким же бурным восторгом. Они разразились ликующими криками. Было решено, что аллоброги поднимут восстание в Галлии и пошлют конницу на помощь революционерам. Договорившись обо всем, они распрощались, и варвары побрели домой.
И тут ими вдруг овладели тяжкие сомнения. Стоит ли менять верное на неверное? Власть Рима им давно известна, а вот что несет предложение Лентула? Долго стояли они, спорили, кричали и рассуждали, бурно жестикулируя. «Наконец победило счастье Республики» (Sail. Cat., 41).Аллоброги решили, что надо вернуться и посоветоваться со своим патроном Фабием Сангой.
Каждая зависимая страна, каждое племя имело в Риме своего патрона. Обычай повелевал, чтобы первым патроном становился сам завоеватель, а потом его обязанности передавались по наследству сыновьям, внукам, потомкам. Римляне считали, что тот, кто покорил Республике новый народ, должен позаботиться, чтобы жилось этому народу под римской властью сносно. А потому весь род его должен был опекать новых подданных Рима. Патрон был в курсе всех дел своих подопечных. Они рассказывали ему обо всем, жаловались на свои обиды, а он защищал их, вел их дела в суде, помогал найти адвоката и давал советы. Можно себе представить, что почувствовал Санга, когда к нему ворвались его буйные подопечные и, перебивая друг друга, принялись рассказывать о своих приключениях! Нужно сказать, что в глазах римлян тайные переговоры с аллоброгами были самым ужасным преступлением, хуже даже поджога. Дело в том, что кроме карфагенян не было у римлян более страшного врага, чем галлы. Они издревле обитали возле Альп и то и дело, как лавина, обрушивались на цветущие италийские города и деревни. Некогда они взяли Рим и сожгли его. Потом они постоянно разоряли страну. «О жестокости этих разбойничьих племен против италиков существуют рассказы в таком роде: когда они захватывали город, то убивали не только все мужское население с самого молодого возраста, но и маленьких мальчиков, и даже на этом не останавливались, а убивали беременных женщин», – пишет греческий географ Страбон (Strab., IV, 6, 8).И вот этих-то варваров катилинарии призывают на Рим!
Санга бросился к консулу. К его величайшему изумлению консул совсем не был удивлен, выслушав его взволнованный рассказ. Он уже во всех подробностях знал о тайных переговорах с аллоброгами. Но слова Санги привели его в восторг. Исполнилось его заветное желание. «Я понял, что получил счастливую возможность совершить самое сложное, то, о чем я все время горячо молил бессмертных богов, – сделать заговор совершенно очевидным не только для самого себя, но и для сената и народа» (Cat., III, 4).Итак, консул говорит Санге, что его подопечные должны притворяться по-прежнему самыми горячими сторонниками заговорщиков. Сейчас они должны немедленно отправиться назад к Лентулу и сказать ему в точности то, что велит Цицерон. От этого зависит жизнь Рима.
Аллоброги, получив самые подробные инструкции от своего патрона, в тот же вечер отправились в штаб-квартиру революционеров. Там они заявили, что чуть было не забыли самое главное. Их вожди и старейшины не станут их и слушать, если они не принесут текст договора. Пусть заговорщики дадут им грамоту с печатью, где будет точно написано, что должны сделать галлы и какую награду они получат. Только пусть непременно будет печать и подписи катилинариев.
Как только ушел Санга, рассказывает Цицерон, «я позвал к себе преторов Люция Флакка и Гая Помптина». То были опытные воины, люди храбрые, а главное, душой и телом преданные Цицерону. Консул сказал, что хочет поручить им трудное и рискованное дело. Причем к его исполнению надо приступить немедленно. Они, ни минуты не колеблясь, отвечали, что готовы на все. Тогда Цицерон открыл им свой план. Преторы взяли с собой несколько смельчаков, а кроме того молодежь из умбрского городка Реате. Городок этот тоже был горячо предан Цицерону. Им ничего не объяснили, а только внушили, что предстоит опасное приключение, которое может спасти Республику. Как только спустились сумерки, оба претора со своим маленьким отрядом подошли к Мульвийскому мосту. Он находился в нескольких километрах от Рима, там, где Фламиниева дорога, ведущая на север, пересекала Тибр. По этому мосту ночью должны были проехать галлы. Место было сейчас совершенно безлюдное. Никто их не заметил.
Преторы разделили свое войско на две части, и каждый взял свою половину. Затем они спрятались по обеим сторонам моста, так что их разделяла река. Началось томительное ожидание. Наступила ночь. Спустилась полная тьма. Час проходил за часом. Никто не показывался. Близился рассвет. Надежд уже больше не оставалось. Видимо, план Цицерона почему-то провалился. Конечно, заговорщики догадались об обмане и отказались дать галлам письма. И вдруг, на исходе третьей стражи, послышался топот копыт [66]66
Римляне разделяли ночь на четыре стражи (вигилии),по три часа каждая. То есть было около трех часов ночи.
[Закрыть]. К мосту приближался какой-то большой отряд. Сомнения нет. Это они. В центре ехали знатные аллоброги. Рядом с ними какой-то римлянин, видимо, кто-то из заговорщиков. Вокруг них большая вооруженная свита. Едва они ступили на мост, как спереди и сзади раздался боевой клич и с двух сторон на них вылетели воины. Сделалось страшное смятение. Катилинарий выхватил меч и собирался обратиться к своим спутникам со словами воодушевления, но вдруг увидел, что галлы разом, как по команде, бросили оружие и закричали, что сдаются. Тогда и он бросил меч. Их окружили. К ним подбежали оба претора и первым делом закричали:
– Письма? Где письма?
Галлы тотчас же отдали им грамоты. Еще одно письмо они выхватили из рук заговорщика, после чего с торжеством повели пленников к консулу. «Был уже рассвет, когда их привели ко мне», – рассказывает Цицерон. Преторы немедленно положили перед ним драгоценные письма. Цицерон тотчас же велел позвать главных заговорщиков, а именно Лентула, Цетега, а также Статилия и Габиния. Их подняли с постели. Они ни о чем не догадывались. Лентул явился позже всех, как всегда заспанный. Будущий диктатор полночи писал письма совету аллоброгов – вот почему галлы так опоздали. Схваченного заговорщика звали Вольтурций. Он, как выяснилось, должен был сопровождать галлов, выступить перед их Советом, а потом поехать к Катилине и доложить обо всем случившемся (Сiс. Cat., III, 4–9; Sail. Cat., 40–44).
Несмотря на ранний час, в дом Цицерона сбежались все друзья и тесной толпой окружили его. Перед консулом лежали запечатанные письма. Мучимые любопытством гости советовали немедленно их вскрыть. Зная содержание писем, говорили они, легче приготовить выступление в сенате. Однако Цицерон был слишком опытным юристом. Он не притронулся к письмам, пока не собрался сенат. Как только рассвело, он поспешно созвал сенат. Это было 3 декабря.
Сенат был собран в храме Согласия, который располагался на Форуме почти у самой подошвы Капитолия. Явились все поголовно. Не осталось ни одного свободного места. Все были в ужасной тревоге. Многие уже слышали, что ночью произошло нечто страшное, но что – этого толком не знал никто. Пришли и заговорщики. Все пятеро явились бледные – на них просто лица не было – и молча заняли свои места. Среди всеобщего молчания отворились двери и вошли служители, сгибаясь под тяжестью кинжалов и мечей. Их нашли сегодня рано утром в доме Цетега во время обыска, произведенного по совету аллоброгов, которые видели там оружие. Всю эту огромную груду с грохотом бросили на пол. Тут Цетег встрепенулся и вскочил. Все это антиквариат, закричал он, это его коллекция, которую он собирал всю жизнь. Он всегда любил красивые мечи и кинжалы. Но двери снова открылись и ввели Вольтурция. При виде его заговорщики потеряли дар речи. Вольтурций дрожал, у него зуб на зуб не попадал, он не мог произнести ни слова. Цицерон поднялся с места и внушительно заявил, что от имени всех присутствующих обещает ему прощение. Но он должен рассказать правду. Заикаясь, Вольтурций объяснил, что Лентул и Цетег послали его к Катилине, чтобы сообщить о происходящем. Город решено поджечь. Он разделен на районы, каждая часть поручена одному из заговорщиков. Катилина с войском должен как можно скорее идти на Рим.
По знаку консула Вольтурций удалился. Двери вновь открылись, и вошли аллоброги. Они рассказали всю историю своих переговоров с Лентулом и вообще все, что в эти дни узнали о заговоре. Цицерон кивнул секретарю. Тот встал, вышел и через несколько минут возвратился с пачкой запечатанных писем. Он молча положил их перед консулом и занял свое место. Всеобщее ожидание достигло предела. Каждый вытягивал шею, чтобы получше разглядеть роковые таблички. Цицерон взял первое письмо и назвал имя Цетега.Тот встал и подошел к столу. Консул показал ему письмо и спросил, его ли это почерк. Да, его. А печать его? Да, его. Тогда на глазах сенаторов Цицерон разрезал шнурок [67]67
Римляне писали письма на табличках, покрытых воском. Обыкновенно две таблички соединялись друг с другом, как книжка. Писали на внутренней стороне, затем книжку закрывали, обе створки скрепляли шнурком, к которому владелец привешивал свою личную печать.
[Закрыть], вскрыл письмо и велел читать его вслух. Грамота была адресована совету аллоброгов и подтверждала все то, о чем они только что рассказывали. Что может сказать Цетег? Цетег угрюмо молчал, раздавленный всем случившимся.
Консул взял следующее письмо и вызвал Статилия. Признает ли он свою руку и свою печать? Да, признает. Точно так же на глазах всего сената консул разрезал шнурок и прочел второе письмо. Оно было совершенно подобно первому. Что скажет Статилий? Он признается во всем. Очередь дошла до Лентула. И тот вдруг заявил, что все ложь. Варвары оклеветали его. С какой стати он стал бы с ними говорить да еще приглашать к себе домой? Галлов вызвали снова. Они «ему ответили кратко, но в полном согласии между собой, кто их к нему водил, сколько раз они его навещали, а затем в свою очередь спросили его, помнит ли он свой разговор с ними об изречениях Сивиллы».
Дело заключалось в следующем. Мы уже говорили, что 63 год был назван гадателями годом крови и это явилось одной из причин, почему революционный переворот назначили на этот год. Но кроме того по рукам ходило пророчество Сивиллы, в котором говорилось, что в Риме будут царствовать три буквы «К» [68]68
Латинская «С».
[Закрыть]. Считали, что речь идет о трех Корнелиях. Два из них – Корнелий Сулла и Корнелий Цинна – уже правили. Черед за третьим, который возьмет власть в 63 году. Лентул был Корнелием и не сомневался, что пророчество говорит о нем [69]69
Это весьма любопытный факт. Оказывается, в то время как Катилина не сомневался, что диктатором будет он, его помощник Лентул метил туда же. В случае удачного переворота между заговорщиками немедленно должна была начаться резня.
[Закрыть]. Он не преминул рассказать о предсказании аллоброгам в первую же встречу. Вот об этом они ему сейчас напомнили. И тут произошло нечто невероятное. «Лентул, внезапно обезумевший от сознания своего преступления, явил нам ясное доказательство силы и могущества совести: имея полную возможность отпереться от того разговора, он вдруг неожиданно для всех в нем признался».
Напоследок вызвали Габиния. Он начал, как всегда, развязно, но под тяжестью улик совершенно сник и тоже во всем признался. Даже вид преступников казался тяжкой уликой, говорит Цицерон. Эти, всегда такие самоуверенные, наглые люди сейчас были смертельно бледны, подавлены; их лица как-то сразу, за один день осунулись, «Они так были поражены ужасом, так боялись поднять глаза, так робко косились друг на друга». Теперь Цицерон снова с живостью вспомнил Каталину. Какое счастье, что он выгнал его из Рима! Тот никогда не повел бы себя так глупо, так нелепо, как Лентул и Цетег, «он не допустил бы, чтобы его письмо и печать были схвачены как доказательство очевидного преступления».
Итак, катилинарии были полностью разоблачены. Свидетельские показания, собственноручные письма с печатью, наконец, признание. «Никогда еще в частном доме кража не была так явно обнаружена, как открыт и обличен этот заговор» (Cat, III, 17).В заключение сенат вознес до небес подвиги консула. Тут же был принят официальный декрет, где говорилось, что он «спас город от пожара, граждан от избиения, Италию от войны» (Cic. Cat., III, 7—17).Консул велел застенографировать все заседание сената, все вопросы и ответы. Потом этот документ размножили, так что с ним мог ознакомиться и приобрести каждый римлянин. Списки разослали во все города Италии (Сiс. Sull, 41–42).
Заседание продолжалось до позднего вечера. Солнце уже заходило, когда двери храма Согласия наконец распахнулись. И тут сенаторы увидели, что весь Форум полон народу. Смутные слухи о случившемся уже облетели город, и люди с утра ждали на улицах, изнывая от нетерпения и волнения. И сейчас все эти необозримые толпы с криком ринулись к Цицерону. Его повлекли к Рострам, умоляя сейчас же, немедленно рассказать, что произошло. Поднявшись на возвышение, Цицерон сказал:
– Сегодня, квириты, Республика спасена. Ваша жизнь, добро, жены и дети… наш счастливый и прекрасный город избавлены от огня и меча благодаря великой любви к вам бессмертных богов, моим трудам, планам и тем опасностям, которым я себя подвергал…Тот огонь, который уже был подложен… под храмы… здания и стены… города, я потушил… те кинжалы, которые уже были приставлены к вашему горлу… я вырвал из рук убийц (Сiс. Cat., 1–2).
После этого он начал рассказывать народу обо всем, что случилось этой ночью, и о том, что было в сенате. Пока он говорил, спустилась полная тьма и окутала город. Тогда Цицерон сказал:
– Так как уже наступила ночь, квириты, помолившись Юпитеру… разойдитесь по домам. Их вы, хотя опасность уже миновала, должны охранять ночными стражами так же заботливо, как в прошлую ночь; скоро я приму меры, чтобы вам более не приходилось этого делать (Ibid., 29) [70]70
Это третья речь против Катилины, произнесенная перед народом.
[Закрыть].
И всю эту ночь до рассвета римляне не смыкали глаз – мужчины стояли на страже с оружием в руках, женщины же отправились совершать священные обряды в честь Доброй Богини, божества, таинства которого не мог видеть ни один мужчина. Так прошла ночь на 4 декабря.
Суд в сенате
На следующий день галлы были вознаграждены по-царски. Теперь надо было заняться катилинариями. Как выяснилось, кроме арестованных вчера Лентула, Цетега, Габиния и Статилия, имелось еще пять главарей революционного комитета. Их и решено было схватить. «Вы видите… какую кротость обнаружил в этом деле сенат: при таких размерах заговора, при таком множестве внутренних врагов, он все же счел возможным удовольствоваться карой только девяти человек», – говорит Цицерон (Cat. III, 14).Однако поймали только одного из них, Цепария, четверо остальных бежали к Каталине. В Риме не было тюрьмы. Поэтому пленников пока взяли в свои дома знатные сенаторы.
В эту ночь Цицерон не мог сомкнуть глаз. Он думал о том, что делать с пятью заговорщиками. Было ясно как день, что их арестом дело не кончится. Можно было не сомневаться, что пленников попытаются освободить. Причем опасность эта исходила не только от их сообщников, разгуливавших на свободе. Эксцессов надо было бояться и с другой стороны. Лентул и Цетег были знатнейшими людьми. У них было множество челяди и клиентов. Эти люди, конечно, должны были попытаться выручить патрона. И действительно, на другой же день такая попытка была сделана. Но Цицерон был начеку. И беспорядки на сей раз быстро прекратились.
Однако долго так продолжаться не могло. Заговорщики находились в домах частных лиц. К ним относились скорее как знатным гостям, чем как к заключенным. Что представлял собой подобный «домашний арест» видно из того, что Катилина, будучи помещен вот так же в чей-то дом, не только слал агентов во все концы Италии, не только руководил восстанием, но даже спокойно выходил из дому и посещал тайные сборища заговорщиков! Видимо, ничто не могло заставить римского аристократа превратить свой дом в тюрьму, а себя самого в тюремщика. Надо было на что-то решиться.
Цицерон был диктатором. Преступники были уличены. Теперь он мог совершенно спокойно обречь их на смерть, не опасаясь ропота недовольства. Так поступали в годину смут римские диктаторы. Увы! Цицерон был интеллигентом до мозга костей. И подобный образ действий внушал ему неодолимое отвращение. И тогда он решил сделать следующее – передать суд над преступниками сенату. Сам он выступит перед этими присяжными, изложит дело, и они произнесут приговор.
И вот ранним утром в декабрьские ноны (5 декабря) сенат собрался в храме Согласия. Цицерон кратко изложил дело и попросил отцов вынести вердикт. Когда обсуждался вопрос особой важности, все сенаторы по очереди вставали и излагали свое мнение. Так поступили и на сей раз. И первым Цицерон попросил высказаться Силана, который уже был избран консулом на следующий год. Силан сказал, что ввиду чудовищности преступления катилинариев и крайней опасности, угрожающей Риму, он считает, что они достойны высшей меры наказания, то есть смерти. Сенаторы один за другим присоединялись к мнению Силана. Казалось, судьба преступников решена. Но тут произошло неожиданное. «Поднялся Гай Цезарь, впоследствии ставший диктатором. Тогда он был еще молод [71]71
Не совсем верно. Цезарь был только четырьмя годами моложе Цицерона. Ему было 39 лет.
[Закрыть] {35} и закладывал лишь первые камни своего будущего величия, но уже вступил на ту дорогу, по которой впоследствии привел римское государство к единовластию. Все поступки… Цезаря согласовались с основной его целью» (Plut. Cic., 20).В то время он был вождем крайних демократов. Цезарь встал и сказал следующее:
– Все люди, отцы сенаторы, когда они думают о спорных вопросах, должны отрешиться от ненависти, дружбы, гнева и сострадания. Дух с трудом различает истину, если ему мешают чувства, и никто не может разом служить и пользе, и страсти.
Оратор начал говорить, какие ошибки совершали цари и народы под влиянием эмоций. Он напомнил, что римляне всегда поступали иначе. Они простили карфагенян, людей коварных и лживых, ибо сочли это полезным. Что же делали предыдущие ораторы?
– Большинство ораторов, которые выступали до меня, в великолепных речах оплакивали гибель Рима. Они перечисляли бедствия, которые несет с собой беспощадная война, все то, что грозит побежденным. Волочат девушек и подростков, детей вырывают из объятий родителей, матери семейств отданы на забаву победителям, храмы и дома разграблены, кругом резня и пожары; повсюду оружие, трупы, кровь и плач. Но, ради богов бессмертных, какую цель имеют подобные речи? Возбудить у вас ненависть к заговору? Уж, конечно, человека, которого не тронуло такое страшное событие, взволнуют слова!
Между тем что обсуждается сейчас? Не то, чего вообще достоин Лентул, но то, какую казнь нужно определить ему по закону.Между тем закон запрещает лишать жизни римских граждан. Римляне вознесены слишком высоко. Слух о их беззаконном поступке облетит всю вселенную.
– Я уверен, что Силан, человек мужественный и энергичный, руководствовался стремлением ко благу Республики… Но его предложение кажется мне не то что жестоким – какое наказание может быть слишком жестоким для таких преступников? – но чуждым духу нашего государства. Видимо, то ли страх за Республику, то ли обида за нее побудили тебя, Силан… решиться на неслыханное наказание. Говорить о страхе излишне, ведь благодаря исключительному усердию нашего замечательного консула кругом огромное количество гарнизонов с оружием в руках. О наказании же я скажу то, чего требуют обстоятельства. Среди скорбей и несчастий смерть не мука, но отдых от трудов, она разрешает заботы, после нее нет ни печали, ни радости. Но, ради богов бессмертных, почему ты не добавил, чтобы их сначала высекли розгами? Или потому, что это запрещает Порциев закон? Но ведь другие законы предписывают, чтобы осужденных граждан не лишали жизни, но отправляли в изгнание. Или высечь хуже, чем убить?.. А если лучше, почему же в малом следует бояться закона, которым мы пренебрегаем в великом?
Далее оратор отметил, что добрые намерения подчас приводят к весьма печальным последствиям. При Сулле сначала убивали людей действительно преступных и как будто заслуживающих смерти.
– Но это было началом великих бед… Конечно, я не опасаюсь этого в консульство Марка Туллия и вообще в наше время… Но, может быть, в другое время, при другом консуле, у которого в руках также будут войска, какое-нибудь ложное обвинение выдадут за истину. И тогда, опираясь на настоящий пример, консул обнажит меч… И кто тогда укажет ему границы, кто его остановит?
Наконец оратор предостерег слушателей и напомнил, что такое вопиющее нарушение закона не сойдет виновному с рук. Несомненно, он ответит за это перед народом, по всей вероятности, понесет тяжкое наказание.
В заключение Цезарь предложил следующее. Заговорщиков надо развести по муниципиям и всю жизнь держать там под стражей. Имущество их конфисковать. Муниципиям же со всей строгостью внушить, что они отвечают за арестантов головой. Кроме того, специальным декретом запретить поднимать вопрос о смягчении участи осужденных перед сенатом и народом (Sail. Cat., 52).
На меня эта речь производит странное впечатление. Есть какая-то ирония судьбы в том, что щепетильным и педантичным защитником закона выступил именно Цезарь, который вскоре его окончательно разрушил. А когда оратор говорит о полководце, который будет иметь в руках армию и, обнажив меч, сокрушит конституцию, трудно отделаться от впечатления, что он имеет в виду самого себя. С другой стороны, достойно удивления, как демократы понимали гуманность и милосердие. Они считали негуманной и беззаконной казнь пяти человек, уличенных на основании точных документов в том, что они собирались в ближайшие дни поджечь Рим. И в то же время они яростно настаивали на том, чтобы замучить дряхлого старика, который будто бы 37 лет тому назад вместе со всем Римом принимал участие в убийстве отъявленного разбойника! Не странно ли?
В то же время нельзя не признать, что речь Цезаря показывает его с самой лучшей стороны. Я говорила уже о генеральном штабе революции, который наметил смуту на этот год и, как пешками, двигал Руллом и Каталиной. Но ведь этот штаб состоял из Цезаря и Красса. Вероятно, в какой-то момент заговор вышел из-под их контроля, хотя об этом мы можем только гадать. И вот теперь имена Цезаря и Красса стали то и дело выплывать в показаниях заговорщиков. Дело дошло до того, что однажды юноши, охранявшие Цицерона, бросились на Цезаря с ножами. К счастью для будущего диктатора, Цицерон успел их удержать. Красс сейчас явно струсил. Он всячески доказывал, что не имеет к катилинариям никакого отношения. И ему больше всего хотелось скорее отделаться от этих своих сломанных орудий, пока они не превратились в улику против него. Цезарь же, наоборот, великодушно решил попробовать спасти этих людей.
Речь Цезаря была легка и остра, как оперенная стрела. И нетрудно заметить, что стрела эта направлена в грудь Цицерона. О, конечно, ничего подобного Цезарь не говорит. Напротив! Он изысканно вежлив и церемонно раскланивается перед «нашим замечательным консулом». Он возражает не ему, а только одному Силану. Но всем, конечно, ясно, что, говоря об ораторах, которые в звенящих чувствами тирадах оплакивают гибель Рима, он намекал в первую очередь на Цицерона. Его стройная, логическая, сухая речь должна была еще более подчеркнуть патетичность Цицерона. Далее он весьма недвусмысленно дал понять, что защитники Республики плохо знают ее законы. Выходило, стало быть, что Цезарь заботится о легкомысленном консуле, который совершенно забыл римскую конституцию!
На всех присутствующих речь Цезаря произвела сильное впечатление. Все сенаторы поспешили согласиться с ним. Даже Силан признал, что был неправ. С ужасом смотрел на это Цицерон. Ему было ясно как день, что план Цезаря безумен. Где, в каком городе можно было поместить столь опасных преступников, имеющих столько сторонников, да еще теперь, когда в Италии стоит войско Катилины? Как можно запретить говорить о них перед народом и сенатом? Чего будет стоить этот запрет? Да в следующем же году какой-нибудь новый Лабиен, бойкий и красноречивый демократ, произнесет зажигательную речь перед народом и добьется их освобождения так же легко, как вот сейчас Цезарь перед сенатом добился их помилования! Этого мало. В бесплодных спорах прошел целый день. Близился вечер. Закон велит с заходом солнца закрывать заседание сената. Значит, все откладывается до завтра. А что будет завтра, даже сегодня ночью, абсолютно неизвестно. Еще вчера преступников чуть было не освободили. Между тем толпы народа осаждали храм. С Форума несся глухой шум. Люди теснились у дверей, заглядывали через плечо стоявших впереди и жадно ловили каждое слово. Здесь в этой толпе стояли и друзья заговорщиков и ждали, чем кончится дело. Цицерону, конечно, надо было возразить Цезарю. Увы! Как председатель он не должен был подавать мнение открыто ни за Цезаря, ни за Силана. Нужно было что-то предпринять, притом мгновенно. И Цицерон, как всегда, с поразительной быстротой нашелся.
Внезапно он поднялся с места и движением руки остановил голосование. Необходимо, сказал он, внести во все происходящее ясность. Он видит, что сенаторы, особенно Цезарь, по доброте душевной слишком много думают о нем. Они боятся, как бы казнь преступников не навлекла на него неудовольствие народа. Но пусть они забудут о нем! Что значит его маленькая жизнь, когда речь идет о Риме! Ради Республики он с радостью рискнет своим положением и безопасностью, с радостью отдаст за нее жизнь. Поэтому думать сейчас надо только о сути дела. Сенаторы должны еще раз взвесить свое положение и понять, кто те люди, которых они сейчас судят. И каково бы ни было их решение, он требует как консул и председатель сената, чтобы они приняли его до наступления вечера. Пока мнений подано было два: Силана, который требует немедленной казни для врагов Рима, и Цезаря. Эти предложения надо обсудить.
Итак, Силан предлагает смерть, «памятуя, что в нашем государстве такого рода наказание не раз применялось к нечестивым гражданам». Цезарь же возражает, во-первых, волнуясь о самом Цицероне. Он боится, что найдутся ловкие демагоги, которые представят дело так, что его действия противоречат Семпрониеву закону. Сам-то Цезарь прекрасно знает конституцию и, разумеется, понимает, что закон этот не касается вооруженных мятежников, которые часто осуждались на смерть диктатором. Недаром осужден был на казнь сам автор этого закона Гай Гракх. Но Цезарь знает, как легковерна и неразумна толпа. Но есть и другая причина.
Цезарь полагает, что смерть слишком легкая кара для таких страшных преступников, ведь смерть дана людям бессмертными богами не как наказание, а как отдых от трудов. Какое верное замечание! Да, смерть это отдых. Недаром мудрецы спокойно принимали смерть, даже радовались ей. Вот почему Цезарь предлагает иное, лютое наказание – вечную муку. Такая кара по верованиям старины ожидала самых страшных грешников под землей. Даже вопрос о катилинариях запрещает он ставить перед государством, чтобы отнять у них последнее утешение – надежду. Напрасно они в отчаянии будут молить о мгновенной смерти, они не получат ее.
Таким образом, подано два мнение – более мягкое и снисходительное Силана и совершенно неумолимое Цезаря. Больно видеть, как этот истинный демократ, «насилуя свою природную мягкость, без всякого колебания осуждает Лен-тула на вечные оковы и вечный мрак». Конечно, это жестокость, но жестокость на благо Рима.
– А впрочем, отцы-сенаторы, может ли идти речь о жестокости, когда говоришь о возмездии за столь отвратительное преступление?
Разве жестокость – стремление обезвредить преступника? Разве назовешь жестоким человека, который, вернувшись домой и найдя зарезанными свою жену и детей, казнил убийцу? Напротив. Это скорее доброта, жалость к беззащитным жертвам. Правда, некоторым может показаться, что предложение Цезаря жестоко по отношению к муниципиям. Маленькому городку навязывают опаснейшего преступника да еще стращают всякими карами, если граждане его не уберегут. Но он, Цицерон, берется все уладить и успокоить муниципалов. Итак, он еще раз призывает отцов все взвесить и принять должное решение (Cat., IV, 1-11) [72]72
Это четвертая речь против Катилины, произнесенная перед сенатом.
[Закрыть].
Это, может быть, самая остроумная из речей Цицерона. Каким-то непостижимым образом он сумел вывернуть все доводы Цезаря наизнанку. Цезарь говорил как человек гуманный и великодушный, вдруг оказавшийся среди мстительных и озлобленных дикарей. Цицерон показал, что из его же собственных слов явствует, что предложенная им мера и есть самая жестокая. Она жестока по отношению к катилинариям, которых сгноят в темнице. Она жестока по отношению к ни в чем не повинным муниципиям. Наконец, она жестока по отношению к римским гражданам, ибо, чересчур жалея разбойника, все-таки не следует забывать и о его жертвах. Цезарь со снисходительным видом объяснял своим близоруким коллегам, что они нарушают закон. Цицерон показал, что он даже не понимает его сущность и делает ошибку, простительную только легкомысленному неучу. Цезарь гордился четкостью и логичностью своей речи, он подсмеивался над своими не в меру чувствительными коллегами. А Цицерон показал, что его речь лишена элементарной логики – это ясно видно из замечательного лирического отступления о смерти, которое противоречит всему тому, что хотел доказать оратор. Наконец – и это было нестерпимее всего! – Цицерон ухитрился так все перевернуть, что Цезарь оказался самым его преданным и сердобольным другом. Оказывается, он из любви к Цицерону ринулся в бой со своими непродуманными и нелепыми предложениями! И оратор мягко усовещивал этого своего слишком ретивого поклонника. С каким наслаждением он, вероятно, произносил: «…больно видеть, как этот истинный демократ, насилуя свою природную мягкость, без всякого колебания осуждает Лентула на вечные оковы и вечный мрак».
В результате Цезарь оказался в нелепом и комическом положении. Но, что самое обидное – все эти язвительные насмешки произносились с видом полного благодушия. Такого рода издевка, когда под видом похвалы преподносят горчайшую пилюлю, сам Цицерон называет греческим словом ирония.Это, говорит он, «утонченное притворство, когда говоришь не то, что думаешь» и «с полной серьезностью дурачишь всех своей речью, думая одно, а произнося другое» (De or., II, 269).Современники считали, что Цицерон был в этом великий мастер. В этой же речи он достиг такой виртуозности, что простодушный Плутарх попался на удочку и поверил, что оратор всерьез стал на сторону Цезаря! (Сiс., 21).Но сам Цезарь был не столь наивен. Говорят, он очень обиделся {36} .








