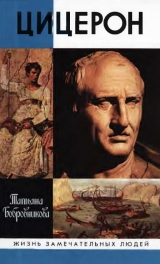
Текст книги "Цицерон"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц)
Вот что необходимо было узнать Цицерону. И он узнал это. Да, он добыл улику, улику неопровержимую, страшную. Ему удалось достать тюремный журнал.Здесь значилось, кто и когда попал в тюрьму, кто и когда из нее вышел и, наконец, кто был там казнен. Эту бумагу Веррес не доверял никому, он прятал ее на своей груди. Но все напрасно. Что сделал Цицерон, какие чудеса совершил, мы не знаем. Нам известно одно: бумага оказалась в его руках!
Вот этот журнал. Да, здесь много имен римлян, попавших в тюрьму. Но где же пометки о том, что они освобождены? Их нет. Веррес, конечно, скажет, что все они вдруг умерли от какой-нибудь эпидемии? Вряд ли ему кто-либо поверит. И потом… Потом у Цицерона есть точные сведения о том, где они. Нет, они не умерли от эпидемии. В этом самом журнале черным по белому против их имени стоит слово EDIKAITHESAN. Веррес, человек совершенно невежественный, слова этого не понял. А между тем на сицилийском диалекте греческого языка это означает КАЗНЕНЫ.
Такого ужасного злодеяния никто не подозревал. Римский гражданин был неподсуден наместнику. Судить его мог только римский суд. Римского гражданина нельзя было заточить в тюрьму или наказать телесно. Эти действия в глазах римлян равнялись святотатству. Великие цари мира трепетали при одной мысли оскорбить римского гражданина.
– Если бы какой-нибудь царь, или иностранная община, или чужое племя позволили себе нечто подобное… римское государство… объявило бы им войну (II, 5, 146–149).
Но главное впереди. Был среди этих несчастных один; звали его Гавий. Каким-то чудом, несмотря на расставленные повсюду караулы, ему удалось бежать. Он бросился в Мессану, порт, стоящий на берегу пролива, отделяющего Сицилию от Италии. Наконец он достиг Мессаны. Беглец вздохнул спокойно – все ужасы позади, несколько часов – и он в Италии. С восторгом глядел он на родные берега. После страшной тюрьмы, после мучений и опасностей, после мрака и смерти, которые его окружали, он наслаждался светом и свободой и «вдыхал воздух законности».С нетерпением поджидал он корабль. Наконец судно причалило. Он поспешно стал всходить по трапу и… чьи-то руки схватили его сзади.
Мессана была словно бы родовое пиратское гнездо Верреса, его разбойничья берлога. Туда он стаскивал захваченную добычу. Там он прятал самое ценное. Жители же были его братья-разбойники, с которыми он щедро делился награбленным. Они были связаны с ним преступлением, а потому верны ему душой и телом. И вот местные власти узнают, что в городе появился какой-то римлянин. Говорят, он бежал из тюрьмы. Теперь он уезжает и грозится все рассказать в столице. Этого допускать нельзя. Беглеца необходимо схватить во что бы то ни стало.
И вот Гавий схвачен. Его стащили с корабля и вдруг стало известно, что в город пожаловал сам наместник. Услужливые друзья бегут к нему навстречу и, поравнявшись с его носилками, сообщают радостную новость – Гавий схвачен. Когда Веррес узнал обо всем, его неожиданно охватило бешенство. Глаза его засверкали, лицо перекосилось. Он приказал нести носилки на главную площадь. Туда же велено привести беглеца.
Его поставили перед креслом Верреса. Наместник сделал знак своим приспешникам, и с Гавия сорвали одежду, а руки скрутили за спиной. Мужество не изменило Гавию в эту страшную минуту. Он не стал плакать, унижаться и просить пощады. Он громко и твердо заявил, что он римский гражданин и Веррес – святотатец. И тогда, совсем озверев, Веррес велел соорудить крест.
– Да, крест для этого несчастного, замученного человека, для него, который и в глаза не видел этого омерзительного орудия.
Веррес с ядовитой улыбкой приказал поставить крест на самом берегу залива.
– Пусть он с высоты видит Италию и взывает оттуда к законам!
«Мы осуждаем человека, заключающего в оковы римского гражданина, считаем преступником того, кто подвергает его ударам, ненавидим наравне с братоубийцей того, кто его убивает; как же назвать человека, приказывающего его распять!»
До Верреса дошли слухи о том, что его страшное преступление выплыло наружу. Он теперь уверяет, что распятый им человек, выдававший себя за римского гражданина, был на самом деле шпионом восставших рабов, присланным в Сицилию из южной Италии. Поэтому-то он и повесил его на берегу в назидание его товарищам.
– Но я намерен доказать, что тот Гавий, в котором ты усмотрел внезапно объявившегося шпиона, был заключен тобою же в сиракузские каменоломни; я докажу это не только данными сиракузского тюремного журнала – ты способен ответить, что я пользуюсь случайно встречающимся в этой книге именем Гавия, по собственной выдумке даю это же имя и твоей жертве, чтобы иметь возможность отождествить обоих – нет, я вызову сколько тебе угодно будет свидетелей, которые покажут, что он – то самое лицо, которое ты заключил в сиракузские каменоломни. Я вызову затем его земляков и друзей – консанцев, которые покажут… что тот Гавий, которого ты распял, был римским гражданином из муниципия Консы, а не шпионом.
Нет, Верресу не выпутаться. Его вина доказана.
– Нет имени, которое соответствовало бы столь нечестивому злодеянию… Нет, не Гавия… обрек ты мучительной казни, а общее дело свободы и гражданства… Все римские граждане должны считаться братьями по крови… Все римские граждане, как присутствующие, так и отсутствующие… взывают к вашей справедливости, просят у вас помощи, все их права… вся их свобода зависят от вашего приговора (II, 5, 160–179).
* * *
В эти дни Цицерон не знал покоя. «В 50 дней я успел исколесить всю Сицилию», – говорит он (I, 6).Часами напролет, без отдыха скакал он по бездорожью, через горы, в бурю, снег, дождь. Ранняя весна – суровое время в горах. В течение дня ему надо было опросить десятки свидетелей. Ночью при свете лампады он записывал то, что узнал. Он признавался, что в эти 50 дней почти не спал (Ibid.).Зато перед отъездом он мог с удовлетворением записать: «Никто никогда, насколько помнят люди, не выступал в суде более подготовленным… более знакомым со своим делом» (I, 32).
Узнавая о все новых чудовищных преступлениях наместника, он содрогался от ужаса. И в то же время сердце плясало у него в груди – писатель и оратор в нем ликовал. О, теперь-то Веррес от него не уйдет. Он представлял себе, как при огромном стечении народа он поднимется на Ростры и начнет рассказывать обо всем, причем расскажет так ярко, что слушателям покажется, что они на несколько часов перенеслись в Сицилию и увидели все собственными глазами. И вот зрители рыдают, судьи в гневе поднимаются со своих мест. Веррес уничтожен, Гортензий повержен в прах, сицилийцы плачут от счастья и все с восторгом смотрят на виновника всего этого – Цицерона! И, дрожа как в лихорадке, он записывал все новые и новые его преступления. О, если бы он знал, что ожидает его в столице!
Сети расставлены
Теперь перед нашим героем встала новая очень сложная задача. По римским законам, он должен был быть на месте в день суда. Если какая-нибудь случайность его задержит и 4 мая он не ответит на вопрос претора, дело автоматически аннулируется (Verr., II, I, 98).Между тем времени оставалось в обрез. Надо было лететь в столицу. И тут он получил весточку от друзей в Риме. Они сообщали, что Веррес не дремлет. Он хочет всеми силами помещать обвинителю. Обстоятельства же благоприятствовали его планам. Благодаря мудрому управлению Верреса пираты осмелели и дрейфовали у самых берегов Сицилии (II, 4, 103).Сицилийцы не сомневались, что Веррес с ними в приятельских отношениях: кажется, он спас самого архипирата [47]47
Так называли главу пиратов.
[Закрыть]. Могут ли после этого разбойники отказать ему в такой ничтожной услуге – потопить в море какого-то бывшего квестора?
Нет, морем ехать нельзя. Это ясно. Значит, надо ехать сушей через юг Италии. Но там только что отшумело восстание Спартака. Весь юг кишел беглыми разбойниками. Пробираться через этот край было опасно. Но была опасность и другого рода. Сицилийцы рассказали Цицерону, что Веррес грубо оскорбил одного старого римлянина, жившего в Сицилии, некого Лоллия. У него был сын, молодой, энергичный человек. Узнав об этом, он вспыхнул от гнева и поклялся, что привлечет наместника к суду. Но он не добрался до Рима. Его зарезали по дороге. Убийство свалили на беглых рабов, но сицилийцы не сомневались, что это дело рук их бывшего наместника (II, 3, 59–63).Они заклинали оратора быть осторожным – если уж убили Лоллия, то с каким же рвением будут охотиться за обвинителем, в чьих руках такие страшные улики против Верреса! И, даже если он и избегнет смерти, разве трудно задержать его, затеять драку, оглушить, ранить, словом, надолго вывести из строя. Ведь этого будет довольно. Стоит ему опоздать хоть на день, и Веррес спасен. Нет, сушей ехать тоже нельзя. Но как же быть? Не по воздуху же мчаться в Рим? И Цицерон нашел выход.
Он прибыл в Мессану и сел на корабль, отправляющийся в Регий. Сойдя на берег, он продолжал путь по суше. Он был уверен, что шпионы Верреса, следившие за каждым его шагом, немедленно донесут своему патрону, что Цицерон едет сушей. И тогда на пути его ждет засада. Доехав до Ви-бона, Цицерон вдруг резко изменил маршрут и устремился в гавань. Там он нанял маленькое неприметное рыбачье судно и велел править к Велии. Я, говорил он впоследствии Верресу, пробирался «на крошечном суденышке… между беглыми рабами, морскими разбойниками и твоими убийцами». Да, я подвергался смертельной опасности. Но я думал только об одном – только бы дело не сняли с очереди (II, 2, 99).Наконец вдали показался берег. Его маленькая лодочка, лавируя в море, причалила в порту Велии. И вот Цицерон, живой и невредимый, возбужденный и счастливый, вступил в Рим. 4 мая ровно в назначенное время он явился к претору. Цицерон полагал, что теперь-то победа в его руках. Увы! В столице его ждал страшный удар. Я понял, говорит он, что все опасности, которым я подвергался на суше и на море, пробираясь между убийцами, меркли перед тем, что ждало меня в Риме (I, 3).
Если читатель помнит, Цицерон получил свой мандат 10 января и попросил на предварительное следствие 110 дней. Так вот, на другой же день, 11 января, к претору пришел какой-то человек и заявил, что хочет возбудить дело против наместника Ахайи и ему нужно на следствие 108 дней. Таким образом, слушание его дела началось 3 мая, то есть на день раньше, чем должно было открыться дело Верреса. Поэтому, когда Цицерон вернулся, оказалось, что суд занят другим процессом, причем по всему было видно, что процесс этот затянется на много месяцев. То был первый страшный удар для Цицерона. Он, разумеется, сразу понял, что человек этот был агентом Верреса. Все было шито белыми нитками. В то время как Цицерон носился по Сицилии, обвинитель ахайского наместника спокойно сидел в римских пивных. «Наш ахайский следователь не доехал даже до Брундизия [48]48
Порт на юге Италии, на побережье Адриатического моря, откуда отправлялись корабли в Грецию.
[Закрыть]» (I, 6).
Пока Цицерон в бессильном отчаянии следил за бессмысленным процессом, Веррес приступил ко второй операции. Он занялся подкупом судей. Операция прошла блестяще. Но… тут, в свою очередь, Верреса ждала неожиданность. Он и не подозревал, что обвинитель наблюдает за каждым его шагом. А так как его невероятная наглость уравновешивалась тоже из ряда вон выходящей глупостью, он абсолютно не умел держать язык за зубами. Набредя на какую-нибудь блестящую идею, он с торжеством рассказывал о ней всем друзьям и знакомым. И когда Цицерону как обвинителю предоставили право отвода судей, он отвел всех тех, кого купил Веррес. Верреса это страшно поразило. Он помрачнел как туча (I, 5; 16–17).
Впрочем, Цицерону тоже не приходилось радоваться. Его все более и более окутывал мрак. Злополучный процесс ахайского наместника все тянулся и тянулся, и конца ему не было видно. Прошел май, прошел июнь, настал июль. И тут последовал новый удар. В июле проходили выборы магистратов. Первый тур – избрание консулов; второй тур – преторов; третий – младших магистратов. Все в доме Верреса пришло в движение. Туда и сюда сновали какие-то люди, с вечера до рассвета в комнатах горел свет, шли жаркие совещания, из дома выносили огромные корзины, доверху наполненные золотом (I, 22–23).
Результаты этой бешеной деятельности не замедлили сказаться. Консулами на следующий, 69 год были избраны Квинт Гортензий, защитник Верреса, и Метелл, его патрон и горячий защитник, брат того самого наместника Сицилии Метелла, который причинил столько хлопот Цицерону. Когда Гортензий возвращался с выборов, окруженный огромной толпой народа, у Фабиевой арки им встретился Курион, один весьма влиятельный человек. Поравнявшись с праздничным шествием, он остановился и громко поздравил… Верреса. Да, да. Он поздравил не Гортензия, а Верреса, который тоже важно шел среди толпы.
– Теперь тебе не о чем беспокоиться, – громко сказал Курион, прижимая Верреса к груди. – В сегодняшних комициях ты оправдан.
Цицерона не было в этой толпе. Но приятели немедленно отыскали его и наперебой принялись рассказывать ему о происшедшем. Этого мало. Едва наш герой выходил из дому, каждый встречный кидался к нему и, захлебываясь, сообщал последнюю новость (I, 18–19).
Настал второй тур. Одним из преторов выбирают третьего Метелла. Бросают жребий. И что же? Именно Метеллу достается председательство в судах о вымогательстве, то есть именно он будет разбирать дело Верреса! Случайность? Что-то уж очень удачная случайность! Тут уж Верреса буквально завалили поздравлениями. Он сам на радостях немедленно послал жене записку – все в порядке, готовь бокалы (I, 21).
Настал третий тур. В этом туре собирался баллотироваться сам Цицерон. Он выставил свою кандидатуру с эдилы. Как всегда, он знал все, что происходило за стенами дома Верреса. Ночью бывший наместник созвал своих эмиссаров и объявил, что Цицерона нужно завалить. Произошло некоторое замешательство. Агенты качали головами. Они стали говорить, что Цицерон страшно популярен, причем знает его не только весь Рим, но и вся Италия. Она отдаст ему свои голоса. Но тут выступил вперед один очень опытный делец. То был старый воин, поседевший в дружинах отца Верреса, знаменитейшего раздатчика взяток на выборах.
– Берусь, – заявил он, – за полмиллиона.
Наутро Цицерон уже знал всё. Но что толку? Он был бессилен. Грозить этим людям судом он не мог – они прекрасно понимали, что он связан по рукам и ногам процессом Верреса. Заниматься предвыборной кампанией он всерьез тоже не мог: все его мысли, все его силы были отданы тому же процессу. А против него двинуты были сицилийские корзины.
В таких обстоятельствах настал третий тур. Результаты его были несколько неожиданны. Эдилом выбран Цицерон, причем выбран блестяще, абсолютным большинством голосов (I, 23–24).То была единственная неудача Верреса на выборах. Но дела она уже не меняла. Конечно, Цицерону было очень радостно сознавать, что он так любим в Риме и по всей Италии. Но на судьбу процесса это – увы! – уже не влияло. И тут на Цицерона обрушился последний удар.
Его официально уведомили, что слушание его дела назначено на секстильские ноны (5 августа). Теперь, наконец, план Верреса был ясен как день. Теперь стало ясно, зачем он так озабочен был выборами консулов и преторов на следующий год. 16 августа открывались знаменитые долгожданные игры Помпея. Они должны были продолжаться до 1 сентября. Всего через три дня, 4 сентября, начинались Римские игры, которые заканчивались только 19 сентября. Таким образом, у Цицерона отняли три спокойных месяца. Он получил всего десять дней, с 5 по 15 августа. Отвечать на его речи Гортензий будет через 40 дней, когда все их уже забудут, когда их вытеснят из памяти блестящие игры Помпея, которыми уже сейчас бредит вся Италия. Но это еще не все. Теперь задача Гортензия немного потянуть время – а опытному адвокату это ничего не стоит. В конце октября начинается новая серия праздников: с 26 октября по 1 ноября – игры Виктории, с 4 по 17 ноября – Плебейские игры. А там уж декабрьские Сатурналии и Новый год. К этому времени процесс, который столько раз прерывали, переносили и откладывали, окончательно всем надоест (I, 31–32).Но главное даже не это. С нового года Гортензий и Метелл станут главами государства. Процесс перейдет в руки второго Метелла. Он же займется подбором судей. Они с Верресом уже намечали, кого и кем заменить. Это было невозможно при сегодняшнем преторе Мании Глабрионе, человеке принципиальном и порядочном [49]49
К этому человеку наш герой испытывал особую симпатию и вот почему. Мать его была родной сестрой Сцеволы Понтифика, учителя Цицерона, зарезанного марианцами. Женат же Маний Глабрион был на дочери Скавра, принцепса сената, которого читатель, быть может, помнит.
[Закрыть]. Словом, Веррес действительно уже оправдан.
Он теперь гордо расхаживал по Риму и с великой важностью говорил:
– Недаром любил я деньги; какую силу они имеют, узнал я на деле. Самая трудная часть задачи выполнена – я купил время судопроизводства (I, 8).
И в самом деле. Деньги оказались всесильны. Друзья Верреса в своем кружке глумились над Цицероном. И разве не смешон был он, этот Дон Кихот, который, вооружившись хрупким копьем – силой слова, – выехал на бой с несокрушимыми мельницами – властью денег. Со смехом вспоминали они, как он, не зная покоя, носился по Сицилии в дождь и в бурю, как в утлой лодочке переплывал море – и для чего? Цицерон не мог спокойно выйти на улицу. Его тотчас окружала толпа доброжелателей, которые, охая и качая головами, выражали соболезнование и сочувствие. Особенно терзали его сицилийцы. Они метались по городу, ловили все слухи, в полной панике вновь бежали к Цицерону, так что у того наконец голова пошла вихрем.
Оратор был подавлен, но старался держаться мужественно. «Я старался затаить свою грусть, старался скрыть следы печали на своем лице, скрыть их своим молчанием» (I, 21),Что процесс уже проигран, ясно было и ребенку.
В разговоре с Манием Глабрионом Цицерон позволил себе едкую и горькую шутку. Он сказал, что, наверно, скоро в Рим явятся делегации от всех провинций с просьбой отменить закон о вымогательстве. Ведь, не будь этого закона, каждый наместник воровал бы столько, сколько нужно для него самого и его детей. А теперь он ворует для целой коллегии адвокатов, претора и судей (I, 41).
Да, власть денег оказалась страшнее, чем власть Суллы. Наглядно было продемонстрировано, как ум, энергия, талант, красноречие – все разбивается об эту гладкую и несокрушимую скалу.
Секстильские ноны. Развязка
Открытие суда почему-то было назначено на два часа дня, самое жаркое время, когда в южных городах наступает сиеста и люди спешат укрыться в свои дома от жгучих лучей полуденного солнца. Цицерон знал, что народу будет много. Но даже он не ожидал такого столпотворения. На Форум пришли необозримые толпы народа (Verr., 14).Дело Верреса вызывало жгучий интерес. Только о нем в последнее время и говорили. В Рим прибыли чуть ли не все жители Италии. Целые города в полном составе пришли в тот день в столицу. Что до сицилийцев, то римлянам казалось, что их благодатный остров совсем опустел и все жители переселились к ним (I, 20).Вся эта колоссальная пестрая толпа хлынула в день суда на Форум. Все скамьи были заняты. Люди сидели на ступенях храмов, портиков, просто на земле, стояли, прислонившись к колоннам, под палящими лучами солнца.
Народ волновался и рокотал, как море. Среди зрителей ходили разные слухи. Многие жалели Цицерона.
– Верреса, – говорили они, – у него из рук, конечно, вырвут (I, 20).
Другие с уверенностью говорили, что Веррес снова подсылал своих людей к Цицерону и на сей раз предложено было столько, что он не устоял (I, 17).И все – греки, римляне, италийцы – горячо и возбужденно спорили и обсуждали.
Наконец появился Веррес, по обыкновению самоуверенный и наглый. Его окружала целая толпа влиятельных людей. Веррес уселся на скамью подсудимых, а его спутники сели на первую скамью, чтобы своим молчаливым сочувствием поддерживать его во время суда. Явился защитник Гортензий, как всегда, модный, импозантный, эффектный. Явился бледный как смерть, обвинитель и опустился на противоположную скамью. Претор Глабрион сделал знак глашатаю. Тот потребовал тишины и объявил, что заседание открыто и слово предоставляется официальному обвинителю Марку Туллию Цицерону.
Цицерон встал и поднялся на Ростры. По толпе прошел вздох. Всё смолкло. И в наступившей тишине, столь резко диссонирующей с недавним шумом, обвинитель заговорил. И сказал он совсем не то, что все ожидали. Вместо пламенных обличений и картинных сетований Цицерон рассказал о событиях последних семи месяцев – о том, как у него отняли время суда, как купили магистратов на следующий год и как поставили его в безвыходное положение. Рассказывал он кратко и ярко. После этого он оборотился к присяжным.
– Успело установиться убеждение… будто… нельзя добиться осуждения богатого человека, как бы ни были велики его преступления. И вот… в суд является в качестве подсудимого Гай Веррес, человек, заранее осужденный… за свою жизнь и поступки, заранее оправданный благодаря своему огромному богатству… Я привлек к суду разбойника в чине городского претора… Но если огромные богатства подсудимого возьмут верх над совестью и честью судей, – я достигну одного, будет доказано, что… государство лишено судей… Теперь все находятся в напряженном ожидании – они хотят убедиться, останется ли каждый из нас верным голосу чести и чувству долга… Вы будете судить обвиняемого, а римский народ – вас (I, 3; 47).
Затем он обернулся к Верресу, Гортензию и их друзьям.
– Я твердо решил не допускать в этом процессе перемены претора и судей. Я не позволю тянуть дело… Я не соглашусь, чтобы мне отвечали через сорок дней, когда… пункты моего обвинения успеют испариться из памяти… Место моей речи займут документы, свидетели, общественные и частные письма… Кто не желает лишиться удовольствия выслушать связную речь, тот пусть подождет до второй сессии; теперь же… он поймет, что я должен был так поступить. Такова будет моя обвинительная речь в первой сессии. Итак я утверждаю, что Гай Веррес… отнял у сицилийцев 40 миллионов сестерциев. Это положение я докажу на основании свидетельских показаний, общественных и частных писем и городских депутаций… А пока я кончил (I, 33; 53–56).
С этими словами он указал на своих спутников. То была огромная разношерстная толпа – тут были сицилийцы, италийцы, римляне, мужчины, женщины и даже несколько детей с воспитателями. И вся эта огромная толпа явилась свидетелями против Верреса.
Выступление Цицерона произвело на его противников впечатление разорвавшейся бомбы. В отличие от Верреса Цицерон умел хранить свои планы в строжайшей тайне. Никто и подозревать не мог, что он решится на такой шаг. Растерянный защитник поднялся со своего места и начал было говорить, что обвинитель действует незаконно и наносит урон защите. Цицерон спокойно отвечал, что, напротив, ущерб наносится только ему самому – он жертвует своей ораторской славой, он отказывается от заготовленной речи и сам ужимает свое выступление. А в рамках обвинения он волен действовать как угодно. С этими словами он приступил к опросу свидетелей.
Здесь Цицерон во всем блеске обнаружил еще один свой замечательный талант. Он был великий мастер в опросе свидетелей, этой труднейшей части адвокатского выступления. Как искусный режиссер, направлял он их речи по нужному пути. Он умел так ставить вопросы, так их комментировать, с молниеносной быстротой сопровождать их такими выразительными и краткими репликами, что каждое показание начинало блистать как бриллиант. Порой сама сбивчивость и бессвязность их рассказа служила ему аргументом в их пользу. Она свидетельствовала о их волнении, страданиях, безыскусности. О, они буквально не могут говорить от всего пережитого! Часто какой-нибудь одной прочувствованной фразой, одним взглядом, полным скорби, он заставлял свидетеля заплакать. И тогда его омытое слезами лицо служило лучшей уликой для судей.
– Этот старец с всклокоченными волосами и в траурной одежде – это Стений Термитанский. Ты опустошил весь его дом… Этот другой, которого вы видите, – это Дексон; он не требует у тебя обратно того… что ты украл у него… несчастный отец требует, чтобы ты вернул ему единственного сына… Этот столь древний старик – Евбулид; на закате своих дней от отправился в столь дальний и трудный путь не с тем, чтобы получить обратно что-нибудь из своего имущества, а с тем, чтобы видеть тебя осужденным теми же глазами, которыми он видел окровавленную голову своего сына (II, 5, 128).
Наконец Гортензий пришел в себя и попытался было возражать, попытался сбить свидетелей, как обыкновенно делают адвокаты. Но его жалкие возражения буквально сметала лавина свидетельских показаний. «Я добился того, что в один тот час… подсудимый при всей своей дерзости, при всем своем богатстве… должен был проститься с надеждой». Он был «засыпан и задавлен обвинениями» (II, 1, 20).Наконец-то Цицерон был вознагражден за все муки – он видел, с каким неотрывным вниманием все глаза обращены на него; с губ срывались то сдавленные вздохи, то взрывы проклятий. Собиралась буря. Когда же речь пошла о казнях капитанов, послышались рыдания и всхлипывания. Цицерон вгляделся в толпу – и у судей, и у зрителей лица были мокры от слез (II,5, 172).И тогда он заговорил о Гавии, римском гражданине, распятом на берегу моря. И тут слезы разом высохли. Народ заревел. Веррес побелел, встрепенулся и вскочил, дрожа как осиновый лист.
– Он не был гражданином! – завопил он в ужасе. – Он только называл себя гражданином! Он был шпион!
Но было уже поздно. Его слова потонули в неистовом реве толпы. Буря грянула. Народ в дикой ярости кинулся на Верреса. И тогда Глабрион вскочил и закричал, что заседание закрыто. Он не был другом обвиняемому, но свято чтил законы и считал, что дела не должны решаться кулачным правом. Под прикрытием ликторов и служителей Веррес помчался домой.
На другой день он на суд не явился. Было объявлено, что подсудимый внезапно занемог (II, 1, 20).Не явились и его именитые покровители. Они сгорали от стыда, что их втянули в такую грязную историю. Цицерон же продолжал опрос свидетелей до самых игр Помпея.
Оратор ликовал. Он победил! Однако это был еще не конец. Такие важные дела в Риме проходили в две сессии. Если речь шла о гражданской смерти, собиралось два суда с разным составом присяжных. И только после осуждения вторым судом дело считалось завершенным. И Цицерон лихорадочно готовился ко второй сессии. Он был так окрылен успехом, что заявил – если новый суд во главе с новым претором и купленными консулами оправдает Верреса, он не смирится. Он воззовет к старинному, почти забытому закону, созовет весь римский народ и ему вручит судебные полномочия (II, 5, 151).С беззаконием он не примирится!
– Советую поэтому людям, намеревающимся показать на этом подсудимом свое могущество или… свою ловкость в подкупе судей… быть осторожными, помня, что им придется предстать в качестве подсудимых, причем их обвинителем буду я, а их судьей – римский народ (II, 5, 183).
Он открыто бросил вызов власти денег.
– Вот уже много лет, как мы равнодушно смотрим на переход всех богатств, которыми некогда владели народы, в руки немногих людей; это наше равнодушие еще ярче освещается развязностью хищников (II, 5, 126).
Однако все это оказалось ненужным. Случилось из ряда вон выходящее событие. Второй сессии не было. Впервые в истории Рима. Веррес признал себя виновным и удалился в изгнание до второго суда. Он не дождался вступления в должность ни купленных за такие деньги консулов, ни претора {28} .
* * *
Дело Верреса вознесло Цицерона до небес. Сицилийцы были в бурном восторге. Они не знали, как выразить признательность своему мужественному защитнику. Они непременно хотели осыпать его золотом и самыми дорогими подарками.
Древний римский закон запрещал оратору брать деньги за свое выступление. Наградой ему должны были стать благодарность и уважение сограждан. И я не сомневаюсь, что ораторы старого времени этого закона не нарушали. Выступали они с судебными речами нечасто. Двигали ими жажда славы, дружба или ненависть. Каждая речь была для них новой ступенью на лестнице почета. Иное дело Цицерон. Он выступал чуть ли не ежедневно. Мы видим из писем, что он всегда занят либо подготовкой дела, либо выступлением. Это для него была настоящая работа, причем работа очень тяжелая. Трудно представить, что он не получал за нее гонорара. Кроме того, мы знаем, что наш герой был очень небогат, когда появился в Риме. Далее его имущество постепенно растет. И к 50-м годам он предстает перед нами достаточно состоятельным человеком. Между тем у него не было родовых имений, он не занимался коммерцией, торговлей, спекуляциями. Ясно, что единственным источником дохода была для него его адвокатская практика. Поэтому несомненно, что он брал деньги за свои речи. Но на сей раз он решительно отказался от всех подарков. Вероятно, ему казалось бесчестным брать что-нибудь у и без того ограбленных людей. Кроме того, такой отказ придавал всему делу еще большее благородство и красоту. А к этому оратор всегда был очень чувствителен.
Итак, дело Верреса было закончено. Между тем Цицерон приготовил уже пять речей, которые собирался произнести во второй сессии. Теперь они были не нужны. Их можно было уничтожить, как мы уничтожаем черновики и старые счета. Но Цицерон поступил со своими речами иначе. Он их опубликовал. Иногда современные историки с недоумением спрашивают, зачем он это сделал. Некоторые как будто даже видят в этом чрезмерное себялюбие и хвастовство. Другие возражают, что Цицерон сражался не с отдельным лицом, а с принципом. Ведь и по сю пору имя «Веррес» стало синонимом бесчестного наместника.
Для меня сам этот вопрос представляется бессмысленным. Цицерон был писателем. Он написал чудесное, увлекательное произведение. А мы спрашиваем: зачем он его издал? И оратор даровал своему герою бессмертие. Прошло сто, двести лет. Имена современников Цицерона стали уже стираться из памяти. Люди забыли и тогдашних трибунов, и преторов. Но Верреса не забывали никогда. Он был для римлян таким же живым человеком, как для нас Собакевич или Ноздрев. Они зачитывались этим романом. Поколения римлян смеялись до слез, представляя себе Верреса на пляже, и плакали, читая о капитанах. Что же касается Гавия, римского гражданина, распятого на берегу моря, его ожидала удивительная судьба. Гомер говорит о погибших героях:
Боги назначили эту судьбу им и выпряли гибель
Людям, чтоб песнями стали они и для дальних потомков.
(Нот. Od., VIII, 579–580)
То есть страдания их преобразились в бессмертную красоту. Греческий миф рассказывает, что Ниоба, потеряв всех своих детей, превратилась в прекрасную статую. Она вечно стоит и льет слезы, а люди вечно плачут над ее горем и восхищаются ею. И им и больно, и сладостно. Нечто подобное в сознании римлян произошло с Гавием. Время остановилось. Сцена застыла. На берегу Сицилии у ласкового моря вечно стоял черный крест, умирающий вечно глядел с тоской на Италию, вечно слышались стоны и угрозы.








