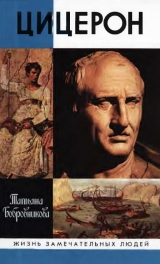
Текст книги "Цицерон"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
Божеством, которому поклонялись эти люди, ради которого они забывали мелочные заботы своего обыденного существования, была поэзия. И то была какая-то совершенно новая, особенная поэзия. До этого в Риме мэтром считался отец римской поэзии Энний, живший во времена Ганнибаловой войны. Писал он героические эпопеи и героические поэмы. Он отнюдь не был лишен таланта, но беда в том, что молодые поэты жаждали нежной и страстной лирики. Описание великих подвигов казалось им высокопарным и скучным, а тяжелый устаревший язык делал все писания Энния утомительными и нудными. Естественно, в поисках новых форм они обратились к греческим образцам.
В те времена в Греции в моду вошла совсем новая поэзия. Надо сказать, что центр поэзии переместился тогда в огромную космополитическую Александрию и процветал при дворе египетских Птолемеев. Создатели александрийских стихов были исправными чиновниками, галантными придворными, кабинетными учеными и менее всего поэтами, получавшими вдохновение свыше. Поэмы их были учены и очень искусны, стихи грациозны и изысканны, размеры оригинальны, слова отточены, мысли остроумны. И каждое такое маленькое стихотворение, отделанное и отшлифованное до блеска, превращалось в изящную безделушку, которая могла стать украшением великосветского салона или элегантного кабинета вельможи. Но и речи не могло быть о том, чтобы их поэмы «обходили моря и земли» и «глаголом жгли сердца людей».
Вот эти новые изящные стихи и увлекли наших поэтов. Но они взяли только внешнюю оболочку и вдохнули в нее всю страстную и мятежную душу римлян. И стихи ожили. В них воспевались не славные подвиги, а дружба, любовь, вино и веселые проказы. Вокруг их стихов сразу же возникли споры. Пожилые люди подняли их на смех. Они говорили, что темы их ничтожны, размеры вычурны. Зато среди молодежи появились страстные поклонники новой музы. Новых поэтов называли неотерики, то есть модернисты. Нужно сознаться, что и Цицерон не относился к поэзии неотериков серьезно. Он не понимал их, как Бунин не понимал символистов. Он оставался верен старику Эннию. Модернистов он не осуждал, а только иногда добродушно подсмеивался над ними. Зато его соперник Гортензий, любивший все модное и все новое, был в их кружке как дома.
Конечно, все друзья Катулла были влюблены. И на любовь они тоже смотрели по-новому. Им было все равно, кто их богиня – замужняя матрона или гетера, знатная дама или прачка. Любовь, считали они, освящает все. Они отвергали все условности света, и Катулл с вызовом говорил: «Будем жить и любить, а ропот угрюмых стариков будем ценить в один медный грош» (5).Разумеется, и сам Катулл был влюблен, и не раз. И любовь приносила ему всегда только радость. Он со смехом рассказывал о своих веселых приключениях молодым друзьям. Но вот однажды он увидал ту, которой дал имя Лесбия. Судьба его была решена. Он пропал сразу. Его посетила любовь, которая редко выпадает на долю смертного.
Первую встречу с ней он описывает так:
Верю, счастьем тот божеству подобен,
Тот, грешно ль сказать, божества счастливей,
Кто с тобой сидит и в глаза глядится,
Слушая сладкий
Смех из милых уст. Он меня, беднягу,
Свел совсем с ума. Лишь тебя увижу,
Лесбия, владеть я бессилен сердцем,
Рта не раскрою.
Бедный нем язык. А по жилам – пламень
Тонкою струею скользит. Звенящий
Гул гудит в ушах. Покрывает очи
Черная полночь… (51)
(В подлиннике эти стихи звучат особой, ни с чем не сравнимой музыкой.) Много мук, много пылких и страстных надежд испытал наш влюбленный. Довольно сказать, что Лесбия отнеслась к своему молодому воздыхателю более чем благосклонно. Однако тут появилась новая трудность. Почему-то им негде было встречаться (быть может, Катулл снимал такую хибару, что ему стыдно было пригласить туда свою богиню). Выручил его один верный, но легкомысленный друг. Он предоставил ему для тайных встреч свой старинный фамильный дом.
Аллий нам двери открыл к недоступному сладкому счастью,
Отдал нам милый свой дом, Мне подарил госпожу.
Там полнотой насладились мы страсти взаимной и ласки;
Легкой походкой туда радость входила моя.
Там на истертый порог белоснежные ноги вступали,
Шорох я слышал, дрожа, нежно обутой ноги (68).
Катулл был наверху блаженства. Сколько страстных и нежных стихов он посвятил ей! Все, что бы она ни делала, казалось ему прелестным, дивным, обворожительным. Смеялась ли она, играла ли с ручным воробьем, подставляя милый пальчик его яростным укусам, он был в восторге ( 2; 5).Глядя на свою возлюбленную, он говорил:
Она обездолила женщин.
Женские все волшебства соединила в себе (86).
Уже счастливый любовник с насмешливым презрением глядел на законного супруга. Уже мнил себя самым счастливым. Уже Лесбия сказала ему, что любит его одного, даже владыка богов Юпитер тщетно молил бы ее любви (83).«Жизнь моя, ты обещаешь, что наша нежная любовь продлится вечно. Боги великие, сделайте так, чтобы это исполнилось… чтобы через всю жизнь мы пронесли союз святой любви» (109).Замечательно, что эту свою любовь, любовь незаконную, он звал не связью – она была для него «союзом святой любви».
Увы! Молитва его не была услышана. Счастье продлилось недолго. Внезапно Катулл узнал злую весть: его подруга неверна. Удар был страшен. Он пришел в неистовую ярость, обрушил на нее вихрь проклятий и грубой брани. Разумеется, он вскоре пришел в себя, ужаснулся тому, что сделал, и упал к ее ногам в остром, мучительном раскаянии. В тоске он отрекается от своих слов.
Как, неужели ты веришь, что мог я позорящим словом
Ту оскорбить, что дороже жизни и глаз для меня?
Нет, не могу! Если бы мог, не любил так проклято и страшно (104).
Лесбия смилостивилась. Катулл склонен был считать все случившееся дурным сном. Казалось, снова вернулись прежние блаженные дни.
Лесбия снова со мной!
– —
О, как сверкает опять великолепная жизнь!
Кто из живущих счастливей меня? И чего еще мог бы
Я пожелать на земле? Сердце полно до краев! (107).
Но на сей раз блаженство минуло еще быстрее. Измены следовали одна за другой. Лесбия вела себя все развязнее, все грубее и бесцеремоннее. С ужасом глядел Катулл на это страшное падение. Часто она со своими новыми приятелями ездила кутить в один модный ресторан. Находился он в самом центре на Форуме возле храма Кастора. Среди этой компании выделялся один – ее последняя любовь. Звали его Эгнатий и родом он был из Кельтиберии, то есть Испании. Он не отличался ни умом, ни остроумием. Привлекательным в глазах Лесбии его делало другое – у него была очень красивая борода и, главное, совершенно поразительные, ослепительной белизны зубы. Его роскошная «голливудская» улыбка сражала наповал. Вот почему он улыбался всегда; даже на похоронах широкая улыбка не сходила с его лица (39).
Черное отчаяние владело Катуллом, когда он в тоске бродил в сумерках возле ярко освещенного ресторана, откуда доносился веселый смех его Лесбии. В ярости он сочинял такие строки:
Кабак презренный, вы, кабацкая
Свора.
– —
….Будет жечь над кабаком
Надпись,
Из яда скорпионов и моей
Злости.
Подружка милая из рук моих
Скрылась,
Любимой так другой уж не бывать
В мире.
– —
Теперь средь вас она, она лежит
С вами,
Вы все с ней тешитесь (постыдная
Правда!)
– —
Эй, слышишь, волосатый, коновод
Шайки,
Ты, кроличье отродье, кельтибер
Мерзкий,
Эгнатий! Чем гордишься? – бородой Клином?
Оскалом челюстей, что ты мочой
Моешь? (37).
Дело в том, что в Иберии разводили кроликов, почему Катулл и назвал ее «кроличьей» страной, а народы ее, еще будучи варварами, по рассказам путешественников, чистили зубы мочой.
Но Катулла терзала не только ревность. Ему нестерпима была мысль о падении его Лесбии.
…Лесбия, та, что самой жизни,
Милых всех для меня была дороже,
В переулках теперь и в подворотнях
Эта Лесбия тешит внуков Рема (58).
Он признается, что в нем по-прежнему бушует страсть, но он уже не может ее уважать ( 72).
Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может
Преданной дружбой, как я, Лесбия, был тебе друг.
Крепче, чем узы любви, что двоих нас когда-то вязали,
Не было в мире еще крепких и вяжущих уз.
Ныне ж расколото сердце. Шутя ты его расколола,
Лесбия! Страсть и печаль сердце разбили мое.
Другом тебе я не буду, хоть стала б ты скромною снова.
Но разлюбить не могу, будь хоть преступница ты! (87; 75).
Катулл был совершенно изнурен «этой несчастной, этой проклятой любовью»(97). Ум его мешается, он разбит, болен, измучен. Он на грани безумия и обращается к богам со страстной молитвой:
Если о детстве, о юности память, о радостях чистых
Смертному сладка, – когда ясною видит он жизнь,
Знает, что не был неверным, что клятвою лживой не клялся,
Имя святое богов не призывал на обман,
Знай, если так, то, наверное, в жизни счастливой и долгой
Ждет еще радость тебя, проданный подло Катулл!
Все, чем влюбленное сердце любимого словом и делом
Может обрадовать, все сделал ты, все ты сказал.
Все, что доверчиво отдал, поругано, попрано, сгибло!
Что же ты любишь еще? Что же болит твоя грудь?
Тратишься в чувстве напрасном, не можешь уйти и забыться.
Или на зло божеству хочешь несчастным ты быть?
Трудно оставить любовь, долголетней вскормленную страстью.
Трудно, и все же оставь, надо оставить, оставь!
В этом одном лишь спасенье. Себя победи! Перемучай!
Надо! Так делай скорей! Можно ль, нельзя ли, живи!
Боги великие! Если доступна вам жалость и если
Даже и в смерти самой помощь вы людям несли,
Сжальтесь теперь надо мною, за то, что я жил непорочно,
Вырвите эту напасть, ужас и яд из груди!
Вот уже смертная дрожь к утомленному крадется сердцу,
Радость, веселье и жизнь – все позабыто давно.
Я не о том уже ныне молюсь, чтоб она полюбила,
И не о том, чтоб была скромной, не может ведь, да!
Нет, о себе лишь прошу, чтоб здоровым мне стать и свободным!
Боги, спасите меня, вознаградите за все! (76)
Он не мог больше оставаться в Риме, где все напоминало ему прошлое. Он хочет бежать, скорее бежать на край света. Друзья выхлопотали ему возможность в свите претора ехать в Малую Азию. Уезжая, он просит передать своей милой несколько последних слов. Пусть будет счастлива со своими любовниками; пусть обнимает сразу хоть по сто человек, никого не любя по-настоящему.
Только о моей пусть любви забудет!
По ее вине иссушилось сердце,
Как степной цветок, проходящим плугом
Тронутый на смерть (II).
** *
Так грустно кончился роман Катулла. Но кто была эта Лесбия, которая сломала его жизнь? Поздние латинские писатели раскрыли нам эту тайну, скрывать которую дольше не имело смысла. Под именем Лесбия, говорят они, Катулл описал одну знатную даму, некую Клодию. Эту женщину мы хорошо знаем, даже слишком хорошо. Она стала притчей во языцех тогдашнего Рима.
Происходила она из знатного патрицианского рода Клавдиев. Эти Клавдии имели в древности недобрую славу. Их называли жестокими, буйными, надменными патрициями, бесконечно презирающими народ; страстными, безумно честолюбивыми, вспыльчивыми, рабами своих страстей. Во времена борьбы патрициев с плебеями они с бешеной злобой нападали на народ. Некоторые из них даже избивали народных трибунов, особ священных и неприкосновенных. Об их нраве в Риме ходило множество рассказов. В середине V века римляне решили составить первые письменные законы и вручили для этого полномочия комиссии децемвиров, но те захватили власть и превратились в тиранов. Особенно жесток и надменен был глава децемвиров Аппий Клавдий. Но погубили его, как гласит предание, собственные необузданные страсти. Он безумно влюбился в плебейскую девушку и силой хотел увести ее к себе. Тогда отец, чтобы спасти дочь от бесчестия, заколол ее. Возмущенный плебс сверг власть децемвиров. Аппий Клавдий покончил с собой. Во времена Пунических войн другой Клавдий, командовавший флотом, узнав от жреца, что священные птицы дают неблагоприятные знамения, в ярости бросил клетку с ними за борт. Он дал сражение, проиграл и погубил много народу. Несколько лет спустя его сестра, «с трудом пробираясь в повозке через густую толпу, громко пожелала, чтобы ее брат Пульхр воскрес и снова погубил флот, и этим поубавил бы в Риме народу» (Сiс. De nat. deor., II, 7–8; Suet. Tib., 2, 2–4).Сказанного, я полагаю, довольно, чтобы представить характер Клавдиев, удивительно неизменный и постоянный на всем протяжении римской истории. Вдобавок, говорят, они привыкли издеваться над обычаями, законами и установлениями предков. Последней представительницей этого старинного рода как раз и была Клавдия или Клодия, как она себя называла. Клодия – это простонародная форма произношения ее имени. Дело в том, что все члены их семьи были ярыми демократами. Клодия жила в богатстве и роскоши. Ее муж Метелл Целер был знатным римским вельможей.
Однажды, в недобрый час, герой наш впервые переступил порог дома Метелла Целера и увидел Клодию. Может быть, это случилось в то самое время, когда Катулл наслаждался счастьем со своей Лесбией в доме Аллия {43} . Несколько лет спустя Цицерон так описывает характер этой женщины.
Она появлялась на улице, окруженная стайкой своих поклонников. Ее наряд, ее манеры, бесцеремонная свобода ее речи, даже сама походка сразу привлекали к ней внимание. У нее всегда совершенно открыто были любовники. Порой она прямо на улице подходила к понравившемуся ей мужчине, приглашала к себе, иногда даже целовала. Дом ее всегда был полон почти незнакомых ей мужчин. Вместе они устраивали пышные пиры и шумные оргии. У нее были тенистые сады на берегу Тибра, которые пользовались славой прямо-таки какого-то мусульманского эдема или сада наслаждений. Сады эти раскинулись над самой рекой, и, отдыхая тут в часы полуденного зноя, Клодия наблюдала, как купается римская молодежь. Она любовалась их обнаженными телами и выбирала себе самого красивого. Кроме садов было у нее еще одно любимое место отдыха – модный морской курорт Байи на юге Италии близ Неаполя. Место это славилось мягким климатом, кроме того здесь были горячие воды. Поэтому сюда давно уже возили больных и расслабленных. Но теперь курорт облюбовала золотая молодежь. Здесь на берегу завязывались бурные романы. Одна шуточная эпиграмма рассказывает, будто однажды байские нимфы увидели самого Купидона, который сладко спал на берегу. Вспомнив, сколько обид они претерпели от шаловливого бога, они решили его обезоружить. Они схватили факел, которым он зажигает страсть, и бросили его в воду. Увы! Волшебный огонь не погас, но байские воды стали горячими и приобрели магическое свойство – каждый, кто искупается в них, немедленно влюбляется. Вот сюда-то и приезжала Клодия с очередным любовником. Больные старики, лечившиеся в Байях, с негодованием говорили, что она вовсе забывала там стыд – лежала на пляже в обнимку со своим приятелем и делала еще много такого, о чем скромность мешает им говорить (Сiс. Cael, 34; 38; 27; 35; 49).
Правда, так жила Клодия уже после смерти мужа (59 год). Но не думаю, чтобы этот бедняга сильно мешал жене. Кроме того, он постоянно уезжал из Рима по делам службы. В результате за Клодией в Риме утвердилось не поэтическое имя Лесбия, а гораздо менее романтическое прозвище Квадрантария, Трехгрошовая (так звали в Риме самых дешевых проституток). Ее, говорит Плутарх, прозвали так после того, как «кто-то из ее любовников, насыпав в кошелек медных монет, прислал ей их вместо серебра» ( Plut. Cic., 29; Quintil, VIII, 6, 53).Впрочем, Клодия не обирала любовников. Напротив. Часто брала на содержание юношей, у которых были чересчур строгие отцы.
Цицерон познакомился с супругами. Муж Клодии, Метелл, был важный, нестерпимо надутый вельможа, который все время твердил о достоинствах своей семьи. Катулл назвал его мулом. Цицерон же пишет о нем так: «Метелл не человек, а камень, кусок меди, совершеннейшая пустота» (Att., 1, 18, 1).Жена Метелла произвела на оратора гораздо более приятное впечатление. Из стихов Катулла мы знаем, что она была жива и грациозна, у нее были красивые ноги, изящные руки с длинными пальцами, белая кожа, жаркие губы и черные глаза. Речь ее отличалась живостью и остроумием. Это была женщина с огоньком, с «крупинкой соли», как говорит Катулл. Цицерона больше всего поразили ее глаза – темные и блестящие. Даже много лет спустя, когда все было кончено и между ними встала ненависть, он часто вспоминал ее «сияющие глаза» (Cael, 49; Наr., 38).Сейчас же он был так очарован, что дал ей прозвище Боопида – Волоокая. Так Гомер называет Геру, царицу Олимпа. И он ей понравился, очень понравился. Он был умен, талантлив, остроумен, умел говорить увлекательно и интересно, умел к месту сказать изысканный комплимент, а главное, так знаменит! Лучший оратор Рима, король судов! Понравилось и имя Волоокая, оно звучало не хуже, чем Лесбия. Правда, Цицерон держался каких-то старомодных, отсталых взглядов, ценил скромность, добродетели, обожал семейную жизнь. Но тем заманчивее казалось покорить этого человека и приковать к своей триумфальной колеснице.
Клодия решила поймать оратора в свои сети. Вскоре они стали друзьями, и очень близкими друзьями. Цицерон теперь предпочитал общаться с ее спесивой родней только через нее ( Fam., V, 2, 6).Оказалось, что эта светская львица вовсе не равнодушна к политике. Она была ярой демократкой, но в угоду Цицерону стала обуздывать своих не в меру ретивых родичей. Итак, между ними была самая тесная дружба. Но, зная Клодию, трудно сомневаться, что за словом «дружба» скрывается иное, более пылкое чувство. Притом оно зашло дальше, чем хотелось бы показать Цицерону и его высоконравственным биографам. Есть даже некоторые указания на то, что они были вместе в Байях и ночью при луне катались в лодке под звуки музыки {44} . И вдруг Клодия, эта львица и обольстительница, по уши влюбилась в Цицерона. Она не довольствовалась уже романом, она решила женить на себе оратора. Взялась она за дело со всей страстью и энергией, ей свойственными. Ее агенты то и дело курсировали между ней и Цицероном. Она пустила в ход письма, общих знакомых. Словом, интриговала вовсю (Plut. Cic., 29).Но мечта ее была утопией. Цицерон страстно любил семью. Мог ли он осиротить своего маленького сына или бросить тень на репутацию обожаемой дочери? Нет, конечно. Никогда.
И тут случилось самое страшное – обо всем узнала Теренция. Над головой бедного Цицерона разразилась такая буря, что злые языки объясняли буквально все дальнейшие действия нашего героя желанием умилостивить грозную супругу. Позже он пишет Аттику: «Я не буду рассказывать о колючках и острых камушках своей семейной жизни. Я не могу доверить это письму и неизвестному мне посланцу» (Att., I, 18, 2).Не тот ли злосчастный роман причина этих «колючек и острых камушков»? Теренция, как оказалось, обладала хитростью и мудростью великого стратега. Другая женщина, может быть, довольствовалась бы несколькими скандалами. Но Теренция на этом не остановилась. Она решила во что бы то ни стало рассорить мужа с Клодией. И она в этом преуспела. Что-то она такое сделала или сказала, что он преисполнился вдруг глубочайшего отвращения к Волоокой. Летом 60 года, то есть в том самом году, когда он говорил о «колючках и камушках», он упоминает в письме Аттику о Клодии. И тут же вдруг восклицает: «Я ее ненавижу!» (Att., II, 1, 5).Мы увидим, что впоследствии у Цицерона было очень много причин ненавидеть и Клодию, и всю ее семью. Но это было позже. А тогда? За что было Цицерону столь страстно ее ненавидеть?
Я вижу этому одно объяснение. Теренция с женским искусством и женской хитростью раскрыла мужу глаза на отношения Клодии и… Клодия. Публий Клодий Пульхр был младшим братом Волоокой. То был нежный красавец с девичьим лицом, порочный и склонный к безобразным извращениям. Цицерон, обожавший давать знакомым разные прозвища, окрестил его Красавчиком. Со старшей сестрой его связывала самая горячая любовь. Но римляне были уверены, что это была не совсем братская любовь. И вот Теренция привела мужу какие-то очень убедительные тому доказательства. Почему я так думаю? Потому что и в речах, и в частных письмах он постоянно возвращается к теме инцеста; потому что слова его дышат отвращением и болью. Иногда кажется, что это прямо-таки его больное место. Он, например, рассказывает Аттику, что повстречал на улице Клодия и между ними завязался совершенно незначительный разговор о будущих играх. При этом Клодий вскользь упомянул о сестре. Но только он сказал «сестра», как Цицерон вдруг с необъяснимым гневом и с неслыханной резкостью бросил ему в глаза обвинение в связи с ней. Все это было так неожиданно, так странно, что Цицерон сознает, что Аттик будет поражен, читая об этом. «Ты скажешь, консуляру не к лицу такие слова. Согласен. Но я ее ненавижу» ( Ап., II, 1, 5).Вот, значит, по какому поводу он говорит о своей ненависти! И еще замечательный факт. В то время они с Клодием были уже врагами и Цицерон вполне мог бы бросить ему позорящий упрек, чтобы запятнать его политическую репутацию. Это в Риме было так же принято, как и сейчас. Но Цицерон прибавляет «я ее ненавижу»; ее,а не его.
Итак, Цицерон порвал с Волоокой. Это было с его стороны неосторожно. Под внешностью, полной ветреной грации, Клодия таила необузданное страстное сердце. Один любовник назвал ее Клитемнестрой, сам Цицерон – Медеей Палатинских садов (Quintil, VII, 6, 53; Cic. Cael, 19). Клитемнестра, властная и жестокая супруга Агамемнона, полюбив Эгисфа, своей рукой зарезала мужа на пиру. Медея же, узнав, что муж задумал жениться на другой, в припадке безумной ревности убила и соперницу, и ее отца, и собственных детей. Вот какой была, оказывается, в глазах друзей эта грациозная Клодия! Когда умер ее муж – а умирал он тяжело, в бреду, – все были убеждены, что она отравила его. Видно, в ней бушевала дикая кровь Клавдиев.
Но что самое удивительное. Эта легкомысленная женщина, которая меняла любовников как перчатки и которой в пору было спеть арию «У любви, как у пташки, крылья», оказывается, сама была ревнива до безумия. Когда однажды любовник бросил ее первым, Боже, что тут было! Она подняла на ноги всех своих друзей, объединила всех его врагов, натравила на него все силы, собрала против него множество ложных обвинений и привлекла к суду. Она бурлила яростью, она не могла успокоиться, пока не изгонит его, разорит, опозорит, сотрет с лица земли. Теперь вся ее злоба обрушилась на Цицерона.
Сначала она, видимо, пыталась его вернуть. Цицерон выдержал целый шквал упреков и обвинений. В том же письме он говорит Аттику: «Она скандальна и ведет войну с мужем, причем не с одним Метеллом». Мы уже видели, что в этом пункте Цицерон не вполне откровенен с Аттиком. Вот и сейчас он явно лукавит. «Она воюет с мужем». Но что за дело Цицерону до ее мужа? Да вряд ли он и присутствовал при их семейных ссорах. Ключ к разгадке дают слова «причем не с одним Метеллом». Скорее всего, скандалы устраивались не столько Метеллу, сколько Цицерону. Когда же она поняла, что все тщетно, тогда она решила мстить. А как тяжела была ее месть, это Цицерону вскоре предстояло узнать.
Как раз в этот трудный для Цицерона момент в столице разразился один возмутительный и безобразный скандал. Был в Риме очень древний, овеянный легендами религиозный праздник – священнодействие в честь Доброй Богини. Праздник этот справляли одни только женщины, и считалось, что те таинственные обряды, которые они совершают, обеспечивают существование Рима. Ни один мужчина не смел даже близко подойти к месту, где собирались молящиеся, – один взгляд на них, малейший звук, который могло бы случайно уловить мужское ухо, почитались величайшим кощунством и оскорблением богини. Вот почему издревле повелось, что женщины собирались ночью в доме консула или претора. Хозяин и все его соседи до утра уезжали, и женщины оставались полными хозяйками в доме. В декабре 62 года римлянки собрались в доме Цезаря, тогда бывшего претором, у его молодой жены. Ночью произошло нечто невероятное.
Дом был уже полон, и тут несколько женщин заметили незнакомку. Она стояла в темном углу и куталась в густое покрывало. Они окликнули ее и пригласили принять участие в таинствах. Но незнакомка молчала. Они подошли ближе и еще раз настойчиво пригласили ее, и тогда наконец она раскрыла рот и что-то сказала… О, ужас! Это был мужской голос. Можно себе представить, что тут началось. Женщины дико завизжали. На их вопли сбежались остальные с факелами в руках. «Незнакомка» бросилась наутек. Все кинулись за ней, визжа и размахивая факелами. Наконец в какой-то темной комнате они «ее» потеряли. Однако во время бегства покрывало сползло с «ее» лица и все узнали Клодия.
Наутро весь Рим только и говорил о ночном происшествии. Тут сообразили все обстоятельства. Вспомнили, что молоденькая и хорошенькая жена Цезаря вовсе не любила своего мужа. Все знали, что у нее роман с Клодием. Вернее всего, в прошлую ночь он явился к ней на свидание. Выяснилось, что и спасла Клодия доверенная служанка хозяйки дома – она спрятала его, а потом тихонько вывела из дома. Служанка эта и прежде была посредницей между ними. Кроме того, Цезарь, узнав о случившемся, немедленно послал жене разводное письмо (Att., I, 13, 3).Клодия привлекли к суду по обвинению в кощунстве.
Клодий струсил. Он заявил, что все это ложь – его не было в доме Цезаря ночью, его вообще тогда не было в Риме. Он на все время праздника уехал в далекую деревню. И тут Цицерон, вызванный в качестве свидетеля, неожиданно заявил, что Клодий в тот вечер заходил к нему и засиделся допоздна. Значит, Клодий был в Риме и алиби его рушилось. Злые языки по этому поводу говорили, что Цицерон, конечно, не солгал – Клодий действительно был в Риме и действительно к нему заходил, но Цицерон дал свои показания «не из любви к истине, а желая оправдаться перед Теренцией» и доказать ей, что его роман с сестрой обвиняемого окончен (Plut. Cic., 29).Однако городские сплетники ошибались. Цицерон был потрясен всем случившимся. Сразу же после роковой ночи он пишет Аттику: «Я думаю, ты уже знаешь, что Публия Клодия застали в женском платье в доме Гая Цезаря, когда совершались моленья за народ… Это такая гнусность. Уверен, что ты очень огорчен» (Att., I, 16, 3). Цицерон никогда не был особенно набожен, но, очевидно, в поступке Клодия было нечто, глубоко оскорблявшее каждого римлянина. Как если бы у нас во время великого праздника кто-нибудь плюнул на образ Богоматери. Нечто подобное есть в «Бесах» Достоевского. Там описано, как бесы революции постепенно овладевают небольшим провинциальным городом. Чуть ли не каждый день происходят скандалы и кощунства. Все это необходимо «для систематического потрясения всех основ, систематического разложения общества и всех его начал; для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта». Так, «в одно утро пронеслась весть об одном безобразном и возмутительном кощунстве. При входе на нашу огромную рыночную площадь находится ветхая церковь Рождества Богородицы, составляющая замечательную древность в нашем древнем городе. У врат ограды издавна помещалась большая икона Богоматери… И вот икона была в одну ночь ограблена… Но главное было то, что кроме кражи совершено было бессмысленное и глумливое кощунство: за разбитым стеклом иконы нашли, говорят, утром живую мышь».
Трудно отделаться от мысли, что и в Риме было нечто подобное. Поэтому в глазах современников поступок Клодия был не галантным грешком, не невинной шалостью, а именно «бессмысленным и глумливым кощунством». В самом деле. Я не могу поверить, чтобы при той свободе, которой пользовались римские женщины, Клодий не нашел случая увидеться со своей красавицей иначе, как на таинствах богини. Право, можно подумать, что речь идет о том, чтобы проникнуть в гарем какого-нибудь турецкого паши!
Суд над Клодием состоялся в мае 61 года. Улики были столь тяжки, доказательства так очевидны, свидетели так уважаемы, что никто не сомневался, что он будет осужден. Многие считали, что обвиняемый до окончания суда удалится в изгнание. Однако исход суда всех поразил – Клодия оправдали! Люди, находившиеся на чужбине, засыпали Цицерона вопросами, спрашивая, что произошло. Предоставим слово нашему герою. «Ты спрашиваешь, почему его оправдали? Причина – бедность и подлость судей». Путем ловких махинаций удалось подобрать замечательный состав присяжных. «Никогда, даже для игры в кости, не собиралось еще такой сволочи… Все же туда попало несколько честных людей… Они сидели среди этой чуждой им компании унылые, расстроенные и глубоко страдали от соприкосновения с подлостью». Два дня шла закулисная игра. Привозили полные кошельки денег, и они рекой лились в пустые карманы судей. Мало того. «Даже ночи некоторых женщин – благие боги! Какой позор! – …служили приплатой кое-кому из судей (трудно сомневаться в том, какие женщины пожертвовали собой ради Клодия. – Т. Б.)».Судей было 56. Несмотря на все соблазны, 25 из них остались верны присяге. «Но для 31 судьи голод оказался важнее позора». Таким образом, Клодий был оправдан перевесом в шесть голосов.
Когда результаты были оглашены, присутствующие онемели от возмущения. Поднялся ропот. Надо сказать, что накануне «славные столпы юстиции» вдруг стали вопить, что боятся беспорядков и поэтому просят, чтобы назавтра после приговора им обеспечили охрану. И вот сейчас один из сенаторов сказал:
– Так вот почему вы требовали охраны! Вы боялись, что у вас отнимут деньги.
Сенаторы сидели понурив головы. Они были совершенно подавлены этим позорным судом. «И тут на меня нашло божественное вдохновение, – продолжает Цицерон, – и я сказал:
– Отцы сенаторы, не надо так падать духом от одного удара… Дважды был оправдан Лентул, дважды Катилина, это уже третий, кого судьи выпускают на государство… Поэтому, отцы-сенаторы, будьте бодрее».
Немедленно вскочил Клодий и набросился на Цицерона. Между ними произошла короткая словесная дуэль.
Клодий:
– Ты был в Байях!
Цицерон:
– Наверно, ты хотел сказать – в священном месте?
Клодий:
– Ты купил дом! (Намек на слишком дорогой для Цицерон палатинский дом. – Т. Б.)
Цицерон:
– Но не судей.
Клодий:
– Твоей клятве не поверили! (Имеется в виду показание Цицерона как свидетеля под присягой. – Т. Б.)
Цицерон:
– Мне поверили 25 судей, а 31 судья не поверил тебе ни в чем, потому что деньги потребовали вперед.
«Под громкие крики он умолк».
Но настроение самого Цицерона, несмотря на его бодрые слова, было далеко не радостным. Он пишет Аттику: «Ты спрашиваешь в заключение, каково положение государства и мое собственное. Знай, что если какой-нибудь бог над нами не сжалится, то погибла та стабильность, которая была достигнута, как ты полагал, моей предусмотрительностью, я же думаю – промыслом божьим… Все погибло из-за одного этого суда. Если только называть судом тридцать человек, самых скверных, самых дрянных из римлян, которые за деньги разрушают все законы божеские и человеческие. И вот Тальна, Плавт, Спонгий (имена присяжных. – Т. Б.)и другие такие же подонки объявляют, что никогда не было того, что известно не только всем людям, но даже скотине» (Аtt., I, 16).








