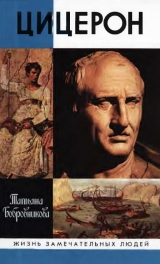
Текст книги "Цицерон"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
И потом. Разве не отвратительно, разве не позорно, что отцы и деды веками копили земли, завоевывали их пядь за пядью, чтобы оставить потомкам, и вдруг является этот бойкий Рулл и с истинно демократической широтой пускает все с молотка! Тут Цицерон вспомнил и великолепно обыграл одно небольшое обстоятельство. Оказывается, наш доблестный демократ уже спустил дотла отцовское наследство. Почему бы теперь не спустить и наследство Рима?
– Вы увидите, как этот бесшабашный кутила переворачивает вверх дном все наше государство, как беззаботно растрачивает он оставленные нам предками владения, как он, промотав отцовское имущество, собирается теперь подвергнуть той же участи достояние народа (Ibid., I, 2).
Хорошо. Пойдем дальше. Вот наши законодатели продали земли всего мира. Какие же наделы они собираются купить? Ведь в Италии почва разная: есть плодородный юг, есть суровый север, есть болота, есть каменистые равнины, а есть прекрасный чернозем. Так где же они купят земли: в плодородной Кампании или бесплодной Апулии? У тебя столько денег, продолжал он, обращаясь к Руллу, что ты можешь скупить все – оптом и в розницу. Почему же ты не определяешь этой земли?
– Я и определяю, – угрюмо отвечал Рулл, – это будет земля в Италии.
– Замечательно точное определение, – резюмировал Цицерон.
И тут Рулл, окончательно запутавшийся, угодил, наконец, в расставленную ловушку.
– Мы этого не знаем, – заявил он, – мы купим только те земли, которые согласятся продать собственники.
– Прекрасно! – воскликнул консул. – Но позвольте спросить вас, а что, если вы не найдете охотников продавать свои земли? Что будет тогда с деньгами? Возвращать их в казну закон запрещает, требовать их с вас не дозволяет; итак, все деньги останутся у децемвиров (Ibid., II, 67–72).
Затем он повернулся к остальным трибунам, окружавшим Рулла, и дрогнувшим голосом произнес:
– Но вы, трибуны, ради бессмертных богов! Опомнитесь… Много в нашем государстве скрытых ран… Вне его границ все спокойно, нет царя, нет народа, нет племени, которого бы нам следовало опасаться, нет: наше зло – зло внутреннее… Наш долг… содействовать его излечению. Нельзя же в самом деле делать карьеру на гибели собственной родины. Если же кто из вас надеется, что поднятый им в государстве ветер быстрее погонит челн его честолюбия, то пусть он проникнется убеждением, что, пока я буду консулом, его надежда несбыточна.
Речь Цицерона произвела сильное впечатление на слушателей. Сенат решительно выразил одобрение консулу. Но особенно потрясены были трибуны. Многие немедленно оставили мятежного товарища. А один, самый впечатлительный, даже заявил, что наложит вето на закон Рулла. Однако Цицерон, горячо одобрив благие намерения молодого человека, помощь его решительно отклонил. Он прекрасно понимал, что вмешательство трибуна вызовет бурю на Форуме. А этим не замедлит воспользоваться генеральный штаб, чтобы раздуть смуту. Нет. Нужно, чтобы народ сам по доброй воле отвернулся от закона.
Дело в том, что законы в Риме утверждал не сенат, а народное собрание. Значит, борьбу следовало перенести на Форум. Между тем выступать перед народом против аграрного закона казалось равносильным политическому самоубийству. Аграрные законы со времен Гракхов были неодолимым орудием демократии. Всем памятно было, как знаменитый Сципион Эмилиан, любимец народа, выступил против гракханского закона и чернь прервала его ревом и проклятиями [61]61
Об этом подробнее см. в моей книге: Бобровникова Т. А. Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена. М., 2001.
[Закрыть]. Поэтому при одном слове «аграрный закон» сенаторов буквально передергивало. Казалось, каждый, кто выступит против Рулла, неминуемо будет освистан, чуть ли не побит камнями. И если консул осмелится вступить в открытую борьбу с демократами, вся былая любовь к нему народа превратится в жгучую ненависть. Толпа, этот страшный зверь, которого он, казалось, приручил, обратится против него и растерзает. Вот почему должны были сильно изумиться многие, когда Цицерон, сокрушив перед отцами доводы Рулла, в заключение произнес следующее:
– Я окажу самое решительное сопротивление всей этой затее; я не допущу, чтобы эти люди в мой консулат привели в исполнение… свои губительные для нашего государства замыслы… Вот вам мой вызов: приглашаю вас на народную сходку; пусть сам римский народ нас рассудит (Agr., 1, 22–23; 26).
Последние слова он произнес, глядя прямо в лицо Руллу, который сидел на сенаторской скамье против него. Сказав это, консул закрыл заседание сената. А вскоре он появился на Форуме, где его уже с нетерпением ждали толпы народа. Разумеется, сенат явился на площадь в полном составе. Пришли и горячие противники реформы, и друзья консула, явился и Рулл со своей командой. И те и другие с напряженным вниманием ждали, что будет. Как отважится оратор приступить к роковой теме? Как сможет он преодолеть крики возмущения, вопли и свистки? Рулл со злорадством ждал этой минуты.
Между тем Цицерон поднялся на Ростры и с самым любезным видом стал благодарить народ за оказанную ему милость. Затем он прочувствованным голосом заявил, что никогда этого не забудет и отныне и до гроба он – демократ. Но демократ не такой, как все, нет – он демократ истинный. И он будет решительно бороться с демократами ложными. Слушатели-сенаторы затрепетали. Вот, вот, наконец, настала роковая минута. Сейчас на оратора обрушится бушующий поток общей ненависти!.. А Цицерон, казалось, не замечая всеобщего волнения, с самым ласковым и благодушным видом продолжал:
– Скажу искренне, квириты: аграрный закон, как таковой… я порицать не могу. Я помню, что двое славных, умных, безгранично преданных римской бедноте мужей, Тиберий и Гай Гракхи, отвели бедным гражданам наделы… земли… Я не принадлежу к тем консулам – их же большинство, – которые считают преступлением хвалить Гракхов; напротив, я признаю, что их дальновидными и мудрыми законами укреплены многие части нашего государства.
(Здесь необходимо небольшое замечание. Цицерон всегда считал Гракхов вредоноснейшими людьми. В трактате «О государстве» он даже сокрушается, что такому герою, как убийце Тиберия Гракха, Рим не воздвиг памятника.)
Итак, он всем сердцем любит Гракхов, продолжал Цицерон. Вот почему, узнав, что трибуны готовят какой-то аграрный закон, он пришел в восторг и немедленно предложил им свою помощь и содействие.
(Еще одно небольшое замечание. Цицерон с самого начала видел Рулла насквозь и считал прохвостом.)
Много раз, продолжает Цицерон, пытался он выведать у Рулла, в чем же заключается его закон. Но трибун всякий раз принимал таинственный и мрачный вид и значительно молчал. Вообще он сделался каким-то нестерпимо надутым и важным – надел тогу дедовского покроя, перестал даже бриться, оброс всклокоченной бородой, вид имел грозный и свирепый, так что каждому при одном взгляде на него становилось ясно – этот человек задумал нечто великое.
Цицерон просто сгорал от любопытства и с нетерпением ждал текста закона. Рулл вступил в должность. Через два дня он созвал народ на собрание [62]62
Трибун вступал в должность 10 декабря, а консул – 1 января.
[Закрыть], чтобы разъяснить наконец свои планы. «Все сходятся с величайшим напряжением. Начинается речь, речь длинная и с отличным подбором слов; один только недостаток усмотрел я в ней, именно тот, что во всей громадной толпе слушателей не было никого, кто бы мог понять, о чем собственно оратор говорит: но я не умею сказать, был ли у него при этом какой-нибудь умысел или ему просто нравилось такого рода красноречие. Все же наиболее сообразительные из публики стали подозревать, что он хочет сказать что-то о каком-то аграрном законе». Так ничего не поняв, Цицерон пошел домой. «Наконец… вывешивается самый текст закона. Тотчас же по моему приказанию отправляются к тому месту, где он был вывешен, одновременно несколько писцов и приносят мне копию».
Цицерон достиг своей цели – он заинтриговал слушателей. Увлеченные живым его рассказом римляне уже не замечали, что речь пошла об аграрном законе, возбуждавшем такой их восторг. Они слушали, боясь упустить хотя бы одно слово. «Клянусь вам, квириты, что я приступил к чтению и изучению этого закона с искренним намерением принять его под свою защиту… ибо ваш консул – демократ на деле, а не на словах… Но это желание было тщетным». Он с ужасом убедился, что под видом аграрного закона Риму преподносилось нечто страшное (Agr., II, 10–15; II, 65).
Теперь Цицерон, полностью овладев вниманием слушателей, стал разбирать закон пункт за пунктом, глава за главой. Доводы его были разительны, критика убийственной, доказательства математически четкими. Впрочем, справедливость требует сказать, что иногда он прибегал и к иного рода аргументам. Опытный адвокат, он привык выворачивать наизнанку показания свидетелей. И сейчас он ловил каждую ошибку, каждую оплошность противника и делал молниеносный выпад. Известно, какой язвой для Рима была праздная чернь, эта толпа, которая требовала хлеба и зрелищ и готова была продаваться любому политику. Сам Цицерон считал ее злейшей пагубой Рима. Когда несколько лет спустя обсуждался один закон, наш герой нашел его во многом разумным, ибо, как он выразился, «можно будет вычерпать городские подонки» (Att., 1, 19, 4).Вот почему Рулл, агитируя в сенате за аграрный закон, на свою беду сказал, что «выкачает» эту массу. Как он должен был теперь кусать губы и проклинать себя за эти неосторожные слова! Его ловкий противник тут же этим воспользовался. Его окружала сейчас та самая толпа, которую собирались «выкачать». И вот оратор с прекрасно разыгранным возмущением воскликнул:
– Можно подумать, что он говорит о какой-то грязной луже, а не о добрых, честных гражданах! (Agr., II, 70).
Квириты, которых собрались «выкачивать», разумеется, пришли в бешеное негодование.
Словом, по выражению самого Цицерона, то была не речь, а «меткий, сокрушительный удар» (Agr., II, 101).На глазах пораженных сенаторов произошло чудо. Народ, который бушевал и ревел при одном намеке на критику Рулла, теперь присмирел, замер у ног оратора и восторженно его слушал. Птицелов снова – в который раз! – зачаровал своим пением доверчивых пташек. «Кто в самом деле когда-либо выступал в пользу аграрного закона при таком сочувствии народа, при каком я произношу речь против него?» – говорит он (Ibid.).Теперь он мог играть на душах слушателей любую мелодию.
С самим же Руллом произошло то же, что со многими другими противниками Цицерона. Он потерял дар речи. Консул бросил ему в сенате перчатку. Сейчас они перед лицом всего Рима должны были скрестить шпаги. Но язык Рулла прилип к гортани, он стоял под шквалом ударов Цицерона и не мог произнести ни слова. Однако, когда Цицерон кончил, он опомнился. Он понял, что состязаться с консулом ему не под силу. Поэтому, вместо того чтобы принять его вызов, он созвал народную сходку и за спиной Цицерона обвинил его во всех смертных грехах, вплоть до того, что он сочувствует сулланцам. Народ был ошеломлен и не знал, что и думать. Но наш герой, не теряя ни минуты, снова созвал собрание. Он сразу заметил в народе перемену – его встретили каким-то зловещим молчанием, какими-то недобрыми взглядами. Казалось, Рулл мог торжествовать. Но Цицерон заговорил – и народ, как послушное стадо, снова побежал за ним. Он опять во всеуслышание бросил вызов Руллу и его команде:
– Народные трибуны поступили бы целесообразнее, квириты, если бы соблаговолили в моем присутствии высказать те изветы, которые развили вам без меня… Но так как они до сих пор уклонялись от открытого спора со мной, то я покорнейше прошу их пожаловать на мою сходку и хоть по повторному предложению явиться туда, куда они по моему первому зову прийти не пожелали (Сiс. Agr., III, 1–2; 16).
Но Рулл и на этот раз не осмелился поднять перчатку. Более того. Он даже не решился поставить свой закон на голосование. Цицерон, говорит Плутарх, «не только провалил законопроект, но и принудил трибунов отказаться от всех прочих планов – до такой степени подавило их его красноречие». Таково было «пленительное очарование» его речи, прибавляет он (Cic., 12–13).
Только что Рулл был сокрушен, как демократы уже наступали с другой стороны. И наступление их было самым неожиданным.
Дело заключалось в следующем. В 100 году в Риме подвизался народный трибун Апулей Сатурнин, вождь тогдашней демократии. Это был убийца и головорез, который со своей вооруженной шайкой терроризировал город. В конце концов, когда он убил другого, менее демократичного вождя Меммия, сенат потерял терпение и поставил консулу Марию ультиматум: он должен избавить город от Сатурнина. Ему даны были чрезвычайные полномочия. Марий сам был демократ, тяжело было ему идти против приятеля, но делать было нечего. Он объявил, что все, кто верен законам, должны прийти к нему с оружием в руках. Почти все граждане откликнулись на его зов. Сатурнин со своей бандой был осажден в Капитолии и вскоре схвачен. Пленника заперли в Курии, чтобы утром решить его участь. Думали; что Марий сумеет его вызволить. Но ночью толпа народа влезла на крышу Курии, разобрала ее и умертвила Сатурнина. Говорили, что возглавлял толпу некий Рабирий.
Все это были дела давно минувших дней. Прошло 37 лет, и дряхлый старик, которым стал теперь Рабирий, редко вспоминал о лихом подвиге юности. Но вдруг Лабиен, народный трибун и ярый демократ, привлек его к суду. Он объявил, что Сатурнин был трибуном, поэтому убийство его является кощунством. И потребовал для подсудимого не просто казни, а казни неслыханной – после публичного бичевания его должны были распять на кресте! Всем известно было, что Лабиен – всего только ретивый подручный Цезаря. Именно Цезарь стоял за обвинителем. Светоний пишет: «Он (Цезарь. – Т. Б.)даже нанял человека, который обвинил… Гая Рабирия». Мало того. Когда Цезарю показалось, что народ жалеет подсудимого, он сам вмешался в процесс и произнес против подсудимого страстную обвинительную речь ( Suet. Jul., 12).
Защищать Рабирия взялся Цицерон. Лабиен, пользуясь своей трибунской властью, дал ему всего полчаса времени. Но и за эти полчаса Цицерон сумел произнести речь. Он напомнил обстоятельства дела. Напомнил, что весь Рим обязан был встать под знамена диктатора. Показал, что нет никаких доказательств, что убил трибуна именно Рабирий, А теперь за давностью лет их уже не найти. Наконец он заговорил об ужасной казни. Она основана на каких-то древних забытых текстах, чуть ли не эпохи царей. В новое время она никогда и не применялась.
– Итак, Лабиен, кто же из нас демократ?.. Ты ли, приказывающий для казни граждан водрузить крест… или я… требующий очистить Форум римского народа от этих следов гнусной жестокости? Да, трибун, ты истинный демократ… Порциев закон избавил всех римских граждан от наказания розгами – этот сердобольный человек возвратил нам плеть; Порциев закон отнял у ликтора власть над свободными гражданами – демократ Лабиен передал их палачу… Ведь вот твои слова, приятные твоему ласковому демократическому сердцу: ступай, ликтор, свяжи ему руки… повесь его на несчастном древе… Слова, квириты, давно заглохшие в нашем государстве, похороненные во мраке древности, побежденные солнцем свободы ( Rab. Mai., 6; 11–12) {33} .
Видимо, Рабирия оправдали. И этот натиск был отбит Цицероном. Но торжествовать было рано, об отдыхе нечего было и думать. Новое могучее войско уже лезло на стены с другой стороны. Предстоял самый страшный бой.
* * *
Мы подходим сейчас к одной из самых мрачных и загадочных страниц римской истории. События, происшедшие тогда, послужили темой для множества романов ужасов, пьес, картин художников. Я имею в виду знаменитый заговор Катили ны.
Вторая битва – заговор Катилины
Жил в то время в Риме странный и страшный человек. Звали его Каталина. «Люций Сергий Каталина обладал огромной силой и духа и тела, но умом злым и испорченным. С юных лет ему любы были междоусобные войны, резня, грабежи и гражданские смуты; среди них провел он свою молодость. Тело его могло выносить голод, холод, бдения настолько, что этому трудно поверить. Дух же был дерзок, коварен, непостоянен; он в совершенстве владел искусством притворства и лицемерия. Жадный до чужого, промотавший свое, он пылал в огне страстей. Красноречия у него было довольно, благоразумия – очень мало. Опустошенная душа его вечно жаждала беспредельного, невероятного, слишком огромного» – так пишет Саллюстий (Cat, 5).
Уже из этих слов видно, что в глазах современников Каталина был какой-то демонической личностью – своего рода Люцифер, окруженный багровыми языками адского пламени. И действительно. Немного далее Саллюстий говорит, что он был враг богов и людей и любил зло ради зла (Cat, 15–16).Вокруг Катилины, словно черные тучи, громоздились и клубились самые мрачные слухи. Каталина умертвил свою жену; Каталина убил родного сына; Катилина растлил собственную дочь (Сiс. Cat. I, 14; Sail. Cat., 15; Plut, Cic., 11; Арр. B.C., II, 2).Его преступления носили какой-то непонятный чудовищный характер. Их нельзя было объяснить страстью к власти или наживе. Тут опять-таки была какая-то бесовщинка. Как говорили современники, всё, запрещенное богами и людьми, имело в его глазах особую прелесть. Разумеется, далеко не всё, что болтали о Катилине на римских улицах, было правдой. Но, когда дело касалось Катилины, люди охотно верили всему. Кажется, сам герой этих жутких историй вовсе не пытался опровергнуть городские слухи. Напротив. Он гордился сатанинским ореолом, которым окружила его молва, и охотно щеголял им.
Если бурную и радостную эпоху конца Ганнибаловой войны можно сравнить с Ранним Возрождением, то описываемое время напоминает Возрождение Позднее, XVI века. Буркхардт, крупнейший исследователь культуры Ренессанса, утверждает, что тогда подобные личности не были редкостью. «В этой стране, где индивидуальное развивалось до высшей степени во всех направлениях, появляются и абсолютные изверги, которые идут на преступление не ради достижения цели… но ради самого преступления; к которым неприменимы никакие психологические нормы… К фигурам такого рода следует, видимо, отнести… например… Вернера фон Урслингена, серебряный панцирь которого украшал девиз: «Враг Бога, правосудия и милосердия»». Другой, Сиджимондо Малетеста, был буквально одержим «страстью ко злу как таковому». Он совершал убийства и клятвопреступления без всякой необходимости. На его совести были многочисленные кровосмешения, даже инцест с собственной дочерью. Буркхардт отмечает, что все эти люди яростно ненавидели христианскую религию. Один из них, например, пришел в такую ярость, увидев молящихся монахов, что велел сбросить их с башни. «Именно отсюда происходит тот странный зловещий свет, в мерцании которого являются нам эти личности» {34} .
В эпоху Возрождения подобные люди обыкновенно продавали душу дьяволу, совершали черные мессы с человеческими жертвоприношениями и ритуальным каннибализмом. Иногда приходится читать о таких сценах. Враги осаждают какой-нибудь город, вот-вот они ворвутся в ворота, защитники тщетно призывают правителя, а тот, запершись в башне, творит заклинания и вызывает своего сеньора Сатану. Совершенно то же передавали римляне про своего Каталину. Он соблазнил весталку – то есть совершил чудовищное кощунство с точки зрения римской религии. Считали, что этим он хотел посмеяться над верой отцов. Глухой ночью он созвал друзей и, «смешав человеческую кровь с вином, разлил в чаши, и все после торжественного заклятия, как в священных обрядах, пригубили напиток» (Sail. Cat., 15).Речь здесь идет не об обычном убийстве и тем более не об обычном людоедстве – возможно, хозяин и гости совершали ритуал какой-то демонической религии Востока, адептом которой был Каталина. У меня нет никаких сомнений в том, что уже в 1 веке в Риме существовало несколько тайных обществ, поклонявшихся силам зла, наподобие сатанинских сект Европы. Цицерон говорит про одного цезарианца Ватиния, что он официально называл себя пифагорейцем, но на самом деле лишь прикрывал именем великого философа «чудовищные и варварские обычаи». Он тайно совершает «неслыханные и нечестивые священнодействия» и приносит подземным духам – то есть духам тьмы – в жертву детей. В то же время он открыто презирает римскую религию и те обряды, «с помощью которых основан наш город, которыми держится Республика и держава» (Сiс. Vatin., 6).Гораций же выводит трех ведьм, которые убивают ребенка, чтобы изготовить волшебный напиток (Ноr. Epod., V).Напомню, что все последователи дьявола в Европе приносили в жертву именно детей. Каталина, возможно, был тут первой ласточкой.
Римляне были убеждены, что такого страшного преступника непременно должны терзать муки совести. Саллюстий, передавая городские слухи, пишет: «Нечистый дух, враждебный богам и людям, ни днем ни ночью не знал покоя – совесть опустошала его истерзанный мозг» (Sail. Cat., 15).Во внешнем облике его видели следы этих непрерывных мучений. Когда он появлялся на людях очень бледным и усталым, никто не думал, что это следы бурно проведенной ночи. Все качали головой, указывали друг другу глазами на Каталину и со вздохом шептали: «Совесть!» Саллюстию он запомнился таким: «Бескровное лицо, зловещий взгляд, походка то стремительная, то медлительная, на лице печать безумия» (Sail. Cat., 15).А Цицерон называл его «истощенным и истерзанным» разбойником (Сiс. Cat., II, 24).И эти слухи придавали отверженному еще дополнительный романтический ореол.
Этот таинственный человек и его таинственный дом как магнитом влекли к себе молодежь. Современники считали, что дом Каталины представлял собой очень усовершенствованную и оборудованную мастерскую, где перековывали сердца юношей и превращали их в адептов зла. Если неосторожный подросток переступал порог этого рокового дома, родители могли поставить на нем крест. «Кто может похвастаться таким умением совращать юношей, каким обладал он», – говорит Цицерон (Cat., II, 7).Это совращение Каталина превратил в утонченное искусство. Он был настоящим хамелеоном и удивительно умел подольститься ко всякому. «Поражала его способность изменять повадку… принимать то одно, то другое обличье: с угрюмым держаться сурово, с общительным – приветливо, со стариками – степенно, с молодежью – радушно, дивить удалью разбойников и ненасытностью развратников» (Cic. Caei, 13).
Он встречал простодушного юнца с распростертыми объятиями. Вместо страшного чудовища, каким рисовала его молва, гость видел перед собой любезного, приветливого хозяина. Как он умел поговорить с мальчиком, войти во все его заботы! Вместо строгости, которой так часто отвечал на его признания отец, он видел такое понимание, такую ласку! Стоило юнцу заикнуться о мелком долге или проигрыше, который тяжелым камнем лежал на его совести, как радушный хозяин тотчас же вытаскивал кошелек. И все это без скучных нотаций, бесконечных нравоучений и жестоких упреков, какими непременно встретили бы его признание родители. Каталина находил в своем молодом друге все новые и новые таланты, почему-то до сих пор не замеченные родными. Нет, говорил он, его многообещающий друг отныне непременно должен бывать на его вечерах. И вот юноша с волнением отправлялся в сумерках на пир к Катилине. О, какое зрелище ему открывалось! Столы, уставленные с ослепительной роскошью, изысканнейшие закуски, редкие драгоценные вина, прелестные экстравагантные женщины и такое буйное, бесшабашное веселье, какое ему прежде и не снилось. Удивительно ли, что этот новый мир его ослеплял?
Здесь, в этом новом мире были совершенно иные понятия, чем в отцовском доме. Здесь смеялись над скучными добродетелями, в которых он был воспитан. В моде был элегантный порок. Почтение к родителям, скромность, честность, презрение к богатству – все это третировалось как забавные отжившие предрассудки. И вскоре новичок с головой погружался в эту безумную, увлекательную жизнь. Развлечения следовали за развлечениями, удовольствия за удовольствиями. Юноша, разумеется, вскоре влюблялся в одну из прелестных экстравагантных женщин. Но она была так окружена, рядом с ней было столько поклонников! Несчастный находился между отчаянием и надеждой. И он открывал сердце чуткому Катилине. Старший друг с энергией брался за дело, руководил новичком, разрабатывал план действий, покупал подарки для его дамы, устраивал свидания… Между тем юноша вскоре обнаруживал, что промотался до нитки и что хуже – весь в долгах. Он в неистовом отчаянии, ему один путь – головой в омут. Но и тут Катилина предлагал выход. Его молодому другу следовало пойти на небольшое нарушение закона – подделать подпись под важным документом или выступить с ложным свидетельским показанием. Это ведь сущие пустяки, а его молодая жизнь будет спасена… Конец ясен. Юнец запутывался все более и более. В результате он становился законченным преступником и послушным орудием Катилины (Cic. Cael., 12–14; Sail. Cat., 16).«Стоило неопытному юноше запутаться в растлевающих сетях твоей дружбы, и ты с кинжалом в руке звал его на путь злодейства, ты нес перед ним факел по тропинке порока», – говорил, обращаясь к Каталине, Цицерон (Cat. I, 13).
Все подобные люди в конце концов входили в клуб Катил ины. Здесь были разорившиеся моты, прячущиеся от закона; здесь были опытные шулеры. Но «эти милые нежные мальчики умеют не только любить и быть любимыми, не только петь и плясать, но и поражать кинжалом и отравлять ядом», – рассказывает Цицерон. Действительно, под рукой у Каталины всегда находились профессиональные убийцы и лжесвидетели. Он появлялся на улицах Рима, окруженный этой своей гвардией. Все это были молодые щеголи, одетые ультрамодно. «Они расхаживают, – говорит Цицерон, – гладко причесанные, напомаженные, одни – безбородые, другие – с изящной бородкой». Такая маленькая бородка была в то время в Риме последним писком моды. Кроме бородок в моду вошли широкие просторные тоги. И вот друзья Каталины, по словам Цицерона, выходили на прогулку, завернутые в целые паруса (Cat., II, 5; 22–23).
Эти люди поклонялись одному божеству – деньгам. Обывателям шайка Каталины внушала ужас. Шепотом рассказывали, что, когда Каталина обнаруживает, что его кошелек пуст, он вместе с членами своего клуба выходит на ночную охоту. В глухих переулках они подстерегают неосторожных прохожих, которые допоздна засиделись в гостях. Они убивают их и грабят. Другие кивали и прибавляли – да, действительно Каталина режет ночью людей, но делает это не от нужды, а скорее из спортивного интереса, чтобы он и его друзья не дисквалифицировались (Sail. Cat., 16).
И вот этот самый Катилина задумал поднять в Италии восстание и временем его осуществления назначил 63 год.
Саллюстий пишет: «После тирании Суллы им овладела безумная жажда власти – а каким образом он станет царем, ему было безразлично» (Sail. Cat., 5).Однако со смерти Суллы прошло уже 15 лет. Быть может, все эти годы Катилина и мечтал о неограниченной власти, но мечты эти оставались мечтами. Что же заставило его действовать сейчас, почему он выбрал именно роковой 63 год? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам надо изучить прошлое Каталины и, насколько возможно, разогнать романтический туман, которым окружила его городская легенда.
Катилина происходил из знатного рода. Но отец его разорился. Детство он провел в нищете, а сестра, которая должна была заменить ему мать, не обращала на него внимания, неумеренно предаваясь разврату. Так прошло его детство. Ему было 18 лет, когда грянула революция. Он почувствовал себя в своей стихии и с восторгом окунулся в ее кровавые воды. Он пошел за Суллой, сделался близок к самому диктатору. В те годы он прославился большой свирепостью. С торжеством потрясающий только что собственноручно отрубленной им головой врага Суллы, весь в крови, которая капает с его пальцев, – таким запомнился Каталина Риму. Тогда же он убил брата, который стоял между ним и наследством, и зятя, тихого, кроткого человека, далекого от политики ( Q.Cic. Comm, pet., 9—11).
Революция дала Катилине власть и деньги. То была та веселая, разгульная жизнь, о которой он всегда мечтал. Но вот революция кончилась и он остался не у дел. Катилина не привык беречь деньги, и они проскочили у него между пальцев. Однако он не мог отказаться от привычного широкого образа жизни. И он влез в долги. Долги – это вроде трясины, чем больше стараешься вылезти из нее, тем глубже увязаешь. Вскоре Катилина был по рукам и ногам опутан кредиторами. Несчастья преследовали его. Ему удалось получить пост наместника Африки. Ограбив эту провинцию, он надеялся не только расплатиться с долгами, но снова начать широкую привольную жизнь. Увы! Едва он вернулся домой, его привлекли к суду по жалобе африканцев. Ему и тут удалось выпутаться из беды, но какой ценой! Он стал предлагать взятки судьям. В результате его оправдали незначительным перевесом голосов. Зато, как говорили злые языки, после процесса он стал таким же бедным, какими были некоторые судьи до процесса.
Он хотел быть консулом. Это стало его навязчивой идеей. Он все время представлял себя окруженным ликторами с фасциями. И потом консулат мог поправить его дела. Всего он предпринял четыре попытки. Но каждый раз с позором проваливался. Консулат оказался обманчивым болотным огоньком. Теперь Катилина окончательно убедился, что общество его оскорбило и унизило. Все чаще вспоминал он золотые дни своей молодости – лихие походы, грабежи богачей, полная безнаказанность. А между тем положение его было отчаянным – кредиторы приступали с ножом к горлу. И тут-то случилось, что этот демон попал в руки дьяволов гораздо более высокого полета, рядом с которыми он был всего-навсего мелким бесом. Он сделался пешкой в чужой игре.
Я уже говорила, что генеральный штаб демократов наметил решительное наступление на 63 год. Первым должен был явиться Рулл с радикальным проектом – раздача всей земли. Вторым – Катилина с еще более радикальным лозунгом – кассация всех долгов. Что может быть могущественнее и разрушительнее этих двух лозунгов! Видимо, решено было, что революция начинается «мирным» путем. Катилина становится консулом, Рулл – трибуном. Оба выдвигают крайние проекты, оба поддерживают друг друга. И пламя революции охватывает Рим. Очевидно, Катилина привлек внимание штаба, во-первых, потому, что слыл человеком опасным, а во-вторых, потому, что пользовался влиянием среди своих бывших товарищей, ветеранов Суллы. Подобно Каталине, они успели растратить все то, что награбили при диктаторе, подобно Катилине, жаждали реванша. Это были люди, умевшие воевать; они раскиданы были по всей Италии и представляли вполне реальную силу. В-третьих, Катилина был ценен благодаря своим связям с уголовным миром. Наконец, он находился в отчаянном положении и был готов на все.








