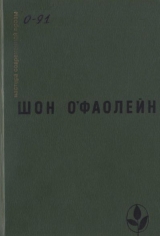
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
Улыбаясь, вошла прелестная и горделивая племянница. Лоб ее был по-девически перехвачен бледно-зеленой лентой, волосы ниспадали к бедрам, и красоту ее портило лишь очевидное сознание, что ее ничем не испортить.
– Лалидж! – Ана царственно повела рукой. Девушка последовала милостивому приглашению и уселась рядом с ней. – Но где же синьор Полличе? Ты сегодня прямо сияешь, Лалидж! Наверно, не без причины?
– Мистер Полличе звонит в Милан.
– В Милан? Почему в Милан?
Девушка хитровато усмехнулась и пожала плечами.
– Урок прошел хорошо? Играла ты, конечно, великолепно?
– Я играла очень хорошо, – возвестила та с уверенностью, обрадовав Ану и разъярив меня.
– Это чарующая музыка. Маленькая серенада на сон грядущий. Ты знаешь, что курфюрст саксонский заказал Баху для себя успокоительную ночную музыку? И одарил его золотой чашей, полной золотых монет?
Девушка кивнула, но – поскольку ей это наверняка было неизвестно – промолчала. Я почувствовал, и Ана, видимо, тоже, какую-то напряженность.
– Синьор Полличе был тобой доволен?
Лалидж опустила голову и покосилась на двоюродную бабушку еще хитрее, к моей пущей тревоге.
– Он был оченьдоволен мною! – хихикнула она.
– Ты, кажется, в этом совершенно уверена. Он что, похвалил тебя?
Губы ее задрожали, плечи затряслись, она закинула голову и безудержно, визгливо расхохоталась.
– Почему ты смеешься? – спросила Ана сдержанным тоном, не предвещавшим, как я знал, ничего доброго.
Ответ был беспечный, ликующий, безжалостный:
– Старикан поцеловал меня! Он полез ко мне целоваться! Да ему не меньше сорока!
Голова Аны медленно поникла.
– Ты расстроилась? – тихо спросила она.
Лалидж выговорила брезгливое «Не-е-ет!» по-заокеански протяжно и гнусаво, точно мяукнула.
– Я просто отделала старого идиота на все корки. Ну, ты представляешь? Поцеловать меня! Меня! Он умолял тебе не говорить.
Лицо, только что казавшееся мне нерушимо прекрасным, сморщилось, а голос стал еще тише.
– В таком случае, Лалидж, почему же ты сказала?
– Ну, я не удержалась. Он такой старый! Такой глупый! Видела бы ты, как он ползал на брюхе!
Тут вошла горничная: мистер Полличе велел кланяться, он спешит.
– Попросите его заглянуть сюда на минутку, Молли.
Я хотел было встать и уйти, но ее «Очень прошу» прозвучало повелительно. Мы сидели втроем в молчаливом ожидании; кажется, даже девице стало не по себе. Лука вошел, положил на стул скрипку, поверх нее шляпу и оглядел всех нас троих исподлобья.
– Вы сядьте, Лука, – потребовала она. Потом – пожалуйста, скажите по правде, Лука. Это верно – то, что мне сейчас рассказала моя внучка?
Он развел руками и кивнул с печальным вздохом.
– Но, бога ради, как вы могли?
Что за чудесный малый, подумал я, глядя, как он повернулся к окну и грустно-насмешливо созерцает закат, голые березы и человеческую глупость.
– Это такая милая пьеска, – задумчиво сказал он. – А она ее так страшно уродовала! И лучше играть никогда не будет. Мне ее стало жалко. Очень жалко. Это был moment de tendresse [25]25
Прилив нежности (франц.).
[Закрыть]. Словно она моя дочка-малышка и писает на пол.
Ана судорожно вздохнула, и я перевел на нее глаза. Ее распирала безысходная ярость – ярость оттого, что жизни свет иссяк, ярость старухи, бьющейся о дверь тюремной камеры. Мне издавна был памятен этот собачий оскал, этот оголтелый гнев.
– Так что же, пусть теперь весь Дублин потешается над нами? Над вами – раз вы такая тряпка! Надо мной, старой дурой, возмечтавшей о собственном квартете! Над этой девчонкой, которая все изгадила! Вы будто не знаете, что в этом городе один шепоток – и вас берут на просвет, разглядывают, точно в гробу, и радостно заливаются убийственным смехом?
Лука сделал умоляющий жест.
– Но как об этом узнают?
– Идиот! Наша деточка сможет целый месяц потешать общество таким рассказом. И не преминет! – Она повернулась к Лалидж: та неприступно охорашивалась. Ана снова обрела вежливость и выдержку. – Лалидж. У нас пять часов вечера. В Бостоне утро. Я сейчас же позвоню в Бостон и разобъясню твоей матери, что тебе, увы, до смерти наскучил Дублин, что ты непременно хочешь быть дома ко Дню Благодарения и что я достану тебе билет на завтрашний самолет отсюда или из Лондона: словом, ступай, пожалуйста, к себе и укладывайся.
Девица была, иначе не скажешь, попросту огорошена. Она ужаснулась так, словно в ее белокурую головку вцепился нетопырь или, еще того хуже, гадкая, скользкая морская тварь, – и буквально возопила:
– Но, тетя Ана, мы же завтра у Саллинзов, а в пятницу вечером танцы у Картона, и я обещала Джонатану Гэнли…
– Сделай одолжение, иди укладывайся! – распорядилась бабушка. Та сверкнула на нее глазами, но встретила такой взгляд, что потупилась. Луке было сказано:
– Оговоренную сумму вы, конечно, получите полностью, и я оплачиваю самолет куда вам вздумается: в Рим, в Питтсбург, в Милан, в Нью-Йорк. Жаль, что у нас с вами ничего не вышло, но вольно вам было делать меня посмешищем для всего Дублина. Спасибо вам за все, Лука. Мы приятно помечтали.
Несколько залихватски, на американский манер, махнув рукою, он взял футляр со скрипкой, взял свою шляпу и направился к двери. Дура девчонка последовала за ним.
Ана слила опивки из чашек, ополоснула их и как ни в чем не бывало разлила чай. Она была по-прежнему прекрасна, и мне очень не понравились ее спокойные движения. В конце-то концов, Лука угодил в эту историю из-за меня.
– Как тебе известно, – заметила она, – Кью-Гарденз находится в западной части Лондона.
Я проследил за ее взглядом поверх берез. Полчаса назад облака были подкрашены последними закатными лучами; теперь в Дублине повсюду зажигались огни.
– Мне, бывало, думалось, что за Айлуортом солнце уходит за край света. – Она снова замолчала. – Вот мы с тобой, милый, как-нибудь еще побываем в Кью, посмотрим на гигантскую водяную лилию с Амазонки. В девичестве она мне внушала опасные чувства: знаешь, духота, сырость, темень. Кажется, они дверь не закрыли? Спасибо. А то холодом тянет.
Плотно притворяя дверь, я услышал, как Лука утешает плачущую девушку. Термометр на косяке показывал 72°. [26]26
По Фаренгейту, т. е. 22° по Цельсию.
[Закрыть]
– Иногда я ездила на пароме в Айлуорт. Но куда приятнее было ходить берегом в Ричмонд и там пить чай в кондитерской под названием «У фрейлин» – говорят, будто она очень понравилась королеве Елизавете, когда она жила в своем ричмондском дворце. А летом я смотрела, как на тамошней площадке играют в крикет. Однажды ночью было душно, мне не спалось, и я сочинила про Кью глупые стишки. Хочешь, прочту?
И прочла от слова до слова, точь-в-точь как пять или десять минут назад. А дочитав, сказала:
– Боюсь, придется нам сейчас с тобой расстаться, Бобби. У меня тут довольно приватный разговор с Бостоном. Я тебе потом все расскажу.
Никогда прежде я не видел ее в таком упадке. Разброд и смятение императорской армии. Ее Ватерлоо.
В тот месяц она прошла обследование в больнице святого Винсента и сказала со смехом, что не стоило времени тратить, все результаты отрицательные. Реджи отмерил ей шесть месяцев жизни. Однако же в августе следующего года она, как обычно, принимала гостей по случаю Конской выставки, но еще до конца вечера слегла и больше из дому не выходила. 8 ноября ее измученная душа покинула земные пределы, словно исчезла за углом. Уличное движение замерло – и возобновилось. Через два месяца я случайно встретил ее старого знакомого, тот вернулся из деловой поездки в Соединенные Штаты. Мы поболтали о том, о сем. На прощанье он сказал:
– Большой привет старине Реджи. И, конечно, очаровательной Ане. Мы все знаем, что она у нас бессмертная.
С ноября 1970 года прошло пять лет. Чему же я от нее научился, помолодев с шестидесяти пяти до пятидесяти пяти? Нет, не любви – любовь я знал и без нее. Отчаянию? Еще бы – ведь за память надо расплачиваться. Даже в Аркадии смерть всегда возле нас. Ну, а кроме отчаяния? Его противоположности – мужеству. То и другое вместе дают стоицизм. Я точно слышу ее: «Забудь и радуйся». Еще чему? Еще тому, что на свете бывает совершенная любовь, хотя мой пресловутый опыт, моя житейская мудрость и здравый рассудок твердо говорят мне, что вряд ли я считал бы ее совершенством, если бы прожил с нею час за часом, день за днем, неделю за неделей, год за годом сорок шесть лет, как бедный старина Реджи. Я ее любил. Из прежней застывшей жизни я знаю, что любовь порождает вожделенье. Вожделенье же любви не порождает и не переживает ее. Я ее любил. И мы друг другу вполне доверились. В мои годы над этим впору смеяться: человек, дескать, заведомо неспособен к полному доверию. Я любил ее. А она любила меня. Мы свободно избрали друг друга. Со стороны опять-таки нелепо: чтобы «избрать», понадобилось три встречи, а в промежутках годы и годы. Я знаю теперь, что всякий такой выбор означает беспечную покорность судьбе – она его оправдает или опровергнет. Ну, что еще? Только желание пережить все-все заново, каждую минуту. Я ее любил.
Она была несравненная. Она была доподлинная. Она была смешная. Она была нежная. Она так хорошо все понимала. Неужели была когда-нибудь другая такая женщина? Ну что за вздор я пишу! Может, это и обо мне, но вовсе не о ней. С нею жизнь возвышалась на уровень бытия… Нет, довольно. Слова не идут. Надо ставить точку.
Разумеется, возможно, что она и вправду была исключением. Возможно, что и так… как первые нарциссы, миндальное дерево в розовом цвету и форзиция, медово-желтая, как волосы Анадионы, которая сейчас прошла в солнечном свете за моим окном с непокрытой головой. Какой у нее благородный облик – поистине дочь своей матери! Март на исходе. Мне минуло десять лет. Кости Аны смешались с землей. Нарциссы колышутся. Скоро и лето. Когда наконец утвердят завещание Реджи и все его бесчисленные кредиторы будут ублаготворены – как, однако, широко жила эта парочка! – Анадиона с Лесли переселятся в тот милый дом на Эйлсбери-роуд. Пройду ли я когда-нибудь мимо него? Взойду ли на крыльцо? Позвоню в звонок? Я закрываю блокнот. Жизнь моя кончена. Писать больше незачем.
К слову, о продолжениях.Я однажды подумал – что бы какому-нибудь умнику написать книгу под названием А ПОСЛЕ? Как Просперо удалился на покой и слывет по всей округе неотвязным болтуном. Как Гамлет оправился от ран после поединка с Лаэртом, и любая девушка за сто миль от Эльсинора знает, что он отъявленный гомосексуалист. У Оскара Уайльда есть жуткий рассказ о том, как Христос выполз из могилы и плотничает подальше от родных мест – ему одному в точности известно, чего стоят россказни про Христа-Бога; как его товарищи-плотники замечают, что руки у него всегда обмотаны тряпицей; и как он упорно отказывается пойти послушать замечательного проповедника-богоносца Павла; да ведь и Анатоль Франс написал рассказ об отставном проконсуле по имени Пилат, который чешет за ухом и бормочет: «Как вы сказали – Иисус Христос? Действительно, кажется, припоминаю, был такой сумасброд».
Но мне-то какое дело до продолжений? Мне больше писать незачем.
Постскриптум.Я написал все это ради самопознания.
Вопрос:И много удалось выяснить?
Ответ:А кому удавалось?
Вопрос:Не стыдно?
Ответ:Да сколько бы ни выяснил! Чтобы познать себя, надо сперва определить собственные возможности.
Вопрос:И я определил?
Ответ:Пока нет. Получится ли? Если не получится…
Постпостскриптум.В июне 1971 года, через семь месяцев после смерти Аны, я придумал себе занятие. Это было необходимо. Жизнь моя опустела. Мои доходы (нетрудовые) явственно сокращались. Я убедил Лесли Лонгфилда основать на паях со мной маленькую художественную галерею. Распорядителями стали он, его жена и я. Я предоставил половину требуемой суммы. Лесли великодушно согласился пожертвовать одним-двумя драгоценнейшими экспонатами своей французской коллекции. Галерея занимает два зала над помещением аукциона на Энн-стрит и называется, в честь героини Джойса, «Анна Ливия». Очень удобная ширма для моей связи с Анадионой.
Часть втораяАНАДИОНА 1970–1990
13 ноября 1990 года. Перелом жизни. Сегодня утром мы похоронили мою обворожительную, обожаемую, обманутую Анадиону.
Alea jacta [27]27
Жребий брошен (лат.).
[Закрыть]. Где же это, черт, была речонка, однажды отделявшая мир от войны? Ведь мы ее, безусловно… Ну да. Двадцать лет назад, в наш тайный медовый месяц, по дороге из Венеции в Римини. Пересекли маленький ручеек, теперь он называется Фьюмичино. Вот она и снова позади за рекой, за своим Рубиконом, только не в тени деревьев. Неупокоенная, неотступная тень – было время, ты затмевала все остальное. Кроме одной. Вот что я крепче всего затвердил с тобой и с Аной – что рождаться, жить и умирать надо с открытыми глазами.
Я незаметно стал пожилым. Анадиона обратила на это внимание только на пятьдесят шестом году своей жизни: как-то в воскресный день она повернула ко мне голову на подушке и сердито сказала: «Ты изменился!» Она тоже: пятьдесят пять лет не шутка. А мне что делать? Наводить седины? Их бессмертные небожительства советовали во избежание недоразумений переезжать, молодея, с места на место. Раз ты сам бессмертен, немудрено и забыть о чужой старости и смерти. Из моих прежних соседей только двое остались в живых. Нам было очень удобно жить рядом, приставив лестницу к садовой стене. А к тому времени, как они с Лесли перебрались наконец на Эйлсбери-роуд, я слишком привык к своему домику, чтобы расставаться с ним. Конечно, я следил за собой: ходил, опираясь на трость, по возможности не забывал прихрамывать, носил очки с простыми стеклами, жаловался на таинственные недомогания, принимал обреченный вид. Все эти соседи-пенсионеры, держатели облигаций, состригатели купонов, рантье – семидесятилетние, восьмидесятилетние, – все они связаны круговою порукой здоровья, словно товарищество бывших тореадоров, компания когдатошних боксеров, сообщество обезголосевших певиц, епископов без епархий, свергнутых королей, забытых киногероев с могучими подбородками, – и все они бьют баклуши, мусолят утренние газеты, выглядывают из-за кружевных занавесок, вслушиваются в пророческое чревоурчание, всматриваются в будущее бытие своих бессмертных душ. Прискорбно? Да ничуть. В этом тесном кругу я сочувствовал только здешнему атеисту. Самому себе. У меня будущего не было. А у правоверных? Было: Великие Чаяния. За рекой, в тени деревьев. В Аркадии.
Я сопровождал на похороны ее дочь. Нану, в отличие от матери, никто и никогда красивой не назовет, даже в профиль. У нее огненно-рыжие волосы и красивые серо-голубые глаза, но черты лица грубоваты. Что ж, она имеет другие достоинства. По-матерински мягко-участлива, забористо-остроумна, приметлива, насмешлива и совершенно бесстрашна, да и возраст у нас с нею встречный. С кладбища я отвез ее домой – последний год она прожила в доме на Эйлсбери-роуд, в полуподвальной квартире: вот до чего довела расточительность Реджи и Аны. Анадионе достался в наследство дом, и ничего больше. У нее был выбор – продать его или разделить на три квартиры. Сегодня утром мне было там тревожно наедине с Наной, тем более что она растревожила меня еще раньше, на кладбище, затронув старую болячку.
Тогда туман только подымался. На добрую четверть мили видны были белые вереницы мраморных крестов. Теперь он загустел, надвинулся с горы Киллини, обволок окрестные оранжевые трубы; сотни рыбьих скелетов-антенн цветных телевизоров плыли в одну сторону. Все зажгли свет раньше обычного, и мгла поглотила город. Моя яблоня стала призрачной. Высокий уличный фонарь превратился в луну. Все дальше и глуше гудят машины. И все тягостней застарелое беспокойство. До утра будут слышаться басистые стенания туманного горна с Маглинских скал.
Надо было мне раньше добиться от Анадионы разрешения давних и болезненных сомнений, которые нахлынули на меня у края могилы, когда я намеренно коснулся холодной руки Наны и она, быстро оглядев окружающих, ответила мне утвердительным пожатием. Чья же все-таки дочь была эта женщина в гробу? Я записал двусмысленный намек Аны – впрямую ничего сказано не было – насчет отцовства. И ясно изложил, разъясняя для себя, воздавая себе должное, успокаивая себя, почему я не стал у нее это выпытывать: каким нужно быть дураком, чтобы прерывать представление, доискиваясь его подоплеки. Я всегда отказывался верить, будто в Ницце она так-таки вознамерилась дать своему мужу столь вопиющий повод для развода. И откуда такое безоглядное доверие ко мне, раз мы друг друга толком не знали? Я перебрал все это в уме много раз, однако же у разверстой могилы опять забеспокоился, вопреки привычному самоуспокоительному заверению, что, в конце-то концов, если бы ее беглый намек соответствовал истине, перед смертью он был бы еще раз повторен, хотя бы затем…
Хотя бы зачем? Я очнулся в кресле, все тело затекло. Десять минут второго. Виски в бутылке на донышке. Кофе совсем остыл. Горн стонет, как раненый бык. Я подошел к уличному окну и поглядел между занавесями, в точности как той летней ночью, когда мачтовые огни выплывали из гавани в бухту Ангелов. Как будто рассеивается туман? Фонарь все еще окружен нимбом, словно голова иконописного святого. Жизнь, «многоразличная и текучая» (чьи слова? Монтеня?), часто особенно отчетливо являет свои откровения на самой дальней закраине бытия. И Ана, широким жестом отсылавшая к жизненным горизонтам, всегда была правдивее Анадионы, меня, да и кого угодно.
Я отпустил занавеси. Кто же это мог быть еще? Кто еще приплыл в Ниццу на той яхте? Хватило бы самого невинного вопроса, вроде: «Лесли, а кто сделал тот снимок, где вы трое на лодке?» Или: «Прости, Реджи, но я не смогу на такой срок отлучиться из газеты! У тебя кто в запасе?» Или вот Ана однажды обронила: «Ну и влипла же я! На одном пятачке с двумя мужчинами и мальчишкой, Леса иначе не назовешь, да и преподобный Дез недалеко от него ушел!» Дез? Я его не помнил, словно в жизни не видел, но что-то у меня с ним было крепко связано, недаром мы так быстро сошлись, когда наконец повстречались на ее прощальном празднестве по случаю Конской выставки и он упомянул о Ницце.
Август 1970 года. До чего же это было в ее духе – настоять на своем, невзирая на врачебный приговор, и разыгрывать свою партию так старательно, что чуть было самой себе не внушить, будто она того и гляди выздоровеет, словом, изображать радушную хозяйку, улыбчиво обходящую гостей, командующую обычным парадом щедрого гостеприимства. Троим или четверым из нас – тем, кто знал, как обстоит дело, – было заметно, сколько наигрыша в этом героическом представлении: полосатый красно-белый шатер, медные отзвуки войскового оркестра с недалекой выставки, собственный ее квартет в шатре, то есть собственно нанятый, исполняющий Чимарозу, Оффенбаха и Штрауса, официанты в черных галстуках и фраках, вальсирующие, воздевая подносы с шампанским, икрой и бутербродиками, предназначенными для тех, кто оживлял застольными беседами садовый уют, для женщин в газовых платьях с выставки, в мягких шляпках, изукрашенных цветами; из мужчин некоторые были в серых цилиндрах, а двое, помнится, явились в охотничьих куртках. Реджи потом сообщил мне, что еще до конца празднества ему пришлось отнести ее наверх в постель: это было отступление, а вовсе не поражение, и никто его не заметил, даже, стыдно сказать, не заметил и я.
Я был занят другими делами; занимал меня дюжий, широкоплечий патер не то пастор лет шестидесяти, краснолицый, с сигарой в зубах, в элегантном одеянии – он вглядывался в меня озадаченно-изумленно, точно ему привиделся светлый блик в черной глубине туннеля. Я посмотрел на него, и передо мной тоже что-то как будто забрезжило; но он обрел слова раньше меня и дружелюбно воскликнул:
– Да вы же Боб Янгер, клянусь всеми святыми сразу! Лазурный берег. Ницца. 1930-й. Дез Моран. Припоминаете?
Я вцепился в его протянутую руку. Я его не помнил, однако же мы определенно встречались.
– Третий в экипаже? На берегу «Регины»? Дез Моран?
Сзади меня Реджи бросил через плечо:
– С вашего позволения, сэр, монсеньор Десмонд Франсис Моран. Кавалер креста Георгия, а также ордена Британской империи четвертой степени. Бывший старейшина соединения капелланов, приданного армии Соединенного Королевства.
День уж был такой: музыка, солнце, шампанское, – и мы, рассмеявшись, обнялись с французской непринужденностью. Его сан ничуть меня не стеснял: я чувствовал в нем человека своего круга. Мы отошли подальше от скопления гостей к тихому пруду и белой садовой скамейке на берегу пруда и обменялись немногословными повестями жизни.
– Последний-то раз, когда я про вас слышал, вы были способным юным репортером в Колчестере. Или в Лондоне? Ну, и чем же вы нынче заняты? На отдыхе? Хотя у вас черт знает какой моложавый вид – куда вам на отдых?
– Последний раз, когда пути наши скрестились, вы были юным и озорным студентом-богословом и готовились переступить черту – так у вас это, кажется, называлось? Реджи меня только что просветил на ваш счет. А что вы сейчас поделываете? Служите в Ирландии?
– Наезжаю в Дублин три-четыре раза в год. Тут у меня сестры и брат. Так чем же вы, собственно, пробавляетесь?
– Я, собственно, живу на вольных хлебах. Заведую художественной галереей. Пописываю в газеты. Бывает, и на радио. Смотря что меня интересует в данный момент. А вы?
– Beneficium sine cura [28]28
Необременительная и хорошо оплачиваемая служба (лат.).
[Закрыть]. Пасусь в Вестминстере. Меня, пожалуй, можно назвать заведующим церковным пресс-центром при парламенте. З.Ц.П.Ц. Ну, и что же, собственно, интересует вас в данный момент?
Я окинул взглядом сад. Поодаль от нас в толпе гостей царила Анадиона – высокая, статная, в длинном шифоновом платье, которое, как мне казалось, совсем не идет к ее властительности, ее плотной фигуре, мужскому выражению лица, коротковатым волнистым волосам и сильной руке с постоянной сигаретой.
Слово мое сказалось то ли нарочито, то ли невольно, то ли оттого, что в саду вдруг повеяло приблудной истиной:
– Кровосмешение.
Меня удивил его мгновенный ответ:
– Ана бы очень не одобрила.
Рука его отогнала сигарное облачко от розы – как я ему сообщил, ее любимого сорта, «Танец сильфид». Он скабрезно ухмыльнулся. Мне как, помнится князь у де Лампедузы? Он обожал розу под названием «Бедро испуганной нимфы».
– В Палермо, миниатюрном подобии Дублина, она ему напоминала ароматы разгоряченных танцовщиц парижской оперы.
Он помедлил, откинулся, полюбовался на перистые облака, гонимые вроссыпь нашим обычным юго-западным ветром.
– Кровосмешение? – обратился он к ним и задумчиво посмотрел на меня.
Так, в цветущем возрасте, с шампанским в желудке, сидели мы под сенью рассеянных облаков, отраженно перебегающих прудовую гладь: ему было весело излагать, а мне – смешно уяснять, какие многоразличные и неодолимые преграды ставят церковь и государство, препятствуя сожительству близких родственников. Он начал с того, что педантично именовал raptus («Вы не это имели в виду?»). Или, может быть, мне больше нравится слово «умыкание»? Насильственное перемещение девицы в целях заключения брачного союза. «Да, кстати». С кривой усмешечкой он предложил на рассмотрение термин impotentia. «Впрочем, нас с вами это не касается». И перешел к вопросу о том, позволительно ли жениться на родственнице отвергнутой невесты.
– Но почему же нет? – удивился я.
– Неблагопристойно, – отвечал он. – Это типично римская, имперская идея. Связано – не развяжешь. «Обручение» связует. За ним неизбежно следует брак. Одна из тех здравых светских идей, которые церковь сделала догмами.
– Но позвольте, – воскликнул я, – вы-то сами не полагаете это препятствием к браку? Или полагаете?
– Полагаю? Крепко сказано. Не советую? Пожалуй.
– То есть не советуете, хотя и не полагаете?
– Я бы даже и потребовал, будь на то прямое указание. Я ведь был солдатом. И видел, как люди шли на смерть по приказу офицера, заведомого болвана. Без дисциплины, знаете, не обойдешься.
Это соображение на меня подействовало. (Может статься, я всегда был приверженцем порядка?) И не посмел я подсказать ему, в чем дело. Он сам сообразил в свое время.
У меня было много других случаев оценить этого говоруна, изобретателя, едва ли не лучшего рассказчика из всех, каких мне довелось слышать, но никогда он не выступал лучше, нежели в эти полчаса, возле пруда с лилиями, где его радовали солнце, повод для беседы, стакан виски, смутный гул разговоров у дома, хотя мне-то больше всего понравилось, что он, желая о чем-нибудь распространиться, не напирал на тему, а выбирал забавный повод ее обыграть – и обыгрывал в свое удовольствие. Так, он не стал расписывать ловкость Наполеона, ухитрившегося отделаться от императрицы Жозефины с полного благословения церкви, а просто цинически поддел тогдашнего парижского архиепископа, чьими устами оно, увы, было даровано. И не стал он входить в подробности того, как брат Наполеона Жозеф Буонапарте бестолково и безуспешно пытался сбыть с рук свою жену, мисс Патерсон из Балтиморы (США), но зато рассказал, как переполошились все и всяческие Патерсоны. Он обошел молчанием изобретательность Маркони, добившегося от Рима расторжения девятнадцатилетнего брака с Беатрисой О’Брайен, дочерью лорда Инчиквина, владетеля Дромоландского замка в графстве Клэр, – он лишь упомянул, что молодая аристократка не удосужилась сообщить убогому приходскому священнику о своих намерениях и поэтому не была отлучена от церкви. А старик священник, дремавший над стаканом грога возле растопленного торфом камина в лачуге на ветреном берегу Шаннона, само собой, не поднял шума из-за такого пустячного упущения.
– Дремота его вызвала международный общественный, политический и богословский скандал, эхо которого, – довольно рассмеялся Дез, – все еще отдается в коридорах Ватикана.
Он сделал жест завзятого лошадника.
– Кровосмешение? На самом деле тут мораль ни при чем. Ну каким, например, боком затронуто государство или церковь, если некий англичанин хочет жениться на сестре своей покойной жены? Тысячу восемьсот тридцать пять лет кельты, англы, саксы и юты женились – никто и ухом не повел. А потом в 1835 году было принято Положение о браке, и это стало преступлением. Через семьдесят три года принимают Положение о браке с сестрой покойной жены, и опять женись на здоровье! Вы говорили: «Законы ведь меняются?» Еще бы нет! Но мы с вами должны им всякий раз повиноваться, если не хотим быть анархистами. Наша с вами церковь – церковь капиталистическая. Мы верим в ее полномочия и уважаем ее достояние. Уставы и законы о браке, прелюбодеянии, кровосмешении и так далее принимаются под давлением и в угоду кастовой власти и собственности. Меняется давление – меняются и законы. Спору нет, теперь, когда противозачаточные средства можно купить в уличном автомате у самых ворот Ватикана, денежным мужчинам и женщинам почти все равно, с кем спят их спутницы или спутники жизни. Однако закон есть закон! – Он вздохнул. – И жить, и верить было куда легче, пока законов вовсе не было. Христиане переживали золотой век, грезя о небесном блаженстве в катакомбах. А что с тех пор? Учредительный хаос – крашеные статуи, дурацкие чудеса, умильная набожность, разубранные храмы, праздники и посты, засилье правоведов. Делай то-то и то-то, не делай того-то! Пререкания и пререкания! Будто одного Господа недостаточно, чтобы преисполнить целую жизнь человеческую молчаливым изумлением! Дайте мне какую-нибудь беленую церквушку в Калабрии или Коннемаре и тишь в ее стенах. Вот ее мне дайте, а себе возьмите все величавые соборы на свете.
Таков он был. Я теперь понимаю задним числом, откуда взялось это странное смешение издевки и скепсиса, грубости и деликатности, мужества и чуткости. Человек с его сердцем и разумом не мог пройти сквозь годы и годы войны в полудюжине стран, видеть неделю за неделей, как мужчины, женщины, дети превращаются в груды убоины – да я вовсе не удивлюсь, если и сам он кого-нибудь убил в бою, – видеть и не научиться благодарно принимать жизнь как выгодное предприятие, приносящее ежегодно с десяток ночных звездных фейерверков на каждые девяносто дней, запорошенных удушливой гарью. Эпикуреец. Стоик. Взыскующий царствия небесного мученик, стесненный предначертанными границами нашей жизни. Спешите презирать, воинствующие себялюбцы, умники, провидцы! Весь его ум, все чувства, даже память – все было порабощено призванием. Я было спросил тогда о чем-то из его военного прошлого, и убийственно скучны были его рассказы о решающих битвах, про Эль-Аламейн и Казерту. А через минуту как живо и весело повествовал он о целодневной псовой охоте в Голуэе или Типперэри; как уместно цитировал Данте (кажется, Данте), с каким восторгом припоминал штормовую ночь на яхте в Северном море! Он был отважный человек, но человек мирный, и недаром он прицеплял ко всякому жуткому военному рассказу концовку-бирочку, точно к продажному гобелену; его интонация настолько обесценивала, что слышно было звяканье монеты, пробренчавшей по лотку к зияющему провалу, куда ссыпаются дутые дублоны истории, а некто, поставленный свыше у игорного автомата, век за веком устало сгребает их в мешок, на переплав забытья. Но почему же ему помнилось одно и не помнилось другое? Узнав его лучше, я постепенно понял, что, сыщи я на это ответ, и он весь будет у меня как на ладони. По своему выбору оставлял он островки фактов среди безбрежной всепоглощающей пучины, плывя наперекор волнам житейских забот своим курсом бог весть куда.
И в тот самый августовский день, только-только я примерился к нему мыслью – к тактичному, набожному, опасному мистику и авантюристу, к его изощренному воздействию, порой рискованному, всегда тонкому, неизменно чуткому, – как услышал от него:
– Итак, Бобби? С чьей же кузиной, матерью, дочерью или сестрой, словом, с которой из тех вон болтушек вы намерены переспать?
Тогда такая бесцеремонность еще не вошла в моду. Вопрос был грубый. Дело не в том, что задал его архиепископ, которого в Ирландии, по старинке благонравной, многие, как выяснилось, считали несолидным священнослужителем; нет, я просто напоминаю самому себе, что так приземляться можно только из поднебесья. Дез Моран и правда был грубоват, но грубость его была изнанкой всегдашнего сострадания к ближним, несущим несносные тяготы мира сего. Вот она, тайна его натуры: радостно выезжая в поля на охоту, рискуя жизнью на поле брани или исполняя обязанности З.Ц.П.Ц. в уютном вестминстерском кабинете, он мир сей в грош не ставил. Как и апостолу Павлу, жизнь виделась ему туманной загадкой. Лик ее откроется смертью. Мне понятно, почему он слыл циничным, корыстным, даже лицемерным человеком. (Женщин он привлекал – влечение к недоступному?) Девиз его был: терпи, преклоняйся и радуйся.








