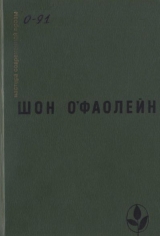
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
©Перевод Р. Облонская
Максер Кридон не был пьян, но тоска его пьянила, и он это знал и страшился этого.
Поначалу ему нравилось ходить по улицам среди толп, где каждый встречный нес сверток в зеленой или золотой бумаге, перевязанной широкой красной лентой, за которую заткнуты усыпанные ягодами веточки остролиста. Всякий раз, как он с кем-нибудь сталкивался, сверток падал, оба вскрикивали «Ох!» или «Виноват!», взглядывали друг на друга и смеялись. Вот на волосах женщины приютилась звездочка-снежинка. Пахло сосной и бальзамом. На площади Рокфеллера двенадцать золотых ангелов беззвучно трубили в двенадцать золотых труб. Когда светофор на Парк-авеню переключился с красного на зеленый, он показал полицейскому, что все выстроившиеся поодаль в ряд рождественские елочки отраженно изменили цвет. Полицейский от души поблагодарил. Дымка света окутала верхние этажи зданий, и над Парк-авеню возникло подобие ореола. Все в точности как он ожидал, когда тащился из Галифакса на паршивом старом танкере. И вдруг в порыве отвращения он яростно взмахнул рукой.
– К черту их! Всех к черту!
– Ох! Ого, стоп! Виноват!
Он не пожелал засмеяться в ответ.
«Бедняга Кридон! – сказал он себе. – Один-одинешенек в Нью-Йорке в канун этого будь-оно-неладно-светлого Рождества, некому словечка сказать, некуда податься, кроме как опять на распроклятую старую посудину. Нью-Йорк так и сияет. Все до одного так и сияют. Одному бедняге Кридону худо».
Он заплакал от жалости к бедняге Кридону. Плача, закружился в толпе прохожих. И очнулся в аптеке-закусочной на Восьмой авеню, сидел у стойки, потягивал черный кофе и, прищурив глаз, смотрел на сменяющиеся огни светофора и счастливо хихикал, вспоминая историю, которую давным-давно мать рассказывала ему про какой-то Бэлироуш. Он был там лишь однажды, девять лет назад, на ее похоронах. И сейчас, лучезарно улыбаясь, он глядел то в чашку с кофе, то за окно, на сменяющиеся огни светофора, и вспоминал свою любимую историю про Бедняжку Лили.
«Э-хе-хе! Бедняжка Лили! Знать бы, где она, где она теперь. Живая или померла. Все приключилось через одного итальянца, ходил он с фермы на ферму да продавал раскрашенные фигурки. Банделло его звали, раскрасавец, чернявенький, будь он неладен! Сколько живу на свете, эдакого раскрасавца не видала, будь он неладен. Да, и чего ж она сделала – раз в октябре поутру, еще сырость была и ветер страшный, мы все знай крепко спали, а она потихоньку вылезла из постели да с ним и сбежала. Папаша все повторял, мол, напоследок ее видали часов этак в восемь утра, стояла она на повороте к Бэлироушу под большущим деревом, от дождя хоронилась. Мики Кленси, почтальон, ее видал. „Эй, девка, – сказал он. – Чего это ты тут делаешь с утра пораньше?“ – „Жду, – говорит, – молочника с тележкой, в Фаринс поеду“. И с того самого дня ни слуху ни духу, будто сквозь землю провалилась. Только получили одно письмо из Америки, священник какой-то написал, она, мол, счастлива, вышла замуж в Бруклине, в Нью-Йорке».
И опять Максер хихикнул. История эта всегда кончалась счетом, сколько с тех пор прошло годов. Последний раз, когда он ее слышал, счет достиг сорока одного. В нынешнем году было бы уже пятьдесят.
Максер поставил чашку. Впервые в жизни ему пришло в голову, что история эта – правдивый рассказ про женщину, которая и впрямь жила на свете. Четыре раза сменились огни светофора, пока он освоился с этим открытием. Потом, будто у человека, который опять и опять слышал в тумане корабельную сирену и вдруг услыхал ее совсем рядом и увидел, пусть смутно, как из густой пелены проступил корабль, у Максера наконец прорезался важный замысел.
Он неуклюже слез с табурета и пошел к телефонам. Загрубелым пальцем принялся водить по серым страницам телефонного справочника в Бруклинском разделе. Палец остановился. Максер прочел фамилию вслух. Банделло, миссис Лили. Он вынул десятицентовик, монетка звякнула, попав куда следует, и он медленно набрал номер. На третий звонок ответил старушечий голос. Конечно, тетушка уже очень старая и, наверно, глуховата, и он сказал очень громко и, как все пьяные, старательно выговаривая слова:
– Это звонит Мэтью Кридон. Только приятели все зовут меня Максер. Я приехал из Лимерика, из Ирландии. Моя мать родом из Бэлироуша. Вы случаем не моя тетушка Лили?
– Чего надо? – пролаяла она в ответ.
– Ничего мне не надо! Я только подумал, если это вы и есть, может, мы чуток поболтаем. Я матрос. Нынче утром пришвартовался на Гудзоне.
– Тебе кто-нибудь велел мне позвонить? – Голос все еще звучал холодно, сурово.
Максер стал уже злиться.
– Да нет! Просто я вдруг взял да и глянул в телефонный справочник. Мать часто про вас рассказывала. Просто охота с кем-нибудь перемолвиться. Рождество ведь, ну и все такое. А я в Нью-Йорке никого не знаю. Ну а не хотите – как хотите. Навязываться не стану. Бывайте здоровы.
– Погоди! Тебя и впрямь никто не подослал?
– Душа моя подослала! Само Рождество меня подослало! – (Пусть как желает, так и понимает!) – Слышь, сдается мне, я навязываюсь. Давайте кончать разговор.
– Нет. Может, зайдешь ко мне повидаться?
– Прямо сейчас? – недоверчиво спросил он.
– Сию минуту!
Ее голос вдруг зазвучал приветливо, и досады Максера как не бывало.
– Ясно, тетя Лили! Я мигом. Только слышь, я правда надеюсь, вы не думаете, будто я навязываюсь. Потому как если…
– Это очень мило, Мэтью, что ты мне позвонил. Очень даже мило. Я буду рада тебя повидать.
Широко улыбаясь, Максер повесил трубку. Тетка в точности как мать, тот же у ней лимерикский выговор. Это после пятидесяти-то лет. И такой же голос командирский. Ей наверняка не меньше семидесяти. Высокая, должно быть, худая, статная, и уж ясно гордячка, и строит из себя важную даму, а на самом деле мягкая, как мох в горах. Сейчас, верно, впопыхах наводит порядок в доме. И распекает старика Банделло. Если он еще жив.
Максер заплутался в метро, и, когда вышел на улицу, уже стемнело. Он зашел, выпил еще чашечку черного кофе. Потом зашел купил бутылку ямайского рома – ей в подарок. А потом пришлось пройти пешком пять кварталов, пока он наконец разыскал ее дом. Автомобили, стоящие под фонарями, были покрыты снегом. Тетушка Лили жила в доме из бурого песчаника, с крутой лестницей. Тут обитали еще шесть семей.
Едва она появилась на верхней, тускло освещенной лестничной площадке и сверху посмотрела на Максера, он увидел нечто прочно забытое. Была она того же роста, что его мать, и такая же стройная, и рот такой же большой, но светло-голубые, подернутые влагой глаза он давно забыл и теперь замер на лестнице, вцепился в перила. При виде этих глаз он услыхал мягкие вздохи ветра над плоской лимерикской равниной, и его пробрала дрожь. На мили и мили окрест ни звука, лишь глубоко вздыхает ветер, под которым, словно водные просторы, колышутся поля пшеницы и луга. На всей плоской равнине, где перекресток – событие, а сонное озерцо – волнующая неожиданность. Где ручейки все равно что для другого края – реки. А деревни – что города. Где поверх клейких лютиков осовело глядят на тебя отдыхающие среди трав коровы. Где луговые травы достают им до брюха. Устремленные на Максера светлые тетушкины глаза – клочки белесого неба, что туго натянуто над Шаннонской равниной.
Медленно поднялся Максер по ступеням навстречу ей, но, даже когда они уже стояли рядом, тетушка все равно смотрела на него сверху, пристально вглядывалась в его лицо бесцветными глазами. Он понял, что она ищет, и, когда с негромким и кротким рыданьем, точно ветер Шаннона, она обвила его шею костлявыми руками, он понял – она нашла, что искала.
– Тетушка! Вы с ней похожи как две капли воды.
Она вмиг рассердилась, опять ни дать ни взять командирша, и потащила его в комнату.
– Ты пил! И почему задержался? И, сдается мне, с утра толком не ел?
Он застенчиво улыбнулся.
– Виноват, тетушка. Все оттого, что оказался один-одинешенек. А вокруг народ вовсю веселится. – В знак примиренья он подал ей бутылку рома. – Давайте выпьем!
Она тотчас захлопотала вокруг него.
– Сперва тебе надо поесть. Мне за тебя стыдно, весь день пил! Садись, сынок. Снимай куртку. У меня есть кофе, и домашнее печенье, и булочки с рублеными бифштексами, и пирог, я всегда припасаю на Рождество. Все соседи ко мне заходят. Все знают: в Рождество у Лили Банделло каждый – желанный гость, никто не скажет, будто на Рождество Лили Банделло не рада всем своим знакомым и родичам…
Она сновала из кухоньки в комнату и обратно и болтала без умолку.
Комната была большая, сумрачная, из зеркала высоченного гардероба, на котором вдобавок громоздились картонные коробки, Максера разглядывало его отражение. В одном углу стояла высокая, как кровать, тахта, а за старой пестрой ширмой угадывался умывальник. В самой середине с потолка свешивалась единственная лампочка под рифленым стеклянным абажуром в форме колокольчика с розовым волнистым краем. Над кроватью красовался папа Лев XIII. Хлопья снега кошачьими лапками касались ничем не завешенных окон, будто пытались проникнуть внутрь. Тетушка принялась расспрашивать Максера, и он пожалел, что пришел.
– Как поживает Бид? – крикнула она из кухни.
– Бид? Моя мать? А, ну да, конечно… Моя мать? Ну, она замечательно. Лучше некуда, тетушка. То есть для ее лет, конечно. Хорошо, прекрасно! Прямо как вы. Только, бывает, ревматизм дает себя знать.
– Рассказывай, рассказывай, про всех подряд. Как дядя Мэтти? А Сис? Ты когда последний раз был там, в Бэлироуше? Только там, наверно, теперь все переменилось, с этим электричеством да со всякими теперешними новшествами. И, наверно, старого пони и рессорной двуколки давно уж и в помине нет? А я как раз прошлой ночью вспомнила Мики Кленси, почтальона.
Она вошла, расставила тарелки, глазированный рождественский пирог, кофейник.
– Говори, говори! Ты ж мне ничего не рассказываешь.
Она склонилась над Максером в ожидании, бледные глаза широко раскрыты, губы в ниточку.
– Мой дядя Мэтти? А, ну да, конечно… он теперь уж не такой молодой. Но прошлый год я его там видел. Он отлично выглядел. На славу. Вот только сутулился малость. Но в прекрасной форме. То есть для его лет.
– Сядь поудобней. Ешь, ешь. Не обращай на меня внимания. У него теперь, уж наверно, большая семья?
– Семья? Ясное дело! Том у него. И Китти, то есть тетушка Китти, Китти, ну да, Китти. И… господи, где их всех упомнить.
Она пододвинула к нему булочки с бифштексами. Велела налить себе кофе и чтоб сказал, по вкусу ли он ему. Объявила, что рассказчик он никудышный, ничего от него не узнаешь.
– Расскажи мне все про родные места!
Максер набил полный рот, чтоб было время подумать.
– У них двадцать одна корова. Голштинки. Все как на подбор черные с белым. И красный коровник. И сосны стоят в ряд, загораживают от ветра. Эдак славно теперь глядеть на ветер в деревьях, а как настанет ночь, маяк давай тебе подмигивать, и…
– Какой такой маяк? – тетушка Лили свирепо на него посмотрела. Отодвинулась. – Ты что, рехнулся? Что еще за выдумки? Маяк посреди графства Лимерик?
– Маяк там, а как же! Я своими глазами в порту видал!
Но вдруг Максер вспомнил, где это он видел маяк – в магазине игрушек на Восьмой авеню, а за ним ферма, и красный коровник, и крохотные коровы, а вокруг всего этого катит и катит поезд.
– В порту, Мэтти, да ты в своем уме?
– Я его собственными глазами видел.
Глаза у него были круглые, точно игрушечные стеклянные шарики. Тетушка вдруг склонилась над ним, будто ива – совсем как когда-то склонялась мать, – и давай хохотать.
– Знаю я, про что ты толкуешь. На реке маяк, на Шанноне! Боже милостивый, сколько раз я его видала ночью с Баллингерского холма! А только порта там нет, Мэтти.
– В Фойнсе есть порт!
– О господи! – воскликнула она. – Это ж за тридевять земель! За целых двадцать миль! И разве из Бэлироуша откуда-нибудь увидишь поезд, нипочем, ни днем, ни ночью.
Они спорили и так и эдак, и вдруг она заметила, что кофе остыл, схватила кофейник и ринулась в кухню. Даже оттуда она все продолжала спорить, громко говорила, мол, конечно, можно увидать Манигейский замок и в ясный день излучину реки Дил, но никакого поезда, а потом заговорила, как переходят речку по камням, а воротясь, пошла болтать про Нормойлова быка – как он гнался за ними однажды жарким днем, прямо через пересохшее русло реки…
– Тетушка, – спросил Максер, – какого беса вы ни разу не написали домой?
– Ни разу, да? – с плутоватой улыбкой, будто дерзкая девчонка, спросила она.
– С того дня как уехали из Бэлироуша, ни слуху ни духу, мать всегда говорила – как сквозь землю провалилась. Ну и хороши вы!
– Доедай! – скомандовала она и хлопнула его по руке.
– Вы всегда тут жили, тетя Лили?
Она села, уперлась локтями в стол, подбородком в ладони и посмотрела на Максера.
– Здесь? Да нет… Ничего подобного! У нас с мужем был дом на Восточной пятьдесят восьмой. Муж изрядно преуспел. Умер богачом. Крупный ювелир. Пять лет назад он погиб в авиационной катастрофе, но я осталась со средствами. Только одной-то мне на что собственный дом, а в Бруклине у меня полно знакомых, вот я и переехала сюда.
– Прекрасно! Чего еще вам надо, одинокой-то женщине! А детей нет?
– Сын у меня. Но он женат, на польке, завтра с самого утра приедут заберут меня, чтоб вместе провести Рождество. У них квартира на Риверсайд-драйв. Он управляющий в большом универмаге, «Мейси», на Флэтбуш-авеню. Но расскажи мне про детей Бид. У тебя, верно, куча братьев и сестер? Отсюда куда поедешь? Назад в Ирландию? В Лимерик? В Бэлироуш?
Максер засмеялся.
– Куда ж еще? Теперь наш корабль пойдет в Лондон. И я стремглав в Бэлироуш. Расскажу, что повидался с вами, то-то все обрадуются. Станут про вас расспрашивать. Расскажите мне еще про вашего сына. У него семья?
– Про сына? Что ж, сына звать Томасом. А жену Кэтрин. Она красотка. И со средствами. Они очень счастливы. Он прекрасно обеспечен. Заправляет большим магазином компании «Сирз Роубак» на Бедфорд-авеню. Да, хороший мальчик. Лучше некуда! Как ты говоришь. Лучше некуда. У него трое ребятишек. Сисси, и Мэтти, и…
Голос тетушки Лили дрогнул. Она закрыла глаза, и Максер увидел, какая она старая. Она поднялась и из нижнего ящика комода достала альбом с фотографиями. Положила перед Максером, а сама опять села напротив.
– Вот мой мальчик.
Максер сказал, он на нее похож, а она сказала, он очень похож на отца. Максер сказал, он часто слышал, что ее муж был раскрасавец.
– У вас есть его фотография?
Тетушка пододвинула к себе фотографию сына и посмотрела на нее.
– Расскажи еще про Бэлироуш! – воскликнула она.
Максер пустился подробно описывать праздник урожая и тут заметил, что глаза у тетушки опять закрылись, дыхание стало тяжелым, и почувствовал, она его совсем не слушает. Потом она вдруг шлепнула ладонью по карточке молодого человека, и Максер понял, тетушка о нем и думать забыла, будто его тут и нету. Пальцы ее вцепились в карточку. Она исступленно швырнула карточку через всю комнату, та плашмя ударилась об оконное стекло, помедлила и соскользнула на пол. Максер увидел – снежинки, едва коснувшись стекла, тают. Когда он опять посмотрел на тетушку, она перегнулась через стол, седой клок навис над глазом, желтые зубы оскалились.
– Ты шпион! – бросила она ему в лицо. – Это они тебя подослали. Ты пришел шпионить за мной.
– Я пришел по дружбе.
– А может, из грошового интереса, как она там живет-здравствует? Ну и возвращайся в Бэлироуш и рассказывай им все, что твоей душеньке угодно. Расскажи, что я голодаю, пусть радуются, дрянные, жалкие, ничтожные людишки, плевать они на меня хотели с того самого часа, как я от них уехала. За сорок лет родная сестрица, твоя мать, мне ни словечка не написала, и…
– Вы же прекрасно знаете, черт возьми, она бы все для вас сделала, если б только знала, где вы есть. Она души в вас не чаяла. Вас же было водой не разлить. Господи, да она вечно про вас толковала. С утра до ночи…
– Я шесть писем написала!.. – крикнула тетушка через стол.
– Мать их не получала.
– Два я отправила заказными.
– Никто ни словечка от вас не получил, и о вас тоже, только одно письмо пришло от священника, который вас венчал, и он написал, вы здоровы и счастливы.
– Нет, он написал, что я одна-одинешенька и на мели. Я видела письмо. И позволила ему отправить. Этот итальяшка бросил меня в Нью-Йорке с младенцем на руках и без гроша. Я кому только не писала: матери, отцу, Бид, когда она уже зажила своим домом и ты народился. Всю свою жизнь я работала каждый божий день. И нынче работала. И завтра буду работать. Убираю конторы – вот чем я занимаюсь, если хочешь знать. Я работала, чтобы поднять сына, а он мне чем отплатил? Улизнул от меня с этой своей полькой, и только его и видели, и ее тоже, и никого из родных я не видела, пока не объявился ты. Можешь все это им рассказать, все как есть. То-то они порадуются!
Максер поднялся и медленно пошел к кровати за своей курткой. Застегнулся, посмотрел на тетушку, а она свирепо глядит на него через стол. Отвел глаза, посмотрел на снежинки, а они коснутся окна и тают. И он сказал негромко:
– Они все умерли. А Лимерик… я уже восемь лет в Ирландии не был. Как мама умерла, отец опять женился. Шестнадцати годов я сбежал в море.
Максер взял шапку. У двери услышал, что упал стул, и вот тетушка уже подле него, схватила за руку, шепчет ласково:
– Не уходи, Мэтти. – Бесцветные глаза ее полны слез. – Ради бога не оставляй меня в сочельник одну с ними!
Максер изумленно уставился на нее. Губы ее дрожали, словно под ветром. Лицо точно у перепуганной девчонки. Он кинул шапку на кровать, вернулся и сам сел туда же. Он сидел словно огромный бабуин, свесив руки меж колен, и смотрел на падающий снег, а тетушка Лили поспешила в кухню ставить кастрюльку для ромового пунша. Прошло много времени, и вот она внесла два больших стакана с пуншем, поверху плавают апельсинные дольки, а на дне виден коричневый сахар, точно осевший песок. Она протянула Максеру стаканы, и он поглядел сперва на них, потом на нее, такую робкую, умоляющую, и рассмеялся, и смеялся, смеялся, пока не оборвал смех, закрыв лицо ладонями.
– Черт вас подери, – проворчал он, все не отнимая рук от лица, – пьяному мне было лучше.
Она села рядом с ним на кровать. Он поднял голову. Взял стакан и коснулся им ее стакана.
– За здоровье бедняжки Лили! – с улыбкой сказал он.
Она ласково поглаживала его свободную руку.
– Миленький, скажи мне одно, только правду скажи. Она впрямь про меня вспоминала? Или это тоже враки?
– Как станет про вас толковать, так плачет-заливается. Всякий день про вас толковала. С ума по вас сходила.
У тетушки Лили вырвался протяжный вздох.
– Сколько лет я не могла это понять. А как родной сын променял меня на свою польку, я и поняла. Наверно, Бид трудно приходилось, покуда она вас всех поднимала. А кто ж безжалостней к людям, чем мать, когда у ней на уме свое дитя. Я рада, что она про меня вспоминала. Это лучше, чем ничего.
Они сидели на кровати и говорили, говорили. Она сварила еще пуншу и еще, и под конец они допили бутылку и все говорили про каждого, кого знали он или она во всех уголках графства Лимерик. Условились провести вместе рождественский день, и пообедать где-нибудь в центре, и, может, сходить в кино, а потом вернуться и еще поговорить.
Каждый раз, как Максер оказывается в Нью-Йорке, он звонит ей по телефону. Затаив дыхание, ждет он, когда услышит ее голос и слова: «Привет, Мэтти». И они идут в город, обедают вместе в каком-нибудь ресторанчике с ирландским названием или с зеленым неоновым ирландским трилистником над дверью, а потом отправляются в кино или на какое-нибудь представление, а потом возвращаются в комнату к тетушке Лили выпить и поболтать о последнем плаванье Максера или об открытках с видами, которые он ей посылал, о крохах последних новостей с берегов Шаннона. В ресторанах их всегда обслуживают по высшему классу, хотя Максер заметил это лишь в тот вечер, когда официант спросил: «А вашей мамаше что подавать?» – и тетушка неспешно подмигнула ему, глядя на него светлыми лимерикскими глазами, и неспешно, любовно ему улыбнулась.
НЕ ПРИВЕДИ ГОСПОДЬ!©Перевод Е. Короткова
– Теперь можете одеться, мистер Нисон, – сказал доктор. Он не торопясь вернулся к столу и стал писать.
Джеки, все еще сжимая в руках рубашку, смотрел на него пристально, и все это ему очень не нравилось.
– Ну, док, – спросил он; от волнения его кадык дернулся вверх, потом вниз, и Джеки поперхнулся. – Каков вердикт?
– Вердикт таков, что у вас сердце барахлит и давление высокое. А что касается остального, вы в полном порядке.
– Барахлит? – переспросил Джеки и вдруг скомкал рубашку. Сжимая ее в руках, он сел. Сердце у него затрепыхалось, как слабо натянутый парус. – Это как понять – барахлит?
– Ну, не входя в излишние подробности, вы его несколько перегрузили, и мотор ваш немного устал, вот и все. Вам надо полежать месяца два, отдохнуть, а в дальнейшем не волноваться, и тогда, не исключено, вы проживете до ста лет. В противном случае дело может оказаться весьма серьезным.
Страх испарился в тот же миг.
– Отдохнуть? Два месяца лежать в постели? Да ведь в конце той недели скачки!
– Мистер Нисон, вам два месяца нельзя будет посещать ипподром. Если вы вздумаете там побывать, вам придется искать другого врача.
– Да боже милостивый, я же за всю жизнь не лежал в постели даже ночью больше четырех часов кряду! Что же я там два месяца-то буду делать?
– Вы можете слушать радио. А также читать. Да, таким вот образом. Радио можете слушать. И читать вы можете.
– Что читать?
– Что-нибудь успокаивающее, что вас не волновало бы. Кто-то мне рассказывал, что Герберт Уэллс, отправляясь в путешествие, каждый раз брал с собой том Британской Энциклопедии. А я время от времени буду вас навещать.
– Не могу ли я к вам приходить? – жалобно осведомился Джеки.
– Нет уж, лучше я, так будет безопасней, – ответил доктор, и тут-то Джеки осознал, что дела его плохи всерьез.
– Ну а выпить стаканчик я могу иногда? – спросил он, прощупывая почву.
– Стаканчик солода или бутылка портера, если будет настроение, не принесут вам вреда. Но женщин непременно избегайте. Эти дела вызывают отлив крови от головы.
– Никогда я не имел с ними таких уж особенных дел, – угрюмо сказал Джеки и стал натягивать рубашку.
Он пришел домой, выпил неразбавленного виски, сообщил жене новости и лег в постель. Увидев его лежащим в постели, она принялась плакать, и плакала очень долго – ему пришлось напомнить ей, что он пока еще не умер. Тут она крепко сжала губы, ибо почувствовала, что готова разрыдаться так горько, как отродясь не рыдала. С трудом справившись с собой, она спросила, не хочется ли ему чего-нибудь.
– Есть в этом доме такая штука, как энциклопедия? – спросил Джеки.
– Такая штука, как что?
– Энциклопедия. Доктор велел мне читать.
Она взглянула на него с печалью, и из глаз ее вновь заструились слезы.
– Бедный Джеки, – плача, сказала она. – Вот уж не думала, что ты докатишься до такого. – И она отправилась искать энциклопедию.
Искать долго не пришлось – в доме не было и двадцати книг; букмекеры вообще не держат у себя такой литературы, и она отправилась к соседке, Норин Малви, жене учителя. Через несколько минут она вернулась, держа в руках большую черную книжищу с красным обрезом, именуемую «Католический словарь».
– На кой дьявол я ее купил? – спросил Джеки.
– Ты ее не покупал. Мне дала ее Норин Малви. Говорит, это не хуже, чем энциклопедия.
Джеки хмуро полистал траурного вида том. На внутренней стороне обложки он обнаружил зеленую печать: «Колледж Святого Иакова, Патни-Грин, Мидлсекс, Лондон». Там было много чудн ы х слов, набранных жирным шрифтом, и первое из них – Аббакомиты.
– Доконают они меня, – произнес он хмуро и стал читать.
Из статьи первой он выяснил, что аббакомиты – это настоятели монастырей знатного происхождения, которым выделял аббатство король, дабы они извлекали из него денежный доход. Выяснил он также, что настоятелями таких монастырей могли являться не только сыновья, но и дочери вельмож и даже их жены.
– Ничего себе сволочи, – буркнул Джеки и, усевшись поудобнее, погрузился в следующую статью, озаглавленную Аббатисы.Он с интересом прочел краткое объяснение, в особенности ту его часть, где сообщалось, что в ордене Фонтевро и ордене Святой Бригитты женские и мужские монастыри располагаются рядом и даже во главе мужского монастыря стоит аббатиса.
– Дела! – язвительно произнес он и перешел к статье Аббаты.
Тут он несколько заскучал – статья была длинной и изобиловала специальными подробностями, – но его развеселил абзац, где описывалось, как «в Версальском дворце снуют блистательные молодые аббаты», отродясь не видевшие тех монастырей, из которых они извлекают доходы. Он вновь пал духом, читая об Аббревиаторах [77]77
Писцы папской канцелярии, составляющие папские бреве.
[Закрыть], но увлекся Абрамитами [78]78
Секта в католицизме, возникшая в XVIII веке в Богемии.
[Закрыть]– ему вдруг пришла мысль, что ребята эти не так уж далеки от истины, когда утверждают, что «благой Бог сотворил души человеческие, а сила зла, она же демиург, создала их плоть». Впрочем, в конце статьи имелась отсылка к манихейству, а прочитав о манихеях, Джеки пришел к выводу, что они форменные идиоты и автор совершенно прав, суля им ад.
Абраксас [79]79
Магическое слово, слово-символ у гностиков; талисман с этим словом.
[Закрыть]навел на него тоску. Абсолюция [80]80
Отпущение грехов.
[Закрыть]состояла из великого множества пунктов. Он уже начал с нетерпением перелистывать страницы, как вдруг взгляд его упал на Адама.Эту статью он прочел не один раз, а трижды. Когда жена принесла ему эггног [81]81
Вино или коньяк с желтком, стертым с сахаром и сливками.
[Закрыть], она увидела, что муж ее возлежит, откинувшись на подушки, и задумчиво смотрит в окно.
– Подойди-ка ко мне, Айлин, – сказал он и рассеянно взял у нее из рук стакан. – Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что Адам и Ева разгуливали голышом – и хоть бы что?
– Это все знают, – сказала она и поправила ему одеяло.
– Я спрашиваю: приходило тебе в голову, что им это было абсолютно все равно?
– Я так думаю, они, бедняжечки, были невинны, покуда их не искусил сатана.
Он вскинул голову и выразительно посмотрел на жену.
– Тут спорить не о чем, – сказал он. – Но не возникал ли у тебя вопрос, каким образом сатана провернул это дело, если они были так уж невинны?
– А что особенного? – фыркнула она. – Кому всегда грозит падение, как не невинным?
– Справедливо, – согласился он опять, а затем торжествующим голосом человека, который объявляет сопернику мат, сказал: – Но только ты забыла: случилось-то это в раю, где не существует греха.
– Сатана изобрел его, – не задумываясь ответила Айлин.
– Ересь, – объявил он и похлопал по книге рукой. – Я это только что прочел здесь в статье Абрамиты.
– Хочешь на ужин отбивные? – спросила она.
Он равнодушно кивнул.
– И дураку ясно: разве можно соблазнить человека настолько невинного, что ему все равно, когда рядом разгуливает голая женщина?
– Ну а яблоко? – выпалила она.
– Ага! И как ты это понимаешь?
– Да просто яблоко, и все. Им же не разрешалось его есть, – произнесла она со всей горячностью женщины, знающей, что она не понимает того, что говорит, а потому должна сказать это как можно тверже. Но Джеки отныне уже не снисходил до подобных методов полемики. Он надменно сообщил ей, что этот вопрос оставлен открытым на Тридентском соборе. Айлин направилась к дверям с высоко поднятой головой и лишь у самого порога заявила с присущими ее полу непоследовательностью и необъективностью, что она бы посоветовала ему помолиться.
К ужину он успел немало. Прочел об акоймитах (они же Бессонные монахи) и решил, что у них мозги набекрень. Фундаментально обосновавшись на пройденной территории, приобрел много сведений, ранее представлявшихся ему совершенно недоступными, из статьи Брак,а также Прелюбодеяниеи Родство по жене или по мужу,поскольку статья Бракотсылала к двум последним. Когда Айлин вошла в комнату, неся ему на подносе ужин – две аппетитные отбивные котлеты и стакан портера с пышной шапкой пены, она обнаружила, что супруг ее снова задумчиво смотрит в окно. Он заметил ее, лишь когда она поставила поднос ему на колени, и спросил:
– А знаешь ли ты, что человеку не разрешается жениться на собственной теще?
– Твоя теща, – ледяным голосом ответила она, – уже семь лет в могиле. А когда она была жива, ты ей слова доброго за всю жизнь не сказал.
– Пойми, – возразил он ей любезным тоном, в котором так гнусно сплелись учтивость и снисходительность, что Айлин затрепетала от ярости, – я ведь не обсуждаю твою мать. Речь идет о каноническом праве.
Воздух с такой силой вырвался из ее ноздрей, словно паровоз свистнул.
– Ешь котлеты, пока не остыли, – сказала она и вышла из комнаты чинной походкой.
Майло Малви заглянул к ним около десяти выразить свои соболезнования болящему. Айлин посоветовала ему не тратить драгоценного сочувствия, ибо ее герой (так она его окрестила) просто землю роет от избытка бодрости. Она проводила соседа наверх, там он уселся на плетеный стул у кровати больного, сама же Айлин облокотилась на эту кровать. Майло держался бодрячком, как делают все, навещая больного.
– Ну, Джеки, старина! – с наигранной веселостью вскричал он. – Довели тебя до ручки медленные лошади и шустрые бабы? – И подмигнул при этих словах Айлин, опасаясь, что она неверно истолкует его слова.
– Майло! – Джеки говорил серьезно. – Ты действительно веришь, что тысяча ангелов могут уместиться на кончике иглы?
Майло уставился на него, затем вопросительно взглянул на Айлин.
– Вот так весь день, – сказала она. – Это из-за той книги, что ты ему дал.
– А она моя? – спросил Майло и наклонился, разглядывая мрачный черный том. – Где ты ее взяла?
– Попросила сегодня у Норин, на свою беду. Профессор, видишь ли, заявил, что ему хочется чего-нибудь почитать.
– Бедняга, – сказал Майло. – Хочешь, я тебе приволоку полдюжины детективов?
– Благодарю, – ответил Джеки, – но мне они не нужны. Я ни разу в жизни не читал такой интересной книги, как эта. Не считая той, о знаменитых преступлениях, которую ты мне давал в прошлом году, когда я болел гриппом. Но скажи, ты в самом деле – и учти, вопрос серьезный, – ты в самом деле способен поверить, что тысяча ангелов может уместиться на кончике иглы?
– Ты вдруг почему-то сильно заинтересовался религиозными вопросами, – недоверчиво пробубнил Майло.
– Для человека, – сухо уточнила Айлин, – который вот уже пять лет не ходил ни в молельню, ни в церковь.
Джеки приподнялся и, протянув руку, тронул гостя за колено.
– Майло! Можешь ты мне объяснить, каким к черту образом даже один ангел может устоять на кончике иглы, не говоря уж о тысяче?
– Ответь профессору, – прошипела Айлин.
– Ну, – начал Майло, немного смущенный и не вполне уверенный, что эта пара его не разыгрывает, – если ты серьезно спрашиваешь, то ответ, конечно, заключается в том, что ангелы – это в чистом виде духи. То есть, я хочу сказать, они способны проходить сквозь стены, сквозь полы и потолки. Я хочу сказать, у них ведь нет ни длины, ни ширины, ни глубины. Я хочу сказать, что они в полном смысле слова бестелесны.








