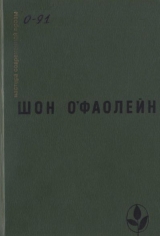
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц)
Деревня была в одну улицу. Я решил наведаться, во-первых, к учителю, сунуть нос в школьный архив, во-вторых, к священнику, посмотреть приходские книги. В то апрельское утро Каслтаунрош был безлюден, точно поставленная для меня кинодекорация. А может, и правда все это съемки? Вот сейчас скомандуют: «Разобрать декорации!» – и деревня рухнет? Школа нашлась сразу: новое, аляповатое строение, наверняка вполне удобное; на нем бы очень не помешал фарфоровый медальон, как в Италии, с фотографией снесенного здания. Учитель, по сравнению со мной, был просто рыжекудрым юнцом: едва взглянув на него и сообщая, что меня интересуют мои отроческие годы в Каслтаунроше, я уже понимал, что он мне ничего не имеет сообщить. Сметливый, бойкий, шустрый, толковый, с тремя авторучками в нагрудном кармане, он экономил мое время и не тратил лишних слов. Он всего-навсего вывел меня на крыльцо и молча указал через пустырь на заросший и безверхий каменный остов – очевидно, той приходской школы Каслтаунроша, в которой я учился. Зрелище это – для меня печальное, для него, разумеется, глубоко отрадное – разъяснило мне, что в его глазах я такой же обломок старины. Он развел руками.
– Увы! – бодро сказал он. – И у нас не сохранились архивы до первой мировой войны.
Смекалистый паренек! Взращен телевидением. Из правнуков йейтсовской «грозной прелести». Мигом усек и вычислил мой возраст. Он улыбнулся и предложил мне пройти дальше по улице к дому священника, где я, вероятно, застану отца Джеймса Карни, который читает «Айриш индепендент». Так оно и было. При виде человека немногим моложе моего во мне пробудилась слабая надежда на удачу. Как-никак лицом к лицу с Церковью, по сути дела в тринадцатом веке. Григорий IX. Святая палата инквизиции. Щуплый, низкорослый, опрятный, лысый, пучеглазый, приветливый человек, в отличие от учителя на диво расположенный к беседе, он вряд ли был особенно занят. Он предложил мне виски (это в одиннадцать-то утра) – в лучших традициях церковно-деревенского гостеприимства девятнадцатого века – и принялся деликатно и ловко выспрашивать, что я, как он полагал, знаю о себе (хотел бы я это знать) и зачем мне нужны его архивы. Я сказал ему, что навожу справки про отца и мать чисто из сыновних побуждений; он выразил полное сочувствие, только вряд ли архивы будут мне чем-нибудь полезны. Он взял шляпу и зонтик и повел меня в церковь, через улицу. Его комнатка за алтарем пропахла свечными фитилями и мастикой; пахнуло прошлым здешнего мира и смутными надеждами на нездешний. Он потер ладони, словно с мороза.
– Янгер? – размышлял он, водрузив на нос новомодные очки в пластмассовой оправе и вытаскивая пару увесистых фолиантов, вроде конторских гроссбухов. – Фамилия мне незнакомая, но я здесь всего лишь тринадцать лет. А ваша метрика шестидесятипятилетней давности. Ничего, сердца горе, проникнемся надеждой, у нас есть точная дата, значит, главная трудность позади. – Его ручонка бережно перелистывала страницы судеб, и он бормотал себе под нос. – Тысяча восемьсот девяносто восемь… Тысяча восемьсот девяносто девять. Тысяча девятьсот. Вот мы и у цели. Январь. Февраль. – Он нарочито остановился и высморкал носик. – Вы знаете, в феврале – марте крестин просто-таки не оберешься. Июньские свадьбы. В прошлом месяце я семерых крестил. Март? Вот и март. Ну-ка, ну-ка. Родились, вы говорите, семнадцатого марта. Хорошее число, легко запомнить, день святого Патрика. Крещены, как у вас там по бумажке, марта 20-го. Давайте посмотрим! – Его сморщенный пальчик аккуратненько проехался по странице и застыл. – Да вот же! – радостно воскликнул он, а я, склонившись над его рукой, увидел свою фамилию. – Янгер!
Он помедлил, нахмурился, обратил очки ко мне – наши лица были за несколько дюймов, – глаза его расширились, брови поднялись, а рот подобрался почти в комическом недоумении: он тыкал пальцем в найденную строчку.
– Тут близнецы. Вы, согласно метрике, Джеймс Джозеф, а другой – Роберт Бернард. – Он отпрянул, взглянул на меня поверх очков и словно что-то заподозрил. – Вы мне про брата Роберта ничего ведь не сказали?
– Роберт умер, – поспешил заверить я. – А мне только и нужно проверить дату, имена родителей, и хорошо бы еще узнать, где они тут жили. У вас, я вижу, написано, что они обитали на Главной улице.
Его нижняя губа выпятилась по-лошадиному. Он снял очки, задумчиво подышал на стекла, протер их, посмотрел на меня, как преподаватель, не желающий обескураживать ученика, от которого ожидал лучшего ответа, и с грустным оживлением сказал, захлопывая гроссбух:
– А вот мы иначе попытаем счастья. Тут у нас есть один старичок, такой Айк Смит, ему будто бы восемьдесят два. Это значит, он родился в 1883-м и, когда вы появились на свет, был уже семнадцати лет от роду. С ним стоит поговорить.
Мне бы уж давно махнуть рукой, но я намертво вцепился в клочок Собственной Жизни, который, как я все же чувствовал, или, вернее, надеялся, застрял в моем лживом досье. Ведь настоящих близнецов – и это мне было откуда-то известно: журналисты знают понемногу обо всем, – так вот, настоящих близнецов порождает одно оплодотворенное яйцо, а не два, синхронно развивающихся; и поэтому судьба одного из порождений очень просто может оказаться зеркальным отражением судьбы другого.
Далеко идти нам не пришлось. С церковной паперти его преподобие указал зонтиком на черепахообразное существо, то бишь на согбенного в три погибели старика; с помощью двух палок он не столько шел, сколько перемещался по пустынной Главной улице. Одолевая фут за футом, он, видимо, жертва старческого артрита, ни единожды не опустил свою черепашью головенку к земле, по которой, бывало, расхаживал гоголем.
– Ходить он не может, – заметил мой провожатый. – Не слышит и не видит. И обоняние вряд ли сохранил. Ну, палки свои, наверное, как-то осязает. Вкус ежедневно ублажает пинтой портера. Раз в месяц приходит ко мне исповедоваться. Я вам, разумеется, не скажу, в чем он мне исповедуется, – знал бы в чем, тоже бы не сказал! Одно скажу: держаться от него надо подальше, а то заплюет – на это он мастак.
Мы подошли, остановили его, и служитель божий заговорил так громко, что каждое слово наверняка достигало ушей за всеми безликими окнами. Это скрюченное черепахоподобие было двадцатидвухлетним парнюгой, когда мне шел шестой год; и никогда больше ему не будет двадцать два, а мне будет – со временем. Его сдавленный голос, шамканье и местный выговор были для меня совершенно невнятны, и я едва ли разобрал слово-другое из тех, что он проквакал в ответ на выкрики священника, но тот, должно быть, понял больше, потому что общались они долго, подхихикивая и жестикулируя; наконец патер обрадованно пожал ему клешню, шепнул мне: «Дайте ему шиллинг» – и, когда я расстался с монетой, принял меня под руку и взял на себя дальнейшее.
– Дело в шляпе, мистер Янгер. Отыскалось ваше детство. Разузнали мы немного, но, может быть, этого достаточно.
Мы двинулись по пустой улице; он чему-то хихикнул про себя, но подавил смешок и обратил мое внимание на новейшие «доделки» и «перестройки», с виду неотличимые от всего прежнего. Вскоре он пожал мне локоть, приглашая остановиться на краю тротуара и взглянуть на противоположную сторону широкой улицы. Не сводя с меня глаз, он едва заметным кивком указал на пивную, над которой возвышались четыре жилых этажа: дом сверху донизу был выкрашен в такой отчаянно красный цвет, что выделялся наподобие небоскреба.
– Айк Смит говорит, что при вашем отце он был зеленый.
И действительно, я различил на красном зеленоватые пятна, точно зеленая исподница сквозила в прорехах алого платья.
– Посмотрите на вывеску, – прошептал он с каким-то, на мой слух, непонятным злорадством. – Не мешало бы ее подновить. Хозяина зовут Данагер. Айк Смит говорит, если присмотреться, так из-под Данагера видна другая фамилия. И правда: вон «Я», вон прежнее «н». Видите? Когда Айк Смит бегал, задрав штаны, у этой пивной было два хозяина, два брата. Боб Янгер, наш дядя. И Джеральд Янгер, наш папа. Вот оно, мистер Янгер, то древо, от которого отскочила наша щепка.
Я не мог понять, почему он вдруг стал вести себя с ехидцей: ну да, я, конечно, дошлый задавака из Дублина, а он дошлый задавака из коркских; и еще он мог подумать, вот я испрашиваю его помощи в своих розысках, а сам что-то от него таю, – так ведь и таил же, а утайка всегда подозрительна для священника, равно как и для полицейского: уяснив это, я заодно кое-что сообразил и на свой счет.
– Ну? – настаивал я. – Айк не только это сказал.
Его преподобие помялся, поколебался, не выдержал и выдал, насмешливо-добродушно:
– Айк Смит говорит, что лет с полста назад в один прекрасный понедельник хвать – а наших предков нет как нет.
Он прямо-таки ликовал. На следующем званом обеде у своих он «всем этим» – пока только неясно было чем – вволю позабавит духовных лиц.
– Давайте, давайте, – сердито сказал я. – Сыпьте, я подберу.
И там же, на краю тротуара, состряпалась у него побасенка о том, как дублинский простак приехал в Корк с расспросами и думал обморочить здешний народ.
Оказалось, что мой дядя Боб знал за собой одну слабость, до времени сокрытую; отец же мой имел другую слабость, и она дала себя знать не ко времени. Дядя Боб был всего-навсего братом официального владельца пивной и, стало быть, в глазах завсегдатаев «Зеленого хмыря» лицом второстепенным; по натуре он был не столь добродушен, как мой добродушный отец, и завсегдатаи не слишком его жаловали; а он был из тех, что долго терпят втихомолку, зато уж как их прорвет, так только держись. «Не ладят», – говорили завсегдатаи вроде Айка Смита, разумея, конечно, жуткое обоюдное молчание, а не случайные перебранки. Бобу, само собой, требовалось между молчанкой и перебранками как-нибудь выпускать пары, и разрядка его принимала самую невинную форму – он спорил на фартинги. Не на полупенсы, не на пенни, не на трехпенсовые монетки, не на шестипенсовики, не на шиллинги и уж никак не на что-нибудь покрупнее (дядя был человек бережливый до скупости) – нет, только на фартинги, на четвертиночки пенса, искушение самое что ни на есть пустяковое; но его добродушный брат по широте своей натуры терпеть не мог этих жалких грошей и вводил его в искушение, брезгливо сбрасывая несчастные фартинги в жестянку на полочке возле кассы.
– Ага, – лениво говорил завсегдатай, глядя в окно, – вот и первая муха в этом году.
– Не-а, – отзывался Боб, широким движением ладони обмахивая стойку, – это не муха, а мухарь.
– Еще чего! – возражал завсегдатай. – А то я мух не видал!
И если в пивной было еще человека два (в удачные дни набиралось и больше трех), то кто-нибудь из них – а в удачный день и другой-третий – вступали в спор, всегда переча Бобу, чтобы раззадорить его, пока он не скажет;
– Ставлю фартинг, что это мухарь.
Такие азартные пререкания приятно будоражили публику, немного разгоняли желчь Боба и радовали моего отца, избавляя его от фартинга-другого, но вместе с тем и раздражали его своей никчемной мелочностью, и это раздражение опять-таки нравилось публике. Боб выкладывал фартинг, размером в точности со старинный полсоверен, а мой отец переставлял дребезжащие бутылки на полках, случалось, даже наливал себе в утешение четверть стаканчика виски. Наконец однажды он вмешался. Неизвестно, о чем заспорили – то ли об имени предпоследнего папы римского, то ли о том, Шеридан или Голдсмит написал «Школу злословия», то ли насчет имен президента Крюгера – Иоганн он Пауль или Стефан Пауль, то ли про евреев, постятся они или нет, – но отец мой вдруг сказал дяде Бобу: «Ставлю шесть пенсов, что ты неправ». И всем на удивление – то есть всем, кто был в пивной, а потом, когда весть разнеслась, и всей округе на пятнадцать миль от Каслтаунроша, – Боб сунул руку в карман, достал шестипенсовик и выложил его на стойку.
Жест был символический. Боб явно вознамерился раз и навсегда показать, что он владеет пивной на равных с братом, и если Джерри готов так вот напропалую рисковать крупными деньгами, то пусть уж все знают: разоряет он не себя одного, а целую семью. Завсегдатай, который начал спор – будь то о Крюгере, папе римском, евреях или «Школе злословия», – спокойно и неумолимо повысил отцовскую ставку до шиллинга. Отец тут же пошел на флорин и хлопнул полный стакан виски. У дяди Боба выбора не было. Бледно-зеленый, как мятный леденец, он покрыл братнин флорин своим, кинулся наверх за энциклопедическим словарем двадцатилетней давности и, вернувшись с сияющим видом, положил раскрытую книгу на стойку. Он выиграл спор. Преисполненный неизведанным торжеством, он собрал выигрыш, бросил монеты в кассу и поставил всем по стаканчику, а моему отцу даже двойное виски. С этого дня дядя Боб заделался выжигой и выпивохой и превзошел брата в популярности, а народу в «Зеленом хмыре» стало собираться больше, чем в любом из прочих семнадцати кабаков Каслтаунроша.
– В этом доме, – сказал его преподобие, глядя на красный небоскреб с бледной прозеленью, – был притон вроде Монте-Карло, один на весь Блэкуотер, от Мэллоу до Каппоквина, пока однажды хмурым зимним утром оба наших дружных предка не отбыли в неизвестном направлении. На скачках они разорились.
Он пожал мне локоть, сочувствуя столь омерзительно, что я спросил как нельзя холоднее:
– А что сталось с той жестянкой, куда мой отец сбрасывал презренные фартинги?
Его это явно обидело – как я и рассчитывал. Хотя с чего было обижаться? Случалось ведь, что и священники отталкивали друг друга своей холодностью (сексуальной?). Словом, я стоял, смотрел на пятнистый дом и пытался увидеть себя, увидеть пяти-шестилетнего мальчугана, выходящего из подъезда со школьным ранцем за плечами. Напрасно. Никто не вышел со мною. Ни с кем я не расстался. С дружками не встретился. Боги не обманули. Прожить заново прежнюю жизнь можно только заодно с прежним миром.
Я кое-как выпутался из сплетенной моим пастырем-Вергилием паутины подвохов, любопытства и дружелюбия; от той велеречивой болтовни, за которой каждый из нас скрывал свое ощущение общей неудачи, у меня в памяти осталась только его последняя фраза (он то и дело сжимал мне руку, точно надеясь выведать всю правду у моего пульса): дескать, мои родители, очень может статься, покинули Каслтаунрош, еще когда мы с братцем пребывали во младенчестве. Я было почуял и тут недобрый намек: вот, мол, они, Янгеры, были, да все вышли, с тем и возьмите. Потом я подумал: нет! Он это по-хорошему разумеет. Просто советует не очень огорчаться пустым номером в Каслтаунроше. Человеку, который хочет познать самого себя, надо пройтись по всем своим возрастам. Я поблагодарил его за любезность. Он надулся и пошел восвояси. Я возвратился к своему старенькому зеленому «вулзли» и покатил из деревни. Проехав милю, я остановился, приобнял баранку, уронил голову на руки и потерял сознание.
Я очнулся с пересохшими губами. Стекла машины запотели – духота. Кругом расстилалось поле, усеянное камнями, словно огромными градинами; нависало пасмурное небо. Когда поверенный сказал мне, что я не Джеймс Янгер, а Роберт, надо было смириться. Теперь, заглянувши в приходские книги, мне стало уж вовсе незачем гоняться за воспрещенными воспоминаниями. Но мог ли я, взрослый человек, принять пустую и безличную жизнь? Я стиснул зубы, забрался назад в свой «вулзли» и поехал дальше воевать с ветряными мельницами и винными мехами.
Короче. Нужна ли опись неудач? Я видел могилу Бриджет Олден. Читал некрологи в «Экзаминере». «Ее безутешный муж Джеймс Янгер». Наведывался в Ассоциацию виноторговцев. Справлялся в налоговых ведомостях. Посещал церковь за церковью. Боги, должно быть, позевывали, взирая на мою мальчишескую неуступчивость.
В Корке ли, в Дублине, в Лидсе, Шеффилде, Колчестере и в Лондоне – нигде не обнаружил я никаких убедительных признаков былого существования того или иного Янгера, хотя живо узнавал улицы, дома, кафе, вокзалы, города и городишки, театры и парки. Память настроений или переживаний, связанных с этими местами, уносилась от меня, точно шипящая пена от винтов полуночного парохода. Что до моих сподвижников в жизненных действах тридцати-сорокалетней давности, то я, как и было обещано, там и сям встречал знакомых Могильщиков и Вестников: например, старуху домовладелицу в Лидсе, которая шамкала: «Ну, та-та-та, как шейчаш помню, как ше, миштер Янкер. Или Янк его звали? У него еще была такая беленькая шобаченка. У вас была шобачка беленькая? Нет! А может, его Онкер звали? Янкер, говорите. Ох, память совсем отшибло…» Или в Колчестере – болтливый бодрячок, бывший наборщик: «Чего, как вы сказали? Это всего-то сорок лет назад! Погодите-ка. Стойте. Да, конечно, я вас помню. Ну да. Янгер, молодой совсем. Мы, бывало, соберемся в „Коте с кошечкой“ и давай над ним подшучивать: вот, мол, любитель пива „Янгер“! Неплохая шутка, а? Ах ты, господи! Ух-ху-ху! Ну, мы же тогда и хохотали. Да, дела! Сколько лет, сколько зим! Что, по-прежнему любите пиво „Янгер“»?
Зачем бы я стал ему говорить, что, пока был молод, в рот не брал ничего слабее виски с содовой?
Завершила поиски неделя в Лондоне. Напоследок случилось нелепое происшествие – оно-то меня и доконало; а может, я просто вконец выдохся. Наверно, это меня, упрямца, слегка одернули по указке с Олимпа. Опробованы были все мыслимые контакты и адреса, список исчерпан, осталось только зайти в пивную возле «Иннер темпла». Я отправился туда и с первого взгляда убедился, что и там все поросло быльем. Квартал начисто разбомбили, пивную заново перестроили.
Только что кончился обеденный перерыв, и там был один краснолицый, мрачноватый бармен без пиджака, в цветастом жилете; он молча раскупорил для меня бутылку «Гиннесса». Я сказал, привычно и без особой надежды, что когда во время войны работал в «Дейли мейл», то частенько захаживал сюда и заедал тот же «Гиннесс» бутербродом с колбасным эрзац-фаршем. Держа бутылку в руке, он оглянулся на дверь, помолчал, затем все-таки соблаговолил выговорить пару более или менее приветливых слов:
– Давно на покое?
– Пять лет, – соврал я. – А вы-то что ж? Тоже играли бы себе в кегли да растили георгины.
Он сморщил нос, и я решил, что на этом конец нашей дружеской беседе. Тщательно и сноровисто нацедив по стенке портеру мне в стакан, он, однако, не сразу опустил его на стол, а, задумчиво глядя перед собой, сказал: «С эрзац-фаршем!» – и расхохотался. (Все-таки англичане, au fond [6]6
Здесь:в сущности (франц.).
[Закрыть], очень добродушные люди.)
– Да нет, – рассудил он, признал, щуря глаз, – не то чтоб я так уж натерпелся в войну. К бомбежкам и к тем притерпелся, чего там. Даже в ту ночь, когда здесь, – он красноречиво повел пальцем, – все взлетело на воздух, и то обошлось. Я в ту ночь дежурил на крыше собора святого Павла – уполномоченный гражданской обороны. Помните, когда они раздолбали Сити? Теперь-то страх подумать, а тогда – хоть бы что. Стоим мы четверо рядком у желоба и смотрим вниз. Одни отбомбятся, другие летят. Район Сити весь полыхал. У меня с войны что в памяти засело? Вот вы сказали, эрзац-фарш – это раз. Еще та ночь, грохот и пожары – это два. И третье – что я увидел наутро, когда пришел открывать заведение, – он кивнул вбок, и я поглядел через плечо на вмурованный обломок голой кирпичной стены, ровненько обведенный красным, белым и синим и с шляпой-котелком посредине на крючке. – Шесть квадратных футов кладки, этот вот котелок и груды щебня, только балки торчат. Мы когда стали все заново перестраивать, решили сохранить кусок стены и повесить шляпу – ну, чтоб ясно было, что нас так просто не возьмешь.
Тут вошли двое молодых парней-маляров в белых спецовках, и он занялся ими. Я посмотрел на часы. У меня было время прогуляться, уложиться, пообедать и поспеть к ирландскому почтовому на Холихед, а оттуда пакетботом в Дан-Лэре: поутру буду завтракать дома, возвратившись ни с чем. В общем молчании я допил свой стакан, слез с табурета, сказал «до свидания» и, по заведенному обыкновению, прибавил: «Будем знакомы – Янгер». Бармен взвился, как мальчишка, и повелительно крикнул: «Стоп!» Я удивленно обернулся. Разве я не заплатил?
– Вы сказали «Янгер»?
– Да.
– В войну, говорите, работали в «Дейли мейл» и сюда захаживали?
– Дд-а-а.
– Вас не затруднит передать мне эту шляпу? – он указал на принадлежность истории.
Я неохотно снял с крючка и протянул ему шляпу, густо запыленную сверху. Он перевернул ее и показал на внутренней кожаной ленте полустертый золотой готический шрифт: Р.Я.
– Инициалы ваши?
Я покачал головой. Если эта шляпа моя – ох и расхохочутся боги, послав мне ее в награду за то, что я совался в каморку Синей Бороды и в пещеру Аладдина, что норовил куснуть запретное яблоко. Я бормотал, мол, мало ли: «Р» – Ричард, Родрик, Руперт. «Я» может быть Янсон, Якоби, Ярроу, Ярдли, – а однажды я брал интервью у такого – Ясиро. И вообще я никогда не носил котелок.
– Примерьте, вдруг подойдет, – распорядился он, и оба маляра глядели, как я примерял пыльную шляпу. Не отмщение богов это было, а было это их последнее, заключительное предупреждение. Шляпа оказалась так велика, что наползала на уши. Один из маляров заметил:
– Нее-ат! Это нам не Золушка!
– Сами видите! – обрадованно сказал я. – Не моя.
Миновав Бувери-стрит и суматошную Флит-стрит, шагая по Стрэнду к Чарринг-Кроссу, я решил сдаваться и тихо проговорил: «Сдаюсь». Едва я произнес эту уступительную формулу, как некая дверь отворилась и потом затворилась: точно кто-то зашел в комнату, поглядел на меня и удалился. По наитию я пересек Стрэнд возле метро, вышел на Трафальгар-сквер и разгуливал там, пока не оказался посреди площади, спиной к Национальной галерее. Я был в глубоком рассеянии; меня огибали какие-то автобусы, фургоны, такси. Из-за облаков струился мягкий летний свет и озарял в вышине спину статуи. Я задумался о том, что меня всегда занимало в карьере Нельсона: о решающей роли случая в его жизни с той поры, как двенадцати лет от роду он попал на флот; и тут, пожалуй, настало время заметить, что если кому-нибудь, не исключая и меня, доведется читать это мое жизнеописание, описание второй моей жизни, лет через десять или двадцать, то от всего предыдущего легко может остаться впечатление, будто интересовался я в своих скитаниях только собой. Ничего подобного. Это вовсе не так: попутное узнавание, даже и ненужное, много раз дарило мне живую радость, и я наслаждался воспоминаниями, пускай безличными и бессвязными. Роскошное собрание прерафаэлитской живописи в Манчестере; лодки возле Королевского Солентского яхт-клуба в Ярмуте, куда я наезжал во время оно из Колчестера; болотистые пустоши за Шеффилдом, где я частенько шатался в одиночестве субботы-воскресенья напролет; в Лидсе и то нашлись излюбленные местечки, не говоря уж о Лондоне, в котором я провел столько отрадных лет. И в свой последний лондонский день я собирался завернуть в Национальную галерею и заново поглядеть на несколько любимых картин, особенно кисти Гейнсборо; я опустил глаза от силуэта Нельсона на могучем столпе к ближнему фонтану, и вдруг мне было явлено драгоценное видение прошлой жизни.
Вода в каменной чаше просияла тревожно и странно, точно под первыми лучами рассветного солнца. Зыбкая, сеющая брызги струя фонтана стала радужным предвестием конца грозы. На водяной ряби возникло знакомое лицо, лицо той А., которую через несколько дней мне вновь представят как Ану ффренч. Я даже обернулся направо – посмотреть, не стоит ли она рядом; и понял там и тогда, что, как я давным-давно слабо надеялся и подозревал, у каждого мужчины и у каждой женщины есть иная память, которую я теперь называю ночной, память, затаенная под ярким покровом дневной достоверности прошлого. Эта память идет оттуда, где зарождаются все мифы, она изначальна и первозданна, она животная, как инстинкт кошки в саду, на которую я сейчас смотрю и которая подскребает за собой землю, усердно и тщательно зарывая свой помет – точь-в-точь тигрица на заре веков, кошачья родоначальница времен доэдемского безмолвия. Никакая сила, божеская или человеческая, не может вполне заглушить эти подсознательные отзвуки, столь же внятные, сколь и загадочные, доносящиеся с какого-то НЛО воображения, который по-стрекозиному парит над обрывом вечности. Клянусь тем фонтаном, что впредь буду внимать только такому неслышному лепету и никогда больше – горластым оракулам богов.
Я повидал портреты Гейнсборо, выпил по старой памяти сухое мартини в «Кафе ройял», вкусно пообедал в Сохо, поспел на ирландский почтовый. Поздним утром, сделав кой-какие холостяцкие закупки и возвращаясь к себе в Росмин-парк, теперь густолиственный и цветущий, я краем уха уловил еле слышный лепет, неразборчивый за уютным стрекотаньем газонокосилки. Лишь возле моей белой ограды он снова донесся, как последнее «мяу» котенка с дерева. Я расслышал слово «Занзибар». Я много раз повторил его: оно не связывалось ни с чем, даже с Африкой или Мадагаскаром. Я догадался, что, должно быть, прочел его на какой-нибудь табличке у садовой калитки, по пути мимо «Мелифонтов», «Чаттертонов», «Иннисфри», «Джиллджо», «Мадженты» и «Мадонны». Но почему привязалось именно это слово?
Зайдя в свой палисадник, я увидел у соседнего дома лимонный «ягуар» и рядом с ним знакомую великолепную блондинку: она неловко перебирала в правой руке ключи от машины, прижимая левым локтем к бедру внушительный плоский сверток в коричневой бумаге. Яна, супруга Януса, двуликого божества – один лик спереди, другой сзади, – покровителя всех начинаний. В тот первый день она овеяла меня сандаловым благовонием. Тогда она показалась мне моложе. Нынче она выглядела зрелой тридцатипятилетней (ей столько и было) женщиной, для меня-то, старика, á la fleur de sa jeunesse [7]7
Во цвете юности (франц.).
[Закрыть]. Она бы дивно смотрелась верхом – хуже нагая или в купальном костюме: слишком плотно сложена. Голова желтая, как златоцвет; неяркие глаза, дымно-серые или дымно-голубые, темные ресницы – все это было мне памятно еще с первой нашей встречи. Я поздоровался.
Старикам легко завязывать знакомства с молодыми. Для них мы все – иностранные туристы, публика безобидная, пока не заримся на их будущее за неименьем своего. Наше надлежащее время – давно прошедшее. Мы выглядим смешно или нелепо, если притязаем на равенство с ними – в страстях, например; мы омерзительны, если заподозрены в половой жизни после сорока лет. Ишь какие мы живчики! А им в святые покровители годится Гамлет, юнец, который, сам изнывая от вожделения к своей ровеснице, вдруг обнаружил, что его мать, почтенная пожилая дама лет сорока или около того, уважаемая в придворных кругах, оказывается, тоже способна вожделеть. Он взревел: «Лед горит!» – и поклялся дотла изничтожить мировое зло – любовника матери, свою возлюбленную, ее отца, своих школьных приятелей, себя и весь свой род. А не лезь в запретные области, оставайся расплывчатой тенью человека, отжившего в свои пятьдесят с лишним лет, – и в этом качестве знакомься с молодежью сколько хочешь.
Она рассмеялась в ответ на слова старого джентльмена, который умильно представился как новосел в этом парке. Она сказала, что «уже» все знает обо мне.
– В нашем закоулке, представьте, всегда и всем «уже» известно все про всех и каждого.
Умная молодая женщина, живая и дружелюбная, она легко подбирала слова, однако я заметил, что говорить-то она говорит и в глаза смотрит, но нижние веки ее подергиваются, а щурится она так близоруко, словно разглядывает что-то вдали. Будь я молод, я бы не упустил случая сказать: «Да, ведь мы же навернякас вами где-то встречались? Может быть, в Иден-Роке или в Брайтоне?» А так она сама это сказала. Я покачал головой, зная, что в то мартовское утро моего второго рождения она меня не заметила.
– Разве что, – предположил я, – вы человек здешний и видели, как я приезжал и уезжал?
– Мы этот дом купили только в марте. Маляры и прочие с неделю назад кончили работать. Но это, вы знаете, мое первое собственное жилище в Ирландии, и я все не нарадуюсь. До сих пор я ведь жила в Англии и в Нью-Йорке, в Берлине и в Париже. Училась живописи. Мой муж скульптор. Так что если мы и встречались, то не иначе как очень давно. Да нет! У меня такое странное чувство, что я еще девчонкой видела раз или два кого-то очень на вас похожего в доме моей матери. На Эйлсбери-роуд, номер 118?
– Я уверен, – сказал я, пока не уверенный ни в чем, – что никогда не был знаком ни с кем из тех избранников судьбы, которые обитают на Эйлсбери-роуд. А как звали вашу мать?
– Ее зовут, – с ударением, – Ана ффренч, два строчных «ф». А наша фамилия – Лонгфилд. Непременно как-нибудь заходите на рюмку хереса. Ух ты!
Воскликнула она так потому, что за разговором отыскался нужный ключ, она повернулась к машине и задела своим плоским свертком за серебристый фонарный столб на краю тротуара. Шутливо отдуваясь, она поправила сбившуюся обертку.
– Это подарок ко дню рождения матери, ее портрет, написанный много лет назад. Ей сегодня исполняется шестьдесят пять, узнала бы она, что я об этом болтаю, тут бы мне и конец. Она выглядит чуть не моложе меня.
В угоду старому джентльмену она, прежде чем сунуть картину на заднее сиденье, приотвернула коричневую бумагу.
– Это был черный художник.
Она уселась за руль и взялась за дверцу, но захлопывать ее не спешила.
– То есть как черный? Вы говорите – черный художник?
– А, ну да. Конечно, он же был врач, приехал подучиться. Гинеколог-вольнослушатель; вот мой отец, Реджинальд ффренч, – тот настоящий гинеколог. И художник он был ненастоящий – так, баловался на досуге. Откуда-то с Конго, что ли, или с Танганьики? Я в географии дура дурой. Ой, надо мчаться. С Занзибара, кажется.
Она хлопнула дверцей, включила зажигание, улыбнулась мне и дала газ. Видимо, недавно прошел дождик – на месте машины осталась пыльная полоса. Лонгфилд. Ана ффренч. По струне памяти придвинулись, точно бусины, другие слова, рядом, но порознь. «Регина». Яхта? Отель? Это, кажется, в колчестерские времена, на морской прогулке из Хариджа мне было сказано, что если у кого хватает денег на яхту, то должно хватать и скромности, чтобы называть ее лодкой. Если есть своя лодка – она тоже лодка: «Трое в одной лодке». Скользнуло слово «Ницца», озадачив меня. Вернулся откуда-то «Лонгфилд», но оказался священником. Эйлсбери-роуд – пустые слова, зато Ана – фонтаны, чайки. Я пошел к себе в дом, пустой и затхлый, ни письма на коврике, ни даже счета; включил обогреватель, налил виски. Неделю назад я бы пустился по следу. Теперь нет. Фешенебельная публика на Эйлсбери-роуд вечно устраивает всевозможные приемы: выставки лошадей, дипломатические рауты, собачьи выставки, воскресные завтраки с хересом. Если я был там по какому-нибудь такому случаю, то непременно в качестве журналиста, что называется, в числе прочих. Я нашел фамилию в телефонной книге: Реджинальд ффренч, скромное Д. М. [8]8
Доктор медицины. – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть], Эйлсбери-роуд, дом 118, Дублин-4. Положим, я позвоню старушке? И положим, она соизволит меня принять?








