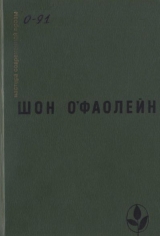
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
– Мы очень близко подошли к младенчеству отца нашего Боба-два, Джимми Янгера. Как ты, наверно, помнишь, его отправили в Ирландию к деду с бабкой, и он прожил у них до конца войны, до 45-го. Брайди Янгер умерла, заметим, в 45-м. Муж ее – годом позже. Куда было девать мальчонку? Старик Стивен говорил, что он взял его к себе – «естественно», раз Джимми, по его словам, его собственный сын от Кристабел Ли.
– И ты ему веришь?
– Да нет, верить выдумкам Стивена уже не приходится, но дело за доказательствами. Надгробие деда и бабки Джимми само по себе мало что доказывает.
– А почем ты знаешь, что под этой могильной плитой лежат те самые Янгеры?
– Я просмотрела отчетность по Акту об обязательной прививке оспы за 1863–1879 годы. Деду эта обязательная прививка была сделана в городе Лисморе на Блэкуотере, то есть, сам понимаешь, совсем неподалеку от Каслтаунроша. Я прогостила там в свое удовольствие денек-другой, расспрашивая о Янгерах. И надумала заодно уж проверить в Корке, была ли оспа привита малышу Джимми Янгеру.
– Оспа ему не была привита, – вдруг проронил я.
– Как ты сказал? – встрепенулась она.
– Я спросил. Оспа ему не была привита?
– Я правильно догадалась. Когда деду прислали ребенка, он тут же повел его на прививку. В регистрационных записях 1941 года значится мальчик Джеймс, сын Роберта Янгера, проживающего по адресу Шеффилд-авеню, 10, Фулем, Лондон. Прививку сделал Патрик Хейс, офицер медицинской службы.
Дальше я не посмел расспрашивать.
Боб-два уехал-таки в Соединенные Штаты, а она все копалась то в Генеалогическом ведомстве, то в Таможне. Над чьей корпела родословной? Только в марте решила она расширить розыски. Разве любовь бывает такой бестолковой? Потом-то эта задержка объяснилась очень просто – оказывается, он сначала хотел посмотреть, будет ли взрастать его генеалогическое древо ее попечениями. Потом он открыл на ее имя крупный счет в местном отделении Чейз-Манхаттан-банка и разрешил расходовать на поездки сколько понадобится, буде таковые, по ее мнению, «плодотворны». (Вот и делец, а хороша бестолковщина!) Помню, с каким видом она мне это сообщила: задумчиво, в ясных глазах пусть и снисходительное, а все же презрение, мягкие губы поджаты, правда, не настолько – настолько-то никогда не бывало, – чтобы исказить нежный очерк ее пухлого рта, как бы притвора тайного святилища, светлого внутреннего мира девушки, которая упорно ищет и твердо надеется обрести веру в прошлое и в будущее. Сиянье это блеснуло въяве, когда я через несколько месяцев спросил, как ей не жалко времени на чужие забытые жизни? Она не рассмеялась. Она улыбнулась моей глупости – или своей собственной?
– Я хочу составить пятифутовый свиток жизнеописаний, уводящих все глубже и глубже в прошлое. Я уже добралась до твоего прапрадеда. Как ты думаешь, почему Янгеры оказались в этой ирландской глуши, в деревушке графства Коркского, чего их сюда занесло из Корнуолла, который они покинули еще не знаю когда, может быть, много сотен лет назад? Они служили управляющими у герцогов Девонширских, владельцев большого замка в Лисморе, на берегу Блэкуотера, за десяток миль по течению от Каслтаунроша. Прежде замком владел лорд Каслхейвен, граф Оррери, сиятельный граф Коркский, тот самый парнишечка по имени Бойл, который явился в Ирландию в шестнадцатом веке, имея за душой кольцо с печаткой и чековую книжку, – и сказочно разбогател. До него земля принадлежала сэру Уолтеру Рэли. Еще раньше – графу Мортону. Давным-давно, в седьмом столетии, здесь был монастырь, и датчане приплыли по Блэкуотеру на своих ладьях и разграбили его. Напоследок здесь закрепились герцоги Девонширские, Кавендиши; в Ирландии у них были еще четыре поместья. Твоему деду с братом как-то удалось отхватить маленький земельный участок к западу от замка, у самой границы Коркского графства. – (Подразумевались мой дядя и отец, любители ставить шестипенсовики на мух, загадивших окна их кабака.) – Они на пару открыли в Каслтаунроше свое заведение: кабак пополам с мелочной лавкой. Меня это особенно заинтересовало: Каслтаунрош почему-то напомнил мне Банахер и старый дом в Угодье ффренчей, куда я ездила девчонкой к матери на отдых. Или лучше сказать, – ехидно поглядев на меня, – чтобы рассеять ее одиночество?Хорошо бы построить обратную перспективу прошлого – воскресить память о нем, былые традиции, семью, вывести родословную, пусть не мою, пусть чужую. В поисках Янгеров я напала на след семьи ффренч и дошла аж до лондонской родни моей бабушки Аны ффренч.
Я завистливо слушал: мне бы хоть десятую долю этого знать о собственном прошлом! – и, под влиянием ее живого интереса к своим и его предкам, я впервые понял и прочувствовал, до чего важно Бобу-два выяснить все что можно о своем отце, о Джимми, и мне одновременно хотелось отдать ему Джимми – и оставить себе своего сына, ветвь моего древа, мое повторение. Так что, когда мы наконец снялись с места и поехали сначала в Лондон – остановились мы в гостинице «Кадоган», той самой, где был арестован Уайльд, – мне было ничуть не менее важно снова увидеть дом Аны в Кью, чем ей перекапывать архивы Сомерсет-хауса; правда, она сразу принялась меня расспрашивать, где я в Лондоне жил да почему я не женился, да разве мне не хотелось завести семью, да где здесь жил мой брат; и любопытство ее было мне лестно, однако я его не поощрял, чтобы не открывать доступа к своей сокровенной сути: ведь если исчезнет хранительный кокон тьмы, если все станет видно насквозь, то что останется от меня – от любого мужчины, от любой женщины?
– Я начинаю понимать, – сказала она мне однажды, – что за радость писать чью-то биографию и шаг за шагом, от слова к слову, от буквы к букве вникать во внутренний мир людей, прежде знакомых тебе только по имени. Вчера это стало мне особенно ясно: я просматривала письма близких друзей к моей матери в самую яркую пору ее жизни.
Она опять-таки с ехидцей взглянула на меня, явственно намекая, что были там среди прочих и мои письма, а мне мучительно перехватило сердце: у меня, оказывается, уже есть свой маленький колумбарий, хранилище отчетливых воспоминаний – Ана на Фицуильям-сквер, Ана возле фонтанов, Ана в Лондоне или, давным-давно, в Кью-Гарденз, Анадиона в Банахере или на взгорьях Уиклоу, – и я спросил, не нашла ли она каких-нибудь старых снимков матери или бабушки, но, по счастью, все, какие у нее были, Ана мне уже когда-то показывала; и вдруг она сказала:
– Мне зато подвернулась связочка личных писем Аны. Там одно любовное письмо, – она засмеялась, – шестидесятилетней давности, когда они с моим дедушкой Реджи каждое лето разъезжали на яхте по Средиземному морю. Видно птичку по полету. Судя по снимкам, лет в двадцать-тридцать она была изумительно хороша.
– Жаль, что мне не довелось знать Ану ффренч – ну, то есть твою бабушку.
– Надо тебе показать это письмо, тебе будет очень интересно. Оно получено от любовника в 1930-м. Необыкновенное письмо. Про то, как она согласилась дать мужу ложные улики для развода. А написал его не кто иной, как твой отец, Роберт Янгер. Ты знал, что твой отец был когда-то влюблен в мою бабушку?
Как, должно быть, хохотали над нами боги за портвейном и сигарами! Нескоро сообразил я, что мне только кажется, будто я ее сопровождаю, а на самом деле она ведет меня за собой; я-то думал, что она с головой ушла в семейную хронику – свою, Реджи, своего отца Лесли, Аны ффренч, Боба-два, – а она тем временем доискивалась, почему я о себе ничего не знаю. Она сделала стойку и хотя след не взяла, но подвох почуяла. Тут надо еще учесть, что ей до странности свойственна старомодная, полудетская романтика, недаром она, вообще-то ироничная и колкая, в мгновение ока становится живым подобием тех мечтательных, непокорных и чувствительных, нередко обманутых и даже поверженных молодых женщин 1840-х и 50-х, знакомых нам по тогдашним романам, особенно русским, женщин, которые заявляли что-нибудь вроде: «Я хочу знать, устояла ли душа его в жизненных бурях, знать его убеждения и сокровеннейшие мысли, знать, кем он станет, что сделает из него жизнь», – а это все вовсе не по-нынешнему; так что, если бы и не было рабочего повода заниматься мною в связи с платным поручением Боба-два, я все же глубоко заинтересовал бы ее как личность. Естественное любопытство к чужой жизни? И это, конечно, тоже, но за этим что-то попритягательнее. Не это ли в 60–70-х годах именовалось «ангажированностью»? Нет, еще сильнее: я могу лишь назвать это повелительным желанием, жгучим, как страсть, желанием предаться безраздельно.
Примерно об этом говорили и вид ее, и поведение, когда она, прочесав до конца перечни лондонских мертвецов в Сомерсет-хаусе, привела меня дождливым вечером в конце апреля на огромное пригородное кладбище за Ричмондом-на-Темзе. Царило безлюдье; одинокий могильщик, скупо улыбнувшись, сообщил, что здесь лежат 46 000 покойников. Перед нами тянулась срединная аллея, широкая, прямая, пустая. Я подумал, что такому кладбищу особенно пристало имя божьей нивы – ровный строй беломраморных плит с неуместными вкраплениями гранитных, пирамидальные кипарисы, темные, точно могильный тис, редкие розовые бутоны по сторонам, безмолвие. Его не нарушал гул пригородного движения за дальней оградой, беспрестанный и безразличный. За кладбищем виднелись красные черепичные крыши. Один только раз послышался звук – невидимый самолет прогудел за низкими тучами. Она сказала, что нужная нам могила – в другом конце кладбища, но обитателя ее не назвала, пока она не отыскалась между Берторелли, Ландовскими, О’Хейганами, Девлинами. Мне казалось, что меня куда-то влекут, заводят в сонмище внимательных теней. Внимание их было мертвенно, как тлеющий желтый отсвет справа, у края низких, предгрозовых небес: с моря надвигалась непогода. Мы наконец остановились по разные стороны могилы номер 17 на участке под четким индексом 23 Р. Желтый блик скользнул по черному мрамору и зажег золоченую высоченную надпись:
Здесь покоятся бренные останки
Кристабел Янгер
из Ричмонда в Суррее
1903–1941
а также
ее возлюбленного супруга
Роберта Бернарда Янгера
из Каслтаунроша в Ирландии.
Мир праху их
Себе на удивление я беззвучно произносил: «Отче наш, сущий на небесах, / Да святится имя Твое, / Да будет воля Твоя / Как на небе, так и на земле. / Хлеб наш насущный дай нам на сей день, / Прости нам долги наши, / Как и мы прощаем должникам нашим, / И избавь нас от лукавого». Сумеречно осветились под землей бледные черты высокой женщины, высокой, как тополь, и стройной, как трепетная осина, голубые глаза ее были воздеты ко мне, белозубый рот осклаблен, и не видение, а тело – такое жаркое, нежное, душистое, милое, знакомое на ощупь, что не знаю, как я не бросился ничком на травянистый холмик над нею. Прозвонил колокол.
Я неуверенно поднял глаза. Нана глядела на меня из овала косынки, как настороженный черный дрозд. С этой минуты я был уверен, что она все знает, но боится понять мою тайну. Внезапно к лицу ее прихлынула кровь, и она крепко, спокойно и ясно овладела собой.
– А-ага! – рассмеялась она. – Я вдруг поняла, в чем дело. Твой отец сделал то же самое, что и мой дед – Анадиона мне говорила – после смерти жены. Высек свое имя на ее надгробии. «Чего там, уж заодно», – горько сказал он. Смешно: обломки яхты нашлись, а тело так и не отыскали. Представляешь, надгробие – и то врет! Да, а ты заметил, что рождение и смерть твоего отца на камне не обозначены?
– Он умер в 1965-м, – заверил я.
Прозвонил колокол.
– А колокол, – весело сказала она, – призывает посетителей оставить мертвецов в покое. Раз уж мы пока что живы, пойдем промочим горло где-нибудь поблизости.
Мы вышли с боковой тропки на срединную аллею и медленно двинулись к выходу, когда она обернулась и посмотрела назад. Свет был обманчивый, торчали обелиски, и не угадать было, стоит ли кто-то у могилы моей жены или у соседней, но одинокая фигура показалась знакомой. Она подхватила меня под руку и быстро повела к воротам. Стоянка машин пустовала, и кремовый «мерседес» бросился в глаза. Мы пошли искать вожделенное кафе поблизости, и я холодно осведомился, что ж она не поговорила с приятелем.
– Я даже не знала, что он в Лондоне.
– Бестактный вопрос: а вы с ним в Лондоне уже встречались?
– Не встречалась я с ним в Лондоне ни сейчас, ни прежде. Однажды случайно видела на Стрэнде, выходя из Сомерсет-хауса: он как раз туда направлялся. Кажется, он меня не заметил. У меня такое чувство, что он неотступно следит за мной. Доверяй-но-проверяет. Я ему говорю: еду в Манчестер. Приезжаю – а там разгуливает то ли он сам, то ли его подобие. Я ему говорю: побывала в Колчестере. Раньше или позже обнаружится, что он либо сам съездил в Колчестер, либо кого-нибудь туда послал.
– Да в Колчестер-то зачем?
– Потому что ты сказал в отеле «Шелбурн» или где-то еще, что твой отец умер в Колчестере. Вот он и решил, что ты, может быть, там родился.
– А что ему дался мой отец?
– Он хочет знать о своей родне все до последней мелочи. И о каждой мелочи получить подтверждение. Во все раны вложить персты. Прямо одержимость какая-то. Я ему целое полотнище расчертила, вроде китайского какемоно, а он все недоволен. Я однажды не выдержала и говорю: «Я тебе докладываю буквально обо всем». А он: «Ну, ты, конечно, извини». В тот раз мне его даже стало жалко. Он сказал: «Ты пойми, я хочу избавиться от ощущения, что мне суждена жизнь с двумя тупиками. Ладно еще – тупик в конце. Но в начале – это уж слишком, как это так – не знать, откуда ты взялся? Между рождением и смертью, как между двумя глухими стенами. Так нельзя. Так невозможно. Точно незаконнорожденный. Всю жизнь доискиваться: кто? почему? когда?» – Она остановилась и подняла на меня глаза. – Зря я это рассказываю.
– Отчего же?
Она повлекла меня дальше. В полутемном кафе мы взяли два виски и уселись за столик. Поспели мы как раз вовремя. Земля померкла, небеса содрогнулись, и гроза со взморья разразилась летним ливнем, захлестнувшим кладбище и окна кафе.
– Ну так, – хмуро сказала она. – Хватит с меня этой работы. Не могу больше. Для него – не могу. Он-то считает, что я могу, но я не хочу.
– А чего ему еще нужно?
Она взглянула на меня исподлобья.
– Ему нужно выяснить все про тебя.
– То есть?
– Да я тебе говорила. Когда ты родился и от кого. Это единственное белое пятно на моем какемоно. Он хочет видеть твою метрику. Когда я тычу пальцем в какемоно и говорю ему: «Вот где-то здесь», он просто бесится. Ему надо знать точно. Ну, а я тебе не гробовщик и не повитуха.
– Спрашивай! – сказал я. – Спрашивай, что хочешь. Я тебя ни в чем не обману.
Она покачала пышноволосой головой и сказала:
– Нет, тут не «что хочешь». Тут нужно все или ничего.
– Да что значит «все»?
Она посмотрела на окно в дождевых подтеках. И бросила мне:
– Твоя метрика.
– Зачем?
Она опять взглянула на завесу ливня – и решилась. Окунула палец в стакан с виски и медленно провела влажную линию на белом пластике столешницы. С расстановкой обронила три капли и терпеливо, даже чересчур терпеливо, принялась объяснять.
– Номер один. Стивен Янгер. Так? Два. Дж. Дж. Так? Три. Роберт Бернард. Верно? Все трое родились в Каслтаунроше, соответственно в 1895-м, 1900-м и 1900-м. Свидетельствуют приходские книги. Р. Б. в 1930-м женился в Лондоне на некой Кристабел Ли. Свидетельствуют архивы Сомерсет-хауса. В 1936-м – согласно тем же архивам – у них рождается ребенок, Джимми. Джимми отправляют в Ирландию к его деду Джеймсу, когда в точности – неизвестно, предположительно в 1941-м. К этому времени мать его умерла – архивы Управления кладбищ. Известно, что в 1941-м оный Джимми находится в Ирландии на попечении своего деда Джеймса Янгера. Запись о прививке оспы. К концу второй мировой войны дед с бабкой умирают, после чего осенью 1946-го мальчика отправляют в Соединенные Штаты к его дяде Стивену Янгеру. Списки американского Управления иммиграции. Мальчик достигает совершеннолетия и в 1960-м женится на некой Анне Сэйкс из Далласа, штат Техас. Архивы министерства здравоохранения, отдел регистрации, город Остин, штат Техас.
Снова смочив палец, она провела отвесную линию, обозначая следующее поколение.
– В 1961-м у них родился сын, названный при крещении Робертом Бернардом Янгером, наш общий друг и владелец «мерседеса» цвета кофе со сливками: сейчас он либо смотрит на нас в окно, переодевшись полицейским, либо подавал нам виски, переодетый монахиней.
Она развела руками в знак вопроса.
– Ну и что? – ощетинился я, чувствуя за спиной разверстые зевы кладбищ, как сказал Гамлет и как повторяют за ним мириады борзописцев вроде меня. (Какому журналисту под силу выдумать этакий образ!)
Она улыбнулась виноватой улыбкой палача. Топор обрушился.
– Ну, и откуда же ты берешься?
– А это ты мне скажи, – отозвался я, по-мальчишески рассмеявшись.
Она опустила глаза на стол и медленно стерла Стивена Янгера.
– Чокнутый! – сказала она. Потом стерла моего брата-близнеца, Дж. Дж. – Бездетный. – Не поднимая головы, она расплющила указательным пальцем соседнюю капельку, Б. Б., то есть меня, и поглядела на меня из-под густых рыжих бровей.
– Вот здесь, Бобби, ты мог бы отпочковаться от древа Янгеров, но тогда бы тебе был сейчас девяносто один год. Или здесь, если ты старший брат Джимми Янгера, но тогда тебе было бы не меньше пятидесяти семи. Или еще здесь, в качестве старшего брата Боба-два, но тогда бы ты был американским гражданином лет эдак тридцати. Никаких подтверждений этим двум последним возможностям мы не нашли, и Боб-два, со своей обычной доскональностью, нанял одного из виднейших британских специалистов по генеалогии, пожилую леди по имени Эми Пойнсетт – с единственной целью розыска любых документов где бы то ни было, которые засвидетельствуют твое существование между 1930-м, когда твой отец Б. Б. женился на Кристабел Ли, и 1936-м, когда от этого брака родился Джимми.
– А почему не послетридцать шестого?
– А потому что Боба-два волнуют только ближайшие родственники его отца. Скажем, его старший брат или старший сын.
Я раскрыл рот, чтобы задать вопрос. Она ответила на еще не заданный:
– Бобби! Неужели ты думаешь, что он не жалеет ни хлопот, ни денег из чистого интереса к своим предкам?
– Пф! Эти ностальгические заокеанские ирландцы…
– Так он тебе и примчался из Техаса: а вдруг, дескать, не зря? И швыряет деньги псу под хвост? Повел платные розыски в Америке, нанял в Ирландии меня, а в Британии – мисс Пойнсетт? Ты на его счет очень заблуждаешься, Бобби. Он – американец в третьем поколении. И техасец. Он не из какого-нибудь ирландского землячества. У него нет националистической жилки. Что ему земляки – он сам по себе выбился в люди, богат, независим. Предками он интересуется так, между прочим. Без малейшей ностальгии. А что он производит другое впечатление, – сердито отрезала она, – так это притворство, наигрыш, маскировка!
– Чего ради?
Она точно увещевала мальчишку.
– Да чтобы скрыть, в чем дело. А дело в том, что его отец Джимми Янгер умер вдовцом и не оставил никакого завещания. Мне Эми Пойнсетт сказала на днях. И будь ты старшим братом покойного Джимми Янгера или же старшим братом его сына Боба-два – мог бы, как ближайший родственник, претендовать на большие деньги.
– А по-твоему, кто я такой?
– По-моему, тебе и правда может быть сорок лет, как ты говоришь. Но поскольку ты точно не назвал ни отца, ни места рождения и твое появление на свет никак не подтверждается документально, то я вынуждена заключить, что ты – внебрачный ребенок. В таких случаях редко можно выяснить что-нибудь, кроме фамилии матери – Смит, Джонс, Томпкинсон, Мэрфи, на любой вкус: в Государственном архиве их видимо-невидимо. Если у тебя нет в запасе каких-нибудь аутентичных подробностей твоего раннего детства и нет на примете ни единого, опять же аутентичного, родственника, кроме приемного отца, то мне остается один вывод: что ты возник из пустоты. Чьи это слова об утраченной памяти: «Дурная пустота засасывает мир»? Или же ты…
Ее открытый взгляд приглашал меня заговорить. Я не посмел. Она мягко положила руку мне на запястье, посмотрела в окно и сказала:
– Дождь кончился!
Грозу унесло к северу. Свежие лужи отливали холодным блеском закатного солнца. Дорога сверкала. Возвращаясь в «Кадоган», мы почти все время молчали; там ее поджидал вызов. Мисс Лонгфилд просят срочно связаться с мистером Р. Б. Янгером-младшим, проживающим в гостинице «Коннот». Обедал я в одиночестве. Она вернулась поздно, раздраженная и огорченная. Мисс Пойнсетт откопала еще двух Янгеров, чьи годы рождения примерно подходили, хотя особых надежд на успех, пожалуй, не было: одного – в Ньюкасле-на-Тайне, другого, кто бы мог подумать, в Остенде. В угоду мисс Пойнсетт она согласилась проверить оба варианта. Он пожелал сопровождать ее на север. Они поедут в его машине.
Когда мы через десять дней свиделись в Дублине, она относилась к нему совсем иначе. Поддалась его обаянию. В Ньюкасл они съездили неплохо, в Остенде было ужасно, зато по Парижу она его поводила в свое удовольствие. Кстати же, оба следа, как и предвидела мисс Пойнсетт, никуда не вели. Другими словами, я был для него не опасен: не из его родословной. Кристабел Ли умерла, по моим же словам, за много лет до моего рождения. Я не годился по возрасту в старшие сыновья Джимми Янгера: он женился через много лет после моего рождения. В признательность за работу Боб-два подарил ей прелестные золотые часики-браслетку и пригласил на июнь погостить у него в Техасе, с оплатой всех расходов. У меня не было случая расспросить ее об этом щедром (?) предложении. Нам вообще не удалось ни о чем переговорить, она была слишком занята: решив сдать квартиру внаем, она прибирала ее, препоручала агенту-посреднику и снаряжалась в Париж вперед на зиму, чтобы как можно скорее возобновить занятия, прерванные смертью матери. Она управилась в двадцать четыре часа, и я снова остался наедине со своими страхами, подозрениями, а иногда чуть не отчаянием.
Во время ее пробега через Дублин мне почудилось, что с того дня на кладбище она не к добру переменилась. То ли я так чувствовал, то ли она и правда явилась в новом свете, вроде того нимба или ореола вокруг моего уличного фонаря, когда с берега наползает туман, и в фонарном сиянии из окна не различишь сердцевины-лампочки. Какая-то она стала самоуверенная с оттенком дерзости, резкая, решительная, напористая, собранная, как всадница перед долгой, трудной скачкой через двойные канавы и барьеры в пять жердей: и при всей этой отрывистости, небрежности, беспечности у нее был наглухо замкнутый вид, точно в душе у нее шла тайная схватка между, может статься, прошлым и будущим, между ею прежней и такой, какой она сделалась или решила сделаться. Что ее угнетало? Из-за меня это или из-за него? А может, просто Париж так подействовал! Она ни намеком не обмолвилась. Я, естественно, подумал, как потом оказалось, неверно, что он сделал ей предложение, и боялся, что она в лучшем случае не спешит его принять – затем и техасский вояж в июне. Я только и надеялся, что умолчать об этом было не в ее характере, она сказала бы в открытую. Ну что ж, она залетела и упорхнула птицей – вот уж неподходящее сравнение для такой крупной женщины! – а я, проводив ее глазами, вернулся к мрачному финальному ощущению, что либо я нарочито отодвинут, либо спокойно отвергнут. И все-таки даже в этих двадцати четырех часах была своя прелесть: я любовался тем, как задорно и молодо она занята собой, как сосредоточенно занята пустяками, хотя при виде ее милой хлопотни мне еще больше хотелось быть с нею и еще труднее было без нее оставаться. Одному на Росмин-парк мне не жилось.
Все решилось нежданно-негаданно, и события обернулись так, что он решил за всех троих. Он позвонил мне однажды утром, ближе к полудню, из Коллинстаунского аэропорта, что задержится в Дублине до завтра или послезавтра по пути в Техас. Я тут же пригласил его на ленч к себе в клуб. Это был совсем другой Боб-два – куда ровнее, дружелюбнее, без наскоков и подвохов; но зачем он пожаловал в Дублин, было, само собой, по-прежнему неясно. Он значительно, хоть и бегло, упомянул об ирландских рудниках – может быть, и недаром, но ни в тот день, ни на следующий горнорудные дела явно не занимали его мыслей и не отнимали у него времени. Он вообще разговаривал с пятого на десятое, и в какой-то момент у меня возникло муторное чувство, что вот сейчас он предложит мне стать его «главным помощником» в Ирландии, только на этот раз охота пойдет не за мной, а за Наной Лонгфилд – так часто он заводил о ней речь, то есть так часто, что я все больше и больше смущался: неужели же двух взрослых людей хоть как-то связует один-единственный общий умысел, к тому же тщательно потаенный; если, конечно, умысел жениться на Нане Лонгфилд – общий у двух таких разных людей, как бывший ирландский журналист, полжизни прошлявшийся по редакциям британских провинциальных газет, и американский горный инженер, молодой воротила международного масштаба. Однако же, кроме Наны Лонгфилд, у нас с ним как будто ничего общего не было.
В первый день он предложил поехать из клуба на загородные взгорья; мы долго прогуливались по верескам Уиклоу и роняли отрывочные, вроде бы полуосмысленные фразы. (И прошли мимо ложбинки, где мы с Анадионой стали любовниками.) Потом вернулись в город, и он настойчиво пригласил меня пообедать с ним. На другой день мы опять поехали прогуляться за город, пообедали в деревенском кабачке, то и дело вспоминали Нану, а несколько раз безлично затронули общеинтересную проблему брака – и распрощались возле «Шелбурна». К этому времени оба мы знали, что друг у друга на уме, но я никак не мог взять в толк, зачем ему было задерживаться в Дублине – просто потолковать со мной? Осенило меня на другое утро, когда он позвонил мне, опять-таки из аэропорта – и то лишь после его мужского прощания: «Что ж, до свидания, Боб, пусть победит достойнейший». Очевидно, в своих отношениях с нею он натолкнулся на барьер еще более неодолимый, чем тот лес, который – это-то он сообразил – отделял теперь ее от меня. И в Дублине он остановился только затем, чтобы взвесить свои шансы, прикинуть, в чем мы похожи, чем отличаемся друг от друга. Захлебнувшись от радости, я поцеловал трубку. Она, значит, не сумела скрыть от него свои чувства ко мне.
Я понял и другое. Что с того грозового апрельского вечера на кладбище близ Ричмонда мы оба не могли к ней приблизиться не потому, что встречали на пути прочную и явственную преграду – рубеж, слово, стену. Я – безусловно, а думаю, что и он тоже распознал в ней тончайшую восприимчивость, обостренную душевную чуткость, какой мы до нее у женщин не встречали, – и это не исключая ее сверхчувствительную мать и ее несравненную бабушку, столь чуткую и проницательную. Именно это явствовало из наших разговоров, где она предстала такой отважной и чистой, что я понимаю теперь, как верно я видел в ней подобие героинь романов XIX века, в сиянии подлинности которых окружающие мужчины казались мелкими и жалкими. Соответственно она к нам и относилась в последние месяцы. Начал-то он хорошо. Он скукожился, когда она разгадала, что какой он ни приятный спутник, а всегда будет использовать ее точно так же, как использует всех остальных – как фишки в розыгрыше жизни на зеленом сукне. А меня она сочла таким скрытным, чтоб не сказать лживым, что я мог вернуть ее доверие только ценою полной честности, наравне с нею. За эти два дня прогулок и проверок мы с ним полупостигли, полусоздали возвышенный женский образ – икону, фигуру с величественных византийских фресок в Палермо или Равенне, преобразивших некогда живых людей светом сущности, и сущность эта воплощена для меня заново в телесном облике ныне живущей женщины по имени Нана.
После многих лет жизни с нею, познав все радости и притерпевшись ко всем изъянам нашего супружества, – как я считаю, сильно ли я преувеличивал в то утро, положив черную трубку и мысленным взором видя нашего молодого американца, как он уныло берет портфель и повинуется последнему, настоятельному призыву проследовать в самолет на Нью-Йорк и далее в Техас? Кто скажет? Самая неведомая женщина – эта любимая жена, любовница, дочь. Всех нас обманывает близость, привычка, а более всего – неощутимость перемен.
Я дожидался. По ее знаку мне придется решать, насколько я посмею приобщить ее к полной правде. В июне я послал ей поздравление из одной строчки: «С днем рождения, даже если ты сейчас в Техасе!» И получил в ответ цветную открытку, фотографию кафе и деревьев на Архивной улице, где, как мне предстояло выяснить, она угнездилась в тихой двухкомнатной квартирке на четвертом этаже, вход со двора. Открытка содержала одну строчку: «Покинуть парижское дивное солнце? Еще чего! Будь. Нана». Это «будь» вплотную поставило передо мной тот самый роковой вопрос. Как высказать правду, чтобы она не была отвергнута раз и навсегда с издевательским хохотом? Я было думал опять уклониться от ее вызова, но оказалось, что выбраться из моих затруднений можно, если добраться до ее собственных.
Я взял и прилетел к ней в Париж. Я разыскал ее. Мы смаковали кассис за уличным столиком кафе на углу Архивной улицы. Я понапрасну пытался так или сяк пробиться в ее цитадель. И наконец:
– Расскажи мне еще раз, – попросил я, – снова расскажи, когда ты, насколько помнишь, впервые обратила на меня внимание.
– Но я же тебе давным-давно это рассказала? Когда мне было тринадцать, ночью, в Банахере. Вряд ли мне было больше тринадцати. Да, конечно, тринадцать. В июне, под мой день рождения.
(Тринадцатилетняя девочка. Анадионе было сорок девять. Мне – пятьдесят.)
– Вот и расскажи снова.
– Поздно, к полуночи, ты явился в Банахер из Дублина, с запада или откуда ни возьмись. А может, и за полночь, потому что я уже уснула в комнатке возле спальни Анадионы. Вы меня разбудили: принялись ссориться. Я опять уснула. Вы меня снова разбудили: принялись мириться. Я задремала и проснулась оттого, что вы опять поссорились. Это уж было слишком. Ну вас к черту, подумала я, встала и прокралась по лестнице. Сняла цепочку с громадной двери, повернула громадный ключ, нашла свой велосипед и поехала к реке, к своей лодке.








