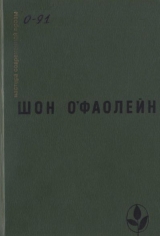
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц)
Она успокоилась, вернулась к камину, оперлась на мраморную доску, поставила ногу в вышитой туфельке на решетку и покосилась на меня через плечо.
– Как ты знаешь из этого письма, я уступила ему. Отчасти.
– Отчасти? Что значит отчасти?
– Дай-ка мне письмо! Хотя нет, не нужно. Я его столько раз читала, что могу цитировать наизусть. У тебя там театрализованный обмен репликами: «Я: Отчасти? Что значит отчасти? Ты: Пообещала сказать тебе, когда ты вернешься в отель, что согласна, и просить тебя прийти. А там уж тебе решать, останешься или уйдешь. Я: Даже этого не надо было обещать. Ты: Тебе случалось иметь дело с полоумным, который сверлит тебе живот револьверным дулом? Он был вполне способен спустить курок».
Если бы я сказала ему: попробуй выстрели, он бы не поверил, что я это всерьез. Я тогда еще не прибрала его к рукам. Через пару месяцев в Ирландии мы с ним ехали, он вел машину и за что-то меня пилил. Пилил, пилил, пилил, как последний хам. Я крикнула, чтобы он прекратил, я то я выброшусь из машины. Он брезгливо хохотнул мне в лицо, я распахнула дверцу и выбросилась. Не очень ушиблась, скатилась по травянистой обочине в какой-то пруд. Он был в ужасе. Я снова села рядом с ним и велела ему ехать домой и помалкивать. И с тех пор взяла над ним верх. Но тогда, в Ницце, до этого было далеко. И было еще одно, о чем я тебе упомянула: я испытывала к нему неизъяснимую жалость, ведь брак – это связь труднорасторжимая, и даже у таких ни в чем не схожих людей, как мы с Реджи, могли быть общие светлые воспоминания. Наконец, было и такое, о чем я тебе не упоминала, а это было самое главное: от его ухода до твоего появления я решала, решала и решала, что для меня важнее и дороже всего в жизни; решила, что свобода и что выведешь меня к ней ты. Так оно и случилось. Я свободна, уж об этом я позаботилась, – закончила она с яростным нажимом, – с тех пор я всегда была свободна. Благодаря тебе.
– Благодаря мне? – недоуменно.
Она указала на мое письмо.
– Последние три строчки на четвертой странице.
Я прочел вслух:
«Когда ты сказала, что у тебя и Реджи есть общие светлые воспоминания, я хотел было уйти. Сокровенные отношения мужа и жены – дело все-таки очень темное. Я сказал, что мне, пожалуй, вовсе и не стоит помогать вам расходиться, что я просто обязан уйти. Ты тотчас схватила меня за руку и вскрикнула: „Не уходи ни в коем случае, вдруг он вернется!“»
Головня вывалилась из камина. Я подошел, нагнулся за щипцами, положил ее обратно. Присев на корточки, я попытался опять перенестись на тридцать с лишним лет назад, очутиться в той полуночной спальне, но память вдруг заглохла, как глохнет радио из-за технических неполадок или помех в эфире – и остаешься перед немым приемником. Молчание затягивалось.
– И что же было потом? – спросил я у тлеющих углей.
В голосе ее послышалась улыбка.
– Ты остался. Я отвела тебе круглый столик у окна с настольной лампой. Поставила бутылку ирландского виски. И даже была глуповато, по-супружески довольна, что догадалась позаимствовать у Реджи «Алка-селтсера» и что для тебя нашлось уютное креслице, обитое зеленым твидом. «Вот, – сказала я строго, – и давай-ка оба попробуем заснуть». Выключила ночник и ждала, глядя на потолочный отсвет твоей лампы. Ты разулся и посмотрел в окно между занавесями: я знала, что ты видишь, потому что сама все время подходила к окну, ожидаючи тебя. Высокие фонари вдоль пустынной Променад-дез-Англе. Зыблющееся море. В порту сигнальные огни на невидимых мачтах. Le phare [14]14
Маяк (франц.).
[Закрыть]. Немного погодя ты прокрался в носках мимо изножия моей кровати – в ванную, запить пару таблеток «Алка-селтсера» холодной водой. На обратном пути приостановился. Я закрыла глаза.
– Ах, да! Да! – подхватил я. – Светлые пряди на обнаженном плече, как сегодня, – такие мягкие и легкие, что дохнуть на них страшно.
– Я открыла глаза. «Не спится?» – посочувствовал ты. «Сны замучали, – прошептала я. – Я их боюсь». Мы смотрели друг на друга.
– И твое бедро круглилось под тонкой простыней?
Зазвонил телефон на столике.
– Алло, Реджи, ты откуда, хотя что я спрашиваю? На девятнадцатой лунке? Да нет, все прекрасно, только уж ты, старичок, пожалуйста, не называй меня старушкой. Очень мило, что позвонил. Обедаем? Ну, я полагаю, как обычно, в ресторане аэропорта – где еще можно сносно пообедать в воскресном Дублине? Что бы им стоило не закрывать клубы по воскресеньям? В семь тридцать. Не опаздывай. Пока.
И продолжала, точно ее не прерывали:
– Ты вернулся к своему зелененькому креслицу, скинул пиджак, сорвал галстук, выключил настольную лампу. Я слышала, как ты скрипел креслом, ворочался, устраивался, шуршал. Потом опять зашелестели занавеси. «Что ты там увидел?» – адресовалась я к твоей спине. Вглядываясь в стекло из-под ладоней, ты сказал, что видишь огни яхты, покидающей порт. «В такую бы ночь плыть по заливу, – помечтала я вслух, думая об огнях Ниццы, мыса Ферра, Монако, Монте-Карло. – Вдвоем с тобой. И уплыть подальше». Ты недоверчиво спросил, лицом к окну: «У него правда был револьвер?» Я не стала отвечать. «А зачем, – настаивал ты, – ему в Монако?» – «Пить? Или играть в казино. Дез приглядит за ним». И объяснила, кто такой Дез: студент-богослов из Дублина, фермерский сын, почему-то ему прочат блестящую будущность. Какие-то у него, что ли, семейные связи по духовной части, ирландский залог династической карьеры, а сам – острослов, отличный ездок, обжора, слывет очень даровитым; он третий в нашем экипаже. Ты вернулся в свое кресло. Я не засыпала и думала, как ты в другом конце темной спальни думаешь обо мне, как я лежу в темноте на белой постели под тонкой белой простыней и волосы разметались по плечу. Как говорится, время шло, и вот ты опять зажег свою настольную лампу. Я услышала твои осторожные шаги: ты подошел ко мне. Я подняла на тебя глаза. Ты смотрел на меня. Теперь или никогда? Ты опустился на колени. Я не шевелилась. Ты откинул край простыни и сказал: «У тебя колено как белая чаша». А потом… Ну, мы все-таки, наверно, ненадолго заснули, проснулись и стали шептаться – словно опасаясь чьих-то ушей, – а потом говорили и говорили, и из всех разговоров я помню только, что ты сказал, что не можешь встретиться с человеком, доверие которого ты обманул, что тебе надо уходить из отеля и уезжать из Ниццы первым шестичасовым поездом, что мы непременно увидимся в Лондоне, и я сказала: «Да-да! Только сразу напиши, чтобы я знала, на каком я свете».
Она взяла у меня мое письмо, спокойно вложила его в конверт, встала и досказала давнюю историю.
– Горничная, по договоренности, явилась в семь часов и с жадным любопытством оглядела комнату. Я сказала: «Il n’y а personne» [15]15
Здесь никого нет (франц.).
[Закрыть]. Она подняла брови и пожала плечами. Я заснула как убитая. Реджи нагрянул часам к десяти и буквально растолкал меня. Он был выбрит, напомажен, благоухал тальком и одеколоном, свежий как огурчик, в белом костюме, веселый, довольный жизнью, готовый к морской прогулке, с зеленой спортивной сумкой, набитой, как всегда, походным барахлом. Я сказала: «Боб Янгер уехал по делу обратно в Лондон». Он озадаченно потер лоб: «Кто? А! Он ведь с нами обедал вчера вечером? Старушка, боюсь, что вчера вечером я был слегка навеселе. Помню только, что поехал в Монако с Дезом Мораном, он же отец Дез, а там, глядишь, и монсеньор Дез, кардинал Дез, папа Десмонд».
Он плюхнулся поперек постели, забрыкал ногами и разразился долгим жизнерадостным хохотом – прыскал здоровьем, да он и сейчас такой. Я глядела на него с изумлением и, теперь прямо скажу, очень испугалась, что он совсем спятил, а он сел, подался ко мне, развязал сумку и вытряхнул на меня из ее круглого отверстия денежный ворох – фунтовые, пятифунтовые, десятифунтовые кредитки вперемежку с французскими банкнотами.
– Это все тебе, дорогая! – заорал он, хохоча, комкая бумажки и пригоршнями подбрасывая их в воздух. – В казино выиграл. Я у них там банк сорвал. Пятьдесят тысяч фунтов! И все твои, до последнего пенни. А уж как я их выиграл, не спрашивай, не помню ни одной ставки, вообще ничего не помню, кроме того, что всех кругом поил шампанским. Пьяный был, как зюзя! Пятьдесят тысяч – понимаешь, что это значит? Если их толком поместить, ты на всю жизнь обеспечена. Что мы за чепуху с тобой мололи про развод! Хватит. Живи своей жизнью, старушка, а я буду жить по-своему и тебе не помешаю. Путешествуй, радуйся, красуйся, можешь хоть завтра выписать в Ниццу свою мамашу, как бы ей полезно было развлечься…
Я вдруг заметил, что она исподлобья смотрит на меня – не пристально, а скорее виновато. Или это моя вина отразилась в ее глазах?
– Как видишь, Бобби, я и на сей раз уступила. Не сразу. Но в конце концов я приняла от него эти пятьдесят тысяч фунтов.
Она протянула мне конверт с письмом, написанным на пароходе Кале – Дувр.
– Я получила твое письмо через два месяца. В Дублине. Оно изрядно погуляло по свету.
Я взглянул на голубой конверт. Он был несколько раз переадресован. Я адресовал его «Мадам ффренч, отель „Руайяль“, Променад-дез-Англе, Лондон». Она взяла письмо обратно.
– То ли слово «Англе», то ли белые скалы на горизонте, то ли твоя усталость тут виною, только написался у тебя «Лондон». А в Лондоне далеко не всякий почтовый служащий знает, где находится Променад-дез-Англе. И отелей с таким или подобным названием в Европе наберется десятка два. Удивительно, как оно меня вообще нашло. А я перестала ждать через шесть недель. Ты ведь мог и сожалеть о той ночи. Ты однажды говорил мне, что без пяти минут помолвлен. Я не собиралась ползти к тебе на коленях. Да и чего ради ломать тебе жизнь? Мало ли с кем случится переспать! К тому же я была беременна.
По голосу ей никак нельзя было дать шестидесяти лет; это был голос молодой женщины, закаленной жизненным опытом. В глазах светилась ясная решимость. И зубы сжаты.
– За долгие шесть недель я столько решений напринимала! Подождала бы еще две, получила бы твое письмо – и поняла бы, что у тебя те же мысли. Но оно запоздало. Я взяла деньги. Я хотела ребенка. Я решила, что сумею его уберечь, сумею построить свою жизнь и указать Реджи его место. Все это мне удалось. А от тебя я получила из Лондона прощальный подарок – печатное приглашение на свадьбу, такую, грустно сказать, серебристо-серую открыточку. Она пришла через три месяца после Ниццы.
Я не мог ни принять этого умом, ни воспринять чувствами: это было неизмеримо, непредставимо, непоправимо, невосполнимо. Это была притча, фантазия, миф, оперное действо, в котором играл кто-то другой, а может быть, и игралось что-то другое, вовсе не моя жизнь. А она смеялась, смеялась торжествующе и насмешливо, точно Кармен, и не настолько я оторопел, чтобы не понять, почему и над кем она смеется, – лицо мое было, вероятно, красноречиво; и оторопь не помешала мне заметить, что смеется она без всякой горечи.
Тут половину я, конечно, додумываю задним числом. Тогда, в миг откровения, у меня на языке вертелись сразу три вопроса, и первый из них я почти выкрикнул. Какой же это был эгоистический вопрос!
– А моя жена?
– Кристабел? Она была изувечена и ослепла при ракетной бомбежке Лондона. Помучилась и не выжила. Это я узнала от тебя в 45-м, когда – верь не верь, но такое должно изредка случаться – мы снова встретились у фонтана на Трафальгар-сквер вечером в День победы. Ты меня упустил два раза; на третий удержал. Ночь мы провели в твоей квартирке на Чок-Фарм. Наконец-то боги явили нам благосклонность.
Свой третий вопрос я задать не рискнул. Это, собственно, была дюжина вопросов вокруг одного, главного: «Неужели и тогда – опять – было слишком поздно?» Успеется, подумал я. Именно тут почему-то нужна была особая сдержанность, и оба мы ее соблюдали, точно негласный заговор молчания ради любви.
Вернувшись вечером в свой коробчатый домик, который после хором на Эйлсбери-роуд казался двухъярусным поездным купе, я уткнулся лицом в ладони и навзрыд заплакал о своей безликой, стертой из памяти, когда-то любимой жене, нищенке, лишенной грошовой подачки воспоминания от былого возлюбленного; а он, без сомнения, много-много лет назад приветствовал ее девизом всех влюбленных: Incipit Vita Nuova [16]16
Начинается новая жизнь (лат.).
[Закрыть]. Мое второе рождение, как выяснилось, оплачивается в числе прочего мукой, неведомой первопроходцам жизни, – взрослым пониманием, что всякая радость совсем не такова, какой впоследствии предстанет в памяти. Бедный ты мой призрак, может статься, теперь я гораздо нежнее к тебе отношусь, чем при жизни; и все же многим ли из твоих незабытых призрачных сестер дана твоя власть – исторгать слезы забвения?
Видел ли я ее лицо в своем фотоальбоме? Если видел, то оно было таким же чужим, как моя зубная щетка. Однако же она посещала меня в знаменательных сновидениях. В ту первую ночь, улегшись в слезах, я сразу крепко заснул и был разбужен около четырех рассветным птичьим гомоном. Я опять уснул, в объятиях своей навсегда безликой жены, и несколько часов ощущал ее присутствие. Оно оставалось влажным следом волны на песке, покуда я на следующий день не рассказал свой сон по телефону Ане. Я рассказал ей, что мне снилось, будто я сижу в пустом купе, а вагон одиноко стоит посреди бескрайней болотистой равнины в центральной Ирландии; состав отцепился и уехал, а до того у меня была спутница – моя жена в маске, с ребенком на коленях. Я очнулся от этого виденья, вдвойне отвергнутый, брошенный, покинутый своей Иокастой. Дослушав, Ана рассмеялась и спросила: «Что ты знаешь о своем отце?» Я сказал, что ничего не знаю, но предположительно он был изрядный выпивоха. «А ты зато изрядный трезвенник», – заметила она. Но разве в пустом вагоне, стоящем среди голой равнины, мне должно привидеться непременно скрытое маскойлицо?
Я знал, разумеется, что, если спрошу у Аны, в какую церковь ее приглашала серебристо-серая открытка, она, поразительно памятливая, вспомнит, в какую. Но что мне с того толку? Ну, съезжу я туда – и, как в Каслтаунроше, окажется, что всякий след былого давно простыл, а меня опять провели за нос. Да и нельзя было ждать от нее полной и неукоснительной правды о чем бы то ни было из нашего общего прошлого. К примеру, об Анадионе. Если бы я спросил: «Почему же ты мне не сказала?», она бы ответила: «Как, я говорила…» Или: «А зачем бы это?» Или: «У меня были свои соображения».
Под конец я перестал сомневаться в тех или других ее воспоминаниях, но, честно говоря, не потому, что предался ей душой и телом, – была причина и попроще. Однажды я подошел к своим полкам, где все книги расставлены в строгом алфавитно-тематическом порядке – как выяснялось на каждом шагу, я человек очень собранный, – и вот она, сразу нашлась нужная книга. «Прощай, оружие!» в первом английском издании. Я открыл начало – и увидел зеленую настольную лампу, услышал прибрежный переплеск бухты Ангелов, легкий, словно ее дыхание. «В тот год поздним летом мы стояли в деревне в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали голыш и галька, сухие и белые на… [17]17
Перевод Евг. Калашниковой.
[Закрыть]» Голубой листок, разорванный надвое, выскользнул из книги. «Дорогой Бобби, он уехал… номер 351. Ана». Этот клочок бумаги, подброшенный к тому немногому или многому, что она мне поведала, вконец отбил у меня охоту к запретным припоминаниям. Никогда и ничем не подарит меня мое прошлое, кроме как ниткой разрозненных бусин.
И все-таки однажды, на третьем году нашей обновленной жизни, я, конечно же, попробовал задать свой третий, решающий и предпоследний вопрос, с которым столько промедлил.
– Ана, а почему даже тогда было слишком поздно? Ну, понятно, мое письмо заблудилось и запоздало, но ведь и тогда, если б ты только написала, я примчался бы к тебе.
Она ответила неподражаемо высокомерно:
– Когда пришло твое письмо, я уже была совсем иначе настроена.
Что прикажете делать? Единственно помнить, что напряженное страдание леденит сердце. Может прохватить морозом за одну ночь. А уж с нею-то, смею заверить, это могло приключиться вмиг и безвозвратно. И пустилась она в жизненное плавание как миссис Реджинальд ффренч, под пиратским флагом на страх встречным и поперечным. Когда я задал ей свой вопрос, она положила мне на руку пухлую, нежную ладонь и мягко сказала, читая мои мысли: «А ты, Бобби? Тебе-то как жилось?» Я ответил ей последним вопросом: «Ну, а для Реджи ведь это была невозможная новость? Совершенно сокрушительная?»
Я, конечно, недооценил ее хватку и решимость – но вот сверкнули огни рампы, показалось воздетое лицо дирижера, грянула увертюра. Si ben mi ricordo… Зачем ему это было знать? Я рассчитала по-своему. Ах, Роберто! A quai partito m’ha ridotto [18]18
Что за роль мне была уготована! (итал.)
[Закрыть]!
– На обратном пути из Ниццы я остановилась в Лондоне и сообщила папе о своих «радостных» подозрениях. Он сразу послал меня на прием к приятелю-гинекологу в больницу св. Фомы, и тот успел позвонить ему прежде, чем я вернулась домой. Папа встретил меня поцелуем, смешком, шуточкой и заздравным бокалом. «Итак, малышонок ффренч?» Он был счастлив, мама сияла, и я мгновенно сообразила, как мне быть дальше. Ночью в письме Реджи я изложила свой дивный план. Хорошо, бог с ним, с разводом: но зато я возьму в Лондоне приемыша и привезу его в Дублин как своего ребенка. Пока что пусть он там всех оповещает, что я наконец-то enceinte [19]19
Беременна (франц.).
[Закрыть], а уж в марте дело будет за мной. Но больше никому ничего, и с декабря я в Дублин ни ногой.
Он воспарил и на радостях не собирался ни во что вникать: увидел себя в центре великолепной картины. Бесплодная жена бездетного гинеколога, о счастье, забеременела, а ее больная мать не чает дождаться внука. Конец и начало, смерть и рожденье, саван и пеленки, ночь и рассвет, свершенье и гордость – да и выгода, будьте уверены, не забыта! Но для меня-то – что за imbroglio [20]20
Передряга (итал.).
[Закрыть]! Перед ним мне надо быть плоской как доска. Перед дублинцами – ломать с ним на пару шутовскую комедию, якобы подушки подвязывать. А папе с мамой требовалось – ну, это-то пожалуйста! – чтоб я была круглая, как бочка. Но им тоже ведь нельзя было рассказать всю правду, и я велела им скрывать мою беременность от Реджи. Они ушам не поверили. Я настаивала, они колебались, и тогда я закатила дикую сцену. Хватит с меня, рыдала я, разбитых надежд. Я измыслила три выкидыша. Нет уж, ему об этом ни слова до рождения ребенка. Я божилась, что у меня прямо сейчас будет выкидыш, тут же, на ковре в гостиной, если они именем Господа Всемогущего не поклянутся хранить молчанье. Они поклялись, хоть папа и заметил: «Но Реджи-то к нам приедет и увидит сам. Черт побери, он же гинеколог!» А это, сказала я, предоставьте мне. Это я уже продумала. Я отправилась в Дублин и щеголяла там до октября в корсете, тесном, как кольчуга. Потом я сказала Реджи, что мама очень больна, и мне придется повезти ее на зиму в Ниццу. Он собирался приехать к нам туда в ноябре, но я упросила папу написать ему, что у его тещи желтуха и что он обязан поберечь своих дублинских пациенток.
Все чуть было не обрушилось в декабре. Папа, естественно, решил встретить Рождество с нами в Ницце, сообщил об этом Реджи, и тот, само собой, тоже возжелал к нам присоединиться. Я заболела гриппом. Реджи гриппа не испугался. По великой милости божией жена германского посла должна была родить первенца примерно 20 декабря, и у нее случились какие-то осложнения. Дальше пошла сплошная русская рулетка. К середине января мама сильно занемогла, и надо было скорее везти ее домой, в Кью-Гарденз. Тут, правда, Реджи совсем опешил: он привык повелевать рождением, а не распоряжаться смертью. Она умерла в феврале на своей постели. Положение мое было отчаянное. А я была грузная, как слониха. Ничего не поделаешь, пришлось во всем открыться папе; мало ему, бедняжке, было смерти жены, так тут еще импотент-зять, прелюбодейка-дочь, на подходе невесть чей ребенок-внук, и при этом в доме у нас, кстати сказать, дневали и ночевали мои сестры и брат. Я весь февраль напропалую молилась святой Анне – и она, голубушка, не выдала. 14 февраля, в день святого Валентина, Реджи позвонил из Дублина и спросил, очень ли я расстроюсь, если он первого марта отлучится на неделю в Турцию, на медицинскую конференцию. Я чуть не умоляла его оставаться там сколько душе угодно и обо мне не беспокоиться, я никуда не денусь; да он, отпетый эгоист, и без того не устоял бы перед соблазном: такая réclame, пожить пашою в Смирне, в отеле «Буюк-Эфес»! Второго марта я родила – уж конечно, преждевременно. А 17-го, в день святого Патрика, мы втроем возвратились в Дублин, всюду реяли флаги и гремели оркестры. Наверно, если б я тогда попросила подарить мне Тадж-Махал – я, мол, его на браслет подвешу, – он бы заказал два Тадж-Махала. – Она с усмешкой поглядела на меня. – Подарил он, как и следовало, нитку жемчуга.
Дирижер последним взмахом опускает палочку. Торжественно запахивается пурпуровый занавес. Низвергается град аплодисментов, каждая градина с булыжник. Да, моя Шехерезада умела представить дело занимательно, хоть порой и рискованно: муж, став рогоносцем, осыпает жену деньгами. Правда, неверная супруга была верна супружеской сделке. «Да плевать он на меня хотел, – как-то сказала она. – Я и нужна ему только для фасону, вместе с яхтой и „бентли“». В обмен на бешеные деньги из Монте-Карло она прославила его имя по всей Ирландии; да что Ирландия! – он стал известен почти как народный герой повсюду, где интересуются скачками: она-то ими интересовалась больше всех. И знала, на какую лошадь ставить – был бы жив мой брат Джим, он бы подкинул мне фактов; я ведь давно обнаружил, что подлинная память питается не чувствами, а фактами, которые в сумме образуют «жизненный опыт», налаживают душевное равновесие, определяют женский и мужской характер, человеческую отзывчивость и даже взгляд – на тебя или сквозь тебя. Понял я это с помощью самой Аны, которая от большого ума посоветовала мне завести настоящий дневник, а то вдруг я опять потеряю память, – видно, ей надоело разъяснять наше туманное прошлое. Я и правда стал вести дневник, но через год бросил. Оказалось, что я не факты в него заношу, а записываю впечатления, и там недостает мелких бытовых подробностей, единственно содержательных и выразительных.
Недавно я лишний раз убедился в своей правоте, читая мемуары одного иностранного дипломата: он, как и я, жил во время войны в Лондоне. Напрасно вчитывался я в страницу за страницей в поисках подмеченных мелочей, которыми, я уверен, изобиловали его служебные отчеты, ибо он был зорким наблюдателем английской жизни во всех ее чертах – он умел присматриваться к лицам и местности, социальным установлениям и житейским обычаям; в конце-то концов, люди его профессии просто обязаны внимательно наблюдать и убедительно описывать. И я заметил, что как только он больше обычного дает выход своим чувствам, так воспоминания его сразу уподобляются расплывчатым импрессионистским наброскам во вкусе Моне. Вот пример: ему позвонила хорошая знакомая и сказала, что если он хочет взглянуть на розы в Риджентс-парке, то пусть не откладывает, сезон на исходе. Его вступление отрывисто и четко. Он кладет трубку, убирает в сейф материалы Форин офиса, запирает под замок картотеку, по-видимому, берет шляпу и зонтик, должно быть, бросает пару слов секретарю или перед выходом на улицу инструктирует советника посольства – любая деталь насыщена потенциальным смыслом, – выходит на Уайтхолл, или на Пэлл-Мэлл, или где там они располагались, подзывает такси и велит шоферу ехать в парк. Далее выписываю:
«Во время нашей прогулки я видел цветы точно сквозь призму ее восприятия. Все вокруг: мглистая река, ампирные особняки в садах за высокими стенами, влажные лужайки и бледное сияние позднесентябрьского дня на склоне к вечеру – все сливалось в одно сновиденье, и в сновиденье превращалось в символы, наделенные таинственной властью напоминанья; это был пейзаж любви. Черный лебедь, плывущий по течению в вечернем свете, лиловатые темно-красные розы, роняющие последние лепестки, пустующие дома Нэша с их облупившимися колоннадами и заглохшими садами – все это были символы, таинственные иероглифы языка, по какому-то волшебству понятного нам обоим».
Что здесь достоверно? Ну, лебедь. Ну, облупившиеся колонны. Вообще же действительность начисто переколдована памятью, настроение изъято из контекста и так приподнято, что обособилось, возвысилось над жизнью. А вот шла или нет у них речь, положим, о фронтовых новостях? Или о том, какие у него и у нее планы на вечер? Тыкал ли он в землю зонтиком? Он ли похвалил ее платье, она ли подсказала поправить галстук, беспокоилась, что он кашляет? Память опоэтизировала жизнь, олитературила ее. На мой взгляд, взгляд опытного репортера, такие преображения сомнительны. Держу в уме рабочее правило Хемингуэя: записывать тут же. Но разве нельзя спокойно припомнить переживание? Черта с два! Реконструировать можно. Припомнить доподлинно? Никогда. «Истинное чувство, – говорил Стендаль, – не оставляет по себе памяти». Так как же обстоит дело? Я, человек, возрожденный без памяти, хочу думать, что чувства, подобно дождю, впитываются в почву и незримо питают живую поросль. Называйте ее памятью, знанием, опытом, какая разница – важно, что она растет, колеблется на ветру и рождает новую жизнь.
Краткий совет Аны вести дневник вовсе не вязался с ее собственной жизнью. Дорого расплатившись за свои чувства в юности, она под старость намеренно изукрасила их вымыслом – затем, чтобы напоследок выжать из них все что можно, да не из Тогдашних, а из Теперешних.
Иногда это стремление жить только Теперь выводило меня из себя: так, однажды вечером мы никак не могли нацеловаться, и она сказала: «Ты забудешь все-все мои поцелуи». Я пришел в ярость, потому что, во-первых, откуда ей знать? – а во-вторых, значит, онамогла бы забыть мои!И вот я оглядываюсь на наши блаженные годы, проникаю в ее душу и благословляю ее имя, а вкуса ее губ не помню. Я знаю, она была права, что так жила, что помнила столько небыли и забывала былое.
Реджи не забывал ничего, потому что никогда не сопереживал. Оживленный собутыльник и сотрапезник, он не вкладывал в общение с людьми ни крупицы души. Когда я бывал с ним, я точно сидел у вагонного окна, а по соседнему пути, то обгоняя, то отставая, шел другой поезд, полный пестрого, многоликого люда, собранного воедино. Что собирало воедино этого беспокойного, деятельного, разбросанного человека? Наверно, его чувство (призрачного?) превосходства. Он был воинствующим англо-ирландцем, живым реликтом колониальных времен, белой костью среди туземного сброда. Он, конечно, не доходил до такой глупости, чтобы хоть словом выказать нам, прочим, свое презрение: он демонстрировал его, во всем и всюду одерживая верх – как чемпион-теннисист, капитан команды регби, врач-специалист, яхтсмен высшего класса; гордый своей силой, выносливостью и мужеством, он являл собой воплощение и образчик британского стоицизма, и эту давно отыгранную роль играл так складно, что поневоле залюбуешься и позавидуешь.
И только после ее смерти, когда мы с ним вместе предавались хмельной скорби, он обнаружил, мне на удивленье, такие свойства, о которых она, вероятно, даже не подозревала, – ранимость, например, и душевный такт. Мне они открылись враз: однажды он задел меня, назвавши «журналистом», а я, чтоб не остаться в долгу, объявил его «мускулистым христианином» и на его сердитый вопрос, как это понимать, разъяснил, что приверженцы этого учения веруют в дикарские бицепсы и проповедуют дикарскую готовность к смерти, достойной гладиатора. Он с горестной лаской поглядел на меня И сказал мягко, но горделиво:
С какой же стати нам роптать
На общий гробовой удел?
Или совсем иная стать
У тех, кто прежде претерпел?
Когда б вставали в мертвый строй
Лишь гладиатор да герой!
Встречают дети свой конец,
И встретил Лесбиин птенец.
– Чьи это стихи? – спросил я, пораженный тем, что человек, которого моя покойная возлюбленная всю жизнь осмеивала, оказался совсем не так прост. Он слегка усмехнулся мне в лицо, и я подумал: неужели наша связь никогда не была для него тайной? Тон его стал небрежным:
– Ваша журналистская братия знала его под кличкой Бак Маллигэн. Всем остальным он был известен как Оливер Сент-Джон Гогарти, доктор медицины, действительный член Королевской корпорации хирургов, христианин и джентльмен, ученый муж и знаток тонких вин, врач, сенатор, легкоатлет, острослов и стихотворец. По-моему, он имел в виду Катулла. «Бедный птенчик погиб моей подружки./ Бедный птенчик, любовь моей подружки» [21]21
Из стихотворения Валерия Катулла «Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте». Перевод Адриана Пиотровского.
[Закрыть]. Passer deliciae meae puellae. Что, приторно? Да не без того.
– Вы читаете по-латыни? – уважительно осведомился я.
Секунду, не больше, он смаковал мое изумление, однако сыграть на нем и не подумал. (Ирландец непременно сыграл бы. Англичанин, вероятно, тоже. Но эти наши великолепные гибриды отмечены достоинствами обеих рас и почти лишены их недостатков.)
– Куда там. Просто у нас в Стоунихерсте был прекрасный латинист, и я его любил. Я и сейчас иногда по старой памяти прихватываю в походы томик античной классики. И ни разу не раскрываю.
Он продекламировал стихотворение красиво и смело, с высоты своих шести футов одного дюйма, широкоплечий, с орлиным носом, верхняя губа надвинута на нижнюю, как крышка на коробок, правый зрачок в белом кружке, как у дрозда, взгляд лихорадочный, как у одержимого. Почти шесть месяцев назад погиб его птенчик и мой птенчик.
Ему суждено было пережить ее ровно на три года. Он утонул в 1973-м, 8 ноября, в годовщину ее смерти, пустившись один в сумасбродное плавание к острову Мэн наперекор октябрьским штормам, почти семидесяти пяти лет от роду. В тот самый день, когда стало известно, что разбитый остов его яхты обнаружен на берегу неподалеку от Белфаста, я как раз поехал в яхт-клуб по приглашению нашего общего знакомого, опытного моряка. Кроме нас двоих в баре была только пожилая официантка. Море за окнами тяжело вздымалось. Луч маяка с восточного пирса уже скользил по гребням серых волн. Иссиня-черный сумрак заволакивал небеса. Вдалеке за бухтой зажигались огни Дублина.
– Даже с полным экипажем, – сказал мой приятель-яхтсмен, – и то самоубийственно выходить в море в такой шторм. – Он поднял стакан, как бы чествуя стихию возлиянием. – Но одному? В его возрасте? Это надо рассудок потерять.
Я кивнул: да, потерять – жену. Меня восхищала его верность своему неверному птенчику. Себя, обреченного на жизнь и утраты, я не винил. Если бы я тоже попытался покончить самоубийством, мне бы этого наверняка не позволили – то есть если бы я еще и хотел умереть; а я в этот миг посмотрел на часы, у меня было назначено свидание с ее величеством внебрачной дочерью Аны.








