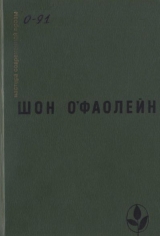
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Не знаю в точности, о чем Дез и Лесли беседовали за обедом, но теперь мне понятно, исходя из последующих событий, что речь у них шла обо мне. Я бы мог догадаться и раньше, будь я повнимательнее, когда спросил через два дня Нану, получила ли она мое письмо, а она рассмеялась и сказала: «А, твое миленькое мятое письмишко». Я пропустил мимо ушей словцо «мятое». И месяца еще два-три ничуть не подозревал, что наша переписка под надзором, хотя написал ей добрую дюжину писем и некоторые из них почему-то явно запоздали. Мне было невдомек, что Лесли их перехватывает и списывает. С жадностью умирающего он никому ничего не сказал, поскупился делиться с кем бы то ни было этим тайным сопричастием чужой страсти, пока не почувствовал, должно быть, как его запряженная парой коляска медленно останавливается у последнего поворота.
Мы отправились в горы, в «Лэм Дойл», и оказались высоко над огнями Дублина, высветленного блистанием яркой летней луны над морской гладью. Оттуда мы поехали верхней дорогой, остановились у горного гребня, вылезли из машины и, обняв друг друга за талию, снова смотрели вниз на дальний город и широкий залив.
– И ты не будешь грустить по этим огням в Париже?
Она передернулась в знак презрения к Ирландии и стремления во Францию.
– Я буду смотреть на огни Парижа.
Я заметил, что огни Парижа – это многомиллионное скопище все тех же электрических лампочек.
– Ну, однако же, никто, – возразила она, – не назовет Дублин la ville lumière [37]37
Сияющий город (франц.).
[Закрыть].
– А лунная дорожка на море?
– Над Сеной та же самая луна.
– Все время будет вспоминаться Лиффи. Как твоей матери все время вспоминается Шаннон.
Она недоверчиво пожала плечами, и я убрал руку с ее талии. Не сейчас. Может быть, никогда? На своем празднестве она казалась такой уверенной, так раскачивалась на краю трамплина, готовясь нырнуть в будущее, что я и сам воспарил при виде этой безоглядной молодости. А теперь, обводя взглядом море, простертое перед нами, чувствуя теплоту ее юного тела, ее веру и решимость, я вспоминал привычные пугающие строки о мире, который « мнится, простерт пред нами сбывшейся мечтой». Я был старший брат – в ответе за сестру, старик – за свою дочь, да что там, наверно, и сам Дон Жуан иной раз одумывался, припомнив случаи, которые лучше было бы упустить. И вдруг – черт ей не брат, как ее бабке и матери во дни былые, – она широко раскинула руки.
– Хочу уплыть по лунной полосе!
– Сначала доедем до нее!
И мы поехали через Гленкаллен, расселиной Скэлп, где в черной темени вспыхивали встречные фары, по лесистой Прибрежной долине к пляжу Грейстоунз, к мерному клокоту отлива. Курортный сезон еще не начался, а прогуливаться у моря было уже поздно. Мы были с нею одни, мы уходили все дальше от тусклых городских огней, и слышалось лишь раскатистое шуршание отползающих волн да хруст песка под нашими ногами, и я висел между небом и адом, как ночная птица, низко парившая поодаль над морем. Мы остановились.
– Ну? – сказал я. – Вот тебе море! Давай плыви!
– Повернись спиной, – велела она, – и не оборачивайся, пока я не позову.
Я повиновался. Через минуту-другую раздался дикий вскрик, я быстро обернулся и скрючился от хохота. Ирландское море, студеное даже в июне, пронизало ей ноги жгучим холодом. Задыхаясь и чертыхаясь, пышнозадая красавица ринулась вперед. Я следил за нею с восторженным изумлением, слышал, как она, перевернувшись на спину, что-то прокричала луне; потом прямиком отошел к железнодорожной насыпи, туда, где между громадными бетонными опорами мола наносит кучи песку. И лежал там, пока она не появилась уже одетая, отяжелевшая, с мокрыми космами, не попадая зуб на зуб и кляня себя за глупость.
Я снял куртку, набросил ей на плечи и довольно долго унимал ее дрожь, прижав к себе. За все это время она не сказала ни слова. Молчаливо шла она со мной к машине, молчала и по дороге домой. Я пытался разговорить ее, но в ответ получал только вялое «Да?», или «Разве»? или «Правда?». Я оставил ее в покое. Затормозив ярдов за сто от дома номер 118, я взглянул на нее. Она еще посидела, хмуро уставившись перед собой, потом отворила дверцу, ступила одной ногой на тротуар, медленно повернулась ко мне и заговорила. У нее и так-то очень мягкий голос – на этот раз он был не просто мягкий, это был голос маленькой девочки.
– Спасибо тебе, Бобби.
– Не за что!
– Я тобой очень восхищаюсь.
– Восхищайся, пожалуйста, но почему «очень»?
– Потому что ты меня пальцем не тронул.
Она ушла, а я встревоженно подумал, уж не из тех ли это упущенных случаев, утраченных возможностей, о которых позже горько сожалеешь. Потом понял и ахнул. Я-то грустил над ее несбыточными мечтаниями, а девица очень трезво замыслила подставиться мне на пляже, чтобы я распустил руки. Если бы я соблазнился – это она сказала мне позже, когда мы стали любовниками, – она бы уступила и потеряла ко мне всякий интерес. А так я стяжал ореол недосягаемости вроде ее собственной. Кое-что из этого я с ликующей ясностью понял по дороге от Эйлсбери-роуд на Росмин-парк. Наутро, а может, и прямо сейчас, она прочтет мое стихопослание с улыбкой сообщника в любви. Я ее завоевал – во всяком случае, заслужил. В результате еще до ее отъезда в Париж оба мы знали, что ближе друг друга у нас нет никого.
Когда я октябрем навестил ее в Париже, мы это друг другу с восторгом доказали. Та осень и целый следующий год – блаженнейшее время, только вот Анадиона чуяла неладное и ревновала меня ко всякой дублинской юбке, а Лесли угасал, хотя под конец ему не было позволено, как в моем пассаже двумя страницами раньше, степенно выйти из коляски и с достоинством исчезнуть – нет, он поскользнулся на ломтике банана, который Анадиона крошила у них на кухне ему в овсянку, и размозжил голову об угол газовой плиты.
Может, я зажился? Надеюсь, что нет. Я уже описал, как мы встретились с Наной в то утро, когда могильщики шествовали в тумане с живыми цветами и бессмертниками и складывали их на доски незасыпанной могилы Анадионы. (Лишь после ухода плакальщиков землю ссыпают, и комья глухо стучат о гроб.) Моя опущенная рука коснулась опущенной руки Наны, стоявшей возле меня. Когда она отозвалась на пожатие, я молча взмолился, чтобы судьба нас опять свела. Я был совершенно одинок: Ана умерла, Реджи умер, Лес умер, теперь умерла Анадиона, оставил меня и мой небесный гонитель, Дез Моран – ни друзей, ни любовниц, ни даже соучастников жизни, и перед каждым из них и Нана, и я остались в неоплатном долгу.
Я и не знал, в каком неоплатном, пока не выяснилось, что Лесли мало было перехватывать и списывать мои письма к его дочери; перед самой своей безвременной кончиной он препоручил свои копии Дезу, и при этом (Дез говорил мне) мертвенная желчная отрыжка пенилась на его губах. Роковую черту и тогда еще можно было не довести до конца, если бы Деза не обуревало столь безрассудное желание женить меня на своей Анадионе и разлучить с ее Наной – глупость, объяснимая только его профессиональным целомудрием: ведь Анадионе было под шестьдесят, я – почти сорокалетний, а Нана – в полном цвете юной женственности.
Сначала он только устрашал меня нарочитым шелестом этих проклятых любовных писем из-за спины мертвеца Лесли, как в тот день, когда явился ко мне незадолго до Рождества – Лесли только что умер, – сердечно поздоровался, сел в мое любимое кресло с большим томом на коленях и принялся поджаривать меня на медленном огне.
– Что это за книга? – спросил я, налив ему обычную изрядную порцию ирландского виски.
– Биография Виктора Гюго. Читали? Автор – Моруа.
– Да. Она ведь почти сорокалетней давности. Вышла в пятидесятых, кажется?
– Не утратила интереса. Как-никак большой поэт, неуемный бабник, патриот, врун и мошенник.
Он раскрыл книгу на первой из нескольких бумажных закладок, вдел монокль и хитро взглянул на меня.
– Вот послушайте. Меня – так чрезвычайно забавляет.
Спокойным, веселым голосом он зачитал письмо Гюго своей всегдашней любовнице Жюльетте Друэ.
– «Любимая Жюльетта, – или, не будем мелочны, любимая имярек, – проснувшись, ты найдешь это сложенное вчетверо письмо у себя на подушке, и ты улыбнешься, правда? Мне так нужна эта улыбка твоих милых, прекрасных, исплаканных глаз. Спи, моя Жюльетта – или там, положим, любимая имярек, – пусть тебе снится, как я люблю тебя. Как лежу у твоих ног. И помни во сне, что ты – моя любовь…»
У меня свело живот. Я впервые заподозрил, что мои письма украдены. Это письмо я прекрасно помнил, самое первое мое письмо Анадионе, оставленное у нее на подушке в тот вечер, когда я покинул Угодье ффренчей, где провел неделю, помогая благоустроить летнее жилье. Он спокойно читал дальше, а я похолодел от нового ужаса. Не послал ли я это же письмо Найе? Так много писем было написано им обеим. До чего же прав был Корнель: чтобы лгать, надо иметь очень хорошую память. Чьи у него письма, где и как он их заполучил? Он дочитал, улыбнулся мне исподлобья со всеведеньем инквизитора, вынул вторую закладку и заулыбался во весь рот.
– А вот сущая прелесть! В стихах. Наш любвеобильный Виктор, изменяя своей возлюбленной на каждом шагу, вдруг с удивлением обнаружил, что она не только чуть-чуть огорчается, а вздумала ревновать! И что же он делает? Покоряет ее заново обольстительными стишатами. Кстати, вы ведь, наверно, знаете, что глаголы «обольщать» и «растлевать» – почти Синонимы?
Он стал читать с иронической выразительностью, усугублявшей издевательство, и я вспомнил. Этим стихотворением Гюго я пытался умиротворить Анадиону на другой день после того, как вышел ей навстречу от Наны.
Как, ты ревнуешь? Ты? Тебе ль, души отрада,
К прохожим ревновать меня из-за ограды?
Светило незакатное! Царица в сонме ночи!
Твой вечный свет мои ласкает вечно очи.
И что тебе птенец, бутон Анадионы?
Как придорожный цвет затмит мою Диану?
Пока он читал, я решил, что он – нет! – что Лесли залез в бумаги Анадионы. Там, конечно, нет указующих имен, адресов или подписей, но почерк мой там есть. Я сдался. Я признался, что да, однажды или дважды, да, дважды я в письмах выражал свое восхищение Анадионе, «вашей дочери», и при этом слегка одолжился у Виктора Гюго. Ему ли не знать, как сентиментальна бывает старость? Я убежден, что он поймет меня.
Он понял вполне достаточно: встал, извлек из заднего кармана своего форменного сюртука и воздел к потолку пачку писем, которые, объявил он, доказуют куда больше – и громовым тоном папы Гильдебранда повелел мне немедля избавиться от смехотворного увлечения «этой девчонкой» и жениться на ее матери. Я люто воспротивился. Да и что мне было толку в его нелепицах? Великолепным жестом – дескать, «иди, обнародуй и будь проклят» – я указал ему на дверь. Он донимал меня потом неделю за неделей.
На Рождество, когда Нана вернулась из Парижа, он поджидал ее в Дублине. Через час она стояла у меня в передней, бледная от гнева, – войти она отказалась – и рассказывала об их встрече.
– «Адресовано твоей собственной матери!» – с издевкой сказал он и швырнул твои письма мне на колени. Я просмотрела два-три и рассмеялась ему в лицо. «Отец Деззи, – завопила я, – это же всё МНЕ письма!»
– Что он на это сказал?
Она помолчала. Потом холодно ответила:
– Он просто показал стихи, которые ты прислал ей, когда принюхивался к моей юбке. Это, мол, опять-таки Гюго. А то я не знаю, что Гюго, – не зря же я проходила французскую литературу. Там только одна миленькая строчка из твоей собственной умной головушки. Помнишь? «И что тебе птенец, бутон Анадионы?» А еще я у тебя называюсь «придорожным цветом».
– И ты сказала…
– Да я-то, конечно, сказала правду. Я сказала, что про ваши с матерью отношения знаю с тринадцати лет. С тех самых пор, как ты приехал однажды вечером в июне 82-го в Угодье ффренчей, когда я там жила в соседней с нею комнате, и вы мне полночи не давали спать, галдели, как дергачи на лугу. Ты, значит, спутался со мной, а с ней у тебя продолжалось? Ну да, так ты и скажешь! Не надо, не надо! Эти стишочки, где я – придорожный цвет, написаны всего за несколько месяцев до твоих парижских клятв в вечной любви.
– Анадиона была больна. Я бы и не то для нее сделал. Я ее когда-то любил.
– Твой распрекрасный монсеньор с особым вкусом сообщил мне к тому же, что моя мать – побочный ребенок. Это правда?
Я так долго подыскивал слова, что она заорала на меня:
– Это правда?
– Почему у вас об этом зашла речь?
– Это правда?
Я кивнул. И снова тихо спросил ее, как она думает, почему он вдруг заговорил об этом. Она не стала мямлить – прямота была в ее натуре: чтобы сломить ее, – и, судя по ее воспаленным глазам, ему это едва ли не удалось.
– Кто был отцом моей матери?
– То есть кто твой дед?
– Да.
– Известно только, что твой дед не был мужем твоей бабушки.
– А как это может быть известно?
– Дублин говорит в один голос. Единогласно. Здесь все знают всех. Это называется жить по-людски. Была такая дублинская шуточка: наш импотент-гинеколог все может сделать для чужих детей, а своего сделать не может.
– О, Господи!
Это в том смысле, как она рада, что живет теперь в городе, где все всех не знают – ну, по крайней мере со времен Французской революции. По ее темному лицу я догадался, что Дез пошел еще дальше.
– Он тебе еще что-нибудь сказал?
– Он намекнул, что побочные дети плодят себе подобных. Что я, может быть, тоже побочный ребенок, а ты – мой отец.
Такой удар ниже пояса меня горько порадовал. Стало быть, наш образцовый христианин в случае чего не чуждается изуверства, елейная патина столетий ему не помеха. Значит, цель все-таки оправдывает средства?
– Я впервые встретил твою мать мартовским утром 1965 года. Смею тебя заверить, что я ее тут же не изнасиловал. До того я не был с ней знаком. И я любил другую. Ты – дочь Анадионы, а отец твой – Лесли Лонгфилд.
Все ее тело словно бы оттаяло, расслабилось, она заново влилась в собственное существование, которое Его Святошество попробовал изничтожить.
– Объяснить тебе, – злорадно сказала она, – почему вы с Анадионой всю ночь проссорились тогда, в 82-ом, в Угодье ффренчей? Потому что ты ее никогда не любил. Помнишь, что Бальзак сказал о любви? Что любовь не чувство – это ситуация. Мы не влюбляемся, мы берем на себя любовь. В казарме надо вести себя так, будто ты ни о чем другом и не мечтал. И она тебя тоже не любила. Вы оба валяли дурака и вписывались в Человеческую Комедию. Враньем вы оба занимались.
Мы так и стояли в прихожей моего пригородного домика. Из железнодорожного провала глухо крикнула электричка, то ли дублинская, то ли приморская.
– Пусть так, – согласился я. – Что же теперь?
– Теперь? – Она высокомерно выпрямилась. – Теперь я – твой придорожный цвет, а ты – ты гнида, врун и дерьмо, и вот тебя-то, – простонала она, – тебя-то вот я, наверно, никогда не смогу забыть.
И не хлопнула дверью.
Забыть? Согласимся, что такая память, как наша с ней друг о друге, не прерывается ни на деловитых центральных улочках, ни на асфальтовых шоссе, и скажу по правде, что я не забывал ее ни на минуту. А Рождество было самое омерзительное в моей жизни – самое жестокое, пустое, одинокое, никчемное. Мне и врага-то не было послано в утешение: Дез Моран, подхватив простуду с вирусной пневмонией в придачу, лег в больницу и сгинул за месяц. Он был моим дурным ангелом, моим праведным дьяволом, искажая все, что я сказал и сделал. Религиозный стоик, он приписал мне зло, а я зла не творил. Я немного проврался, причинив боль двум дорогим мне людям. Я все напортил, потому что принял мир таким, каким его преподнесли мне боги, а он тоже принял мир, изобретенный верою. Я смятенно огляделся в поисках близких людей – и оказалось, что у меня нет ни одного друга, есть только куча знакомых; неужели же открывать душу первому встречному? Да у тех, кто делится любовью направо и налево, друзей и вовсе не бывает. В эти праздничные недели, сиднем сидя в своей безмолвной комнате, я так затосковал, что взялся за старый фотоальбом – то ли мой, то ли покойника брата – и снова вглядывался в лицо за лицом, ждал теплого тока узнавания. Я подбросил туда снимок Анадионы и несколько снимков Аны. Обе они улыбались, смеялись, позировали – или не подозревали, что их снимают, все для моего пущего мучения. Но ведь долженже здесь быть хоть один снимок моей забытой жены? С моим о ней представлением не совпадал ни один облик, а она представлялась мне – от имен Кристабел и Ли – хрупкой, изящной и очень юной, наверно, в духе По и Кольриджа. «Я был дитя, и она дитя / В королевстве у края земли, / Но любовь была больше, чем просто любовь, / Для меня и для Эннабел Ли – / Такой любви серафимы небес / Не завидовать не могли» [38]38
Из стихотворения Эдгара По «Эннабел Ли». Перевод В. Рогова.
[Закрыть].
Я уныло поставил альбом на место, заметил «Любовные письма разных стран», снял их с полки и раскрыл раздел «Гюго». На исписанных карандашом полях кое-что можно было разобрать. «Что ж если птенчик Кристабел и если пусть пройдут года ну что ж неужто Кристабел цветок восток апрель светила придорожный цвет». В содержании некоторые письма удостоились трех похвальных звездочек, некоторые – двух, а большей частью и одной хватило. Кое-кому было карандашом адресовано слово «ж…а» – Наполеону, Эдуарду Седьмому, Криппену и Оскару Уайльду. Зато Элеонора Дузе и Д’Аннунцио – те получили по кресту. Я закрыл книгу, встряхнув головой. Вот уж действительно повторяемость явлений. Что она доказывает – постоянство творца?
А тут еще нахлынули сновидения, тревожа или надрывая душу. Nessun maggior dolore… [39]39
«Нет большей скорби…» (итал.)Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Песнь Пятая, строка 121.
[Закрыть]. Горше всего – память былых счастливых дней. Ана рядом со мною, веселая и оживленная, я радуюсь – и просыпаюсь в пустоте. Мощная фигура Анадионы, ее сильная рука, заливистый смех. Нана мне ни разу не снилась. Два раза приснился прежний сон: поезд стоит посреди неоглядных болот, а потом даже и не поезд, поезд ушел, осталось пустое купе, а в нем я и женщина напротив, под покрывалом или в маске, моя единственная жена. Если бы мне все тогдашнее пережить заново, но только все, именно ВСЕ, – как бы я вживался в каждое мгновенье!
Мне повезло, что Рождество было такое одинокое. Лишь почти через год я узнал, от чего меня избавила судьба: мать и дочь все праздники были заняты болезненным выяснением отношений, искали равновесия между состраданием и укоризной; они морочили друг друга, подавляя желание вырвать больной зуб, вскрыть гнойник, сказать: «Ты сглупила, нас обманывали, ты вела себя нечестно, я вела себя по-дурацки». Когда это было мне рассказано, я уже настолько перемучился, что рассудил трезво, хотя по-прежнему содрогаясь от стыда, неизгладимого «навечно»: «Нет! Так не могло быть! С Анадионой – не могло!»
– Твоя бабушка – та бы конечно. Она бы все высказала, да еще с каким напором. Анадиона – нет. Ее могло бы прорвать с мужем, даже со мной, с тобой – никогда. Так – пожать плечами или уж нарыдаться втайне. А на людях разве что веко дрогнет: дескать, «быть бы поумней» или «следовало бы догадаться». В безличной форме. Не сказала бы «ты». Не сказала бы «я». Слишком гордая. Анадиона ведь была ужасно гордая.
Нана рассказывала, что обе они крепко держали себя в руках, что предела откровенности они достигли, когда Анадиона медленно повернула на пальце обручальное кольцо, а Нана выразительно глянула на ее жемчужное ожерелье. Ах, если бы (тут Нана почти вскрикнула), если бы хватило у них духу взять да расхохотаться наперекор всему – не затем, конечно же, не затем, чтобы пойти на мировую с обоюдным негодяем, а чтобы положить конец собственному трусливому двуличию. В конце-то концов, мы все трое друг друга обманывали. «Грошовое лицемерие!» – яростно повторяла Нана, когда я отвез ее с похорон Анадионы все туда же, в особняк на Эйлсбери-роуд, но, чтобы я не счел эту фразу лазейкой для себя, жестко прибавила: «А ты – подлец!» и еще, очень справедливо: «Не стоил ты ни одной из нас!» Но, сидя в ее облицованной красным кафелем кухоньке-гостиной (когда-то в цоколе дома обитали слуги) и глядя, как она, полнотелая и подвижная, проворно готовит нам кофе по-ирландски – надо было согреться после промозглого кладбищенского тумана, – я не мог из себя выдавить ни слова в ответ. Этаж над нами, такой знакомый, обжитой, такой излюбленный, вконец опустел.
– Ты не думай, я с тобой вовсе не помирилась! – строго сказала она, протягивая мне горячий стакан и как бы намекая своим «вовсе», что примирение все же не исключено: может статься, ей нужно то самое, чего так хотела Анадиона и от чего так свысока отказалась ее мать? Нана, конечно, не станет выдвигать свои условия – когда ей надо, она прекрасно изъясняется молча. От нее можно ждать красноречивой интонации, медленного поворота головы вслед старой школьной подружке с маленькой дочерью, упоминания о браке столь же отдаленного, сколь и очевидного. Как след Пятницы на песке.
А почему бы и нет? Видит бог, мое теперешнее жилище домом не назовешь. Круг друзей? Вот уж не отказался бы! Сослуживцы? Может быть, она захочет, чтобы я поступил на работу? Мне нынче сорок, и я совсем не против. (Вполне могу представить, как мне дружелюбно скажут: «Прекрасно, вы у нас проработаете еще добрых лет двадцать!» – а я подумаю: «Или тридцать с лишним, если вы не отправите меня на пенсию к десяти годам?») Нана с сомнением поглядела на меня.
– Боб! Помнится, Анадиона сказала мне год назад: «А ведь такой старик». Сколько тебе лет на самом деле?
Никто меня об этом еще никогда не спрашивал. Ана и Анадиона слишком памятовали о своем возрасте, чтобы задавать такие вопросы. Чуть напугавшись, я, однако, сообразил, что подсчитывать мои девяносто лет на земле больше некому. Посмею ли я сказать Нане: «Мне сорок»? Я подумал: «Но ведь это же правда!» – и немедля скостил пять десятков из девяти.
Я.С божией помощью мне ровно сорок. Почти вдвое больше, чем тебе, девочка.
Нана.Ох, врешь! Лесли говорил, что тебе было двадцать, еще когда вы с ним познакомились.
Я.Ну, Лесли! Он всегда преувеличивал. Он, наверно, путал меня с моим братом Дж. Дж. У Лесли вообще была каша в голове. Разве я такой старообразный?
Нана.Да нет, ты еще хоть куда. Какое, впрочем, значение имеет возраст! Самому интересному мужчине, какого я видела, было шестьдесят, он был парижский художник.
Я.По сравнению с ним я сопляк. Мне правда сорок. Можешь мне поверить.
Нана(допив остаток своего кофе с виски, с очаровательными кремовыми усиками на верхней губе). Тебе поверить? Я тебе, твари, и на пять минут не поверю. А вот не завести ли, наоборот, молодого любовника, который не будет верить мне?
(Внезапно сощурившись и насторожив уши.) Пойди взгляни, кто там, а?
Я.Кто? Где? (Я был оглушен ее угрозой.)
Она(подняв и скосив глаза в сторону парадной двери.) Молодость стучится в дверь. Тук-тук-тук! Ту-у-ук!
Я вышел и поглядел влево, на крыльцо. Красивый юноша, плечистый, увеличенный туманом, смотрел на меня сверху вниз из-за чугунных перил. Смуглый, голубоглазый, простоволосый, скуластый, с победительной белозубой улыбкой американца, враз упраздняющей Атлантический океан и столетия европейской классовой розни.
– Здрасте! – сказал он дружелюбно. – Меня зовут Б. Б. Янгер. Вы здесь живете?
Мой внук.
– Как вы сказали? И кто вам нужен?
– Я – Роберт Бернард Янгер. Пробую немножко раскопать семейную историю. Отец мой был Джимми Янгер. Дедушка – Стивен Янгер, из Каслтаунроша, что в графстве Корк. Я ищу мистера и миссис Лонгфилд. Некий мистер Лонгфилд пару лет назад виделся с моим отцом, Джимми, в Филадельфии. Он сказал, что знает одного Янгера, тот жил с ним рядом в Дублине, Дан-Лэре. Я с утра уж раз десять звонил туда и в этот дом, никто не отвечает.
– Миссис Лонгфилд похоронили сегодня утром. Мистер Лонгфилд умер в прошлом году.
– Вот незадача! Моему отцу и моему деду, Старику Стивену, все это было очень важно. Мне тоже очень важно.
Миг застывает. Память вслушивается в слабые биенья. Трепеты припоминанья в старческих сердцах. Безмолвная улица. На голых ветвях клочьями осела мгла, с моря и берега веяло сыростью, плыла туманная дымка. Мои очки затуманились. И может статься, затуманились все окна вокруг Дублинского залива. Родственные связи явлений. Плющ уронил с крыльца мутную каплю мне на стекло очков. Я снял их и принялся протирать, не спуская с него глаз.
– Ищете, значит, свои корни в Дублине?
– Нет, я по всей Ирландии буду разузнавать о Янгерах.
Побывает в Каслтаунроше и найдет там мое имя в приходской книге девяностолетней давности. И это еще цветочки. За мной стояла Нана. Сандаловый аромат. Их взгляды встретились: сверху – приязненный, снизу – приветливый.
– Да пригласи же его, – радушно сказала она. – Идемте в дом. Спускайтесь сюда вниз. А то погода гнусная, промозглая.
Он сбежал по гранитным ступеням. Мы дожидались в дверях, и слышно было, как хрустит гравий у него под ногами.
Баста.Я печатал всю ночь. Пальцы онемели. Она сказала вчера вечером насчет моего «жизненного кризиса»: «А ты все запиши». В одну секунду человек побеждает или проигрывает, рождается или умирает, влюбляется или разлюбляет. В году – тридцать миллионов секунд. За шестьдесят лет сердце отстукивает два миллиарда раз. Искусство и Память слишком многое упускают. А я хочу извлечь квинтэссенцию. Сандаловый аромат отмершей любви. Звонят к заутрене. 7.15 или 9.45?
Я только что раздвинул занавеси.
Солнце! Голубое утро! Спать! Но не в тени деревьев за последней рекой. Пора! Любовь! Жизнь! Снова молодость!








