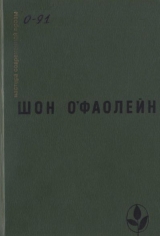
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
– Биби! У меня с отцом будет по этому поводу большой скандал.
– А он не знает? – спросил я, подавив желание спросить: «А какое мне дело?»
– Может, и знает. Раньше или позже он выведывает все, что его касается.
– Как?
– Он видит всякого насквозь, у него везде шпионы и прихвостни, нюх у него, как у ищейки, чуть чем пахнуло, он уже чует. Я ведь учусь в католическом университете, так что ему стоит снять какую-нибудь там кремовую трубку и позвонить нашему капеллану, декану, заместителю ректора, ректору, своему человеку в канцелярии. Через несколько часов к нему на стол ляжет целое досье на моего Билла Мейстера.
– И что он тогда сделает?
– В открытую – ничего. Он же политик. Ирландская мафия старого закала. Он будет ждать, пока я покажу коготки. – Она сняла и спрятала кольцо. – Я ничуть не удивлюсь, если для начала Билли Мейстер быстренько потеряет парочку выгодных клиентов-католиков.
– Он может отправить тебя в университет за две тысячи миль. Скажем, в Орегон!
– Я не поеду. А он не дурак, чтоб перегибать палку: сломается – щепки в глаза брызнут. Нет! Тут вот что надо. Надо его обработать, пока он еще до всего не докопался. И ты должен помочь мне, Биби.
– Почему именно я?
– Потому что ты растворил мне ворота в жизнь.
– Ему-то я что за указ?
– Ты же свой, Янгер. Ирландец. Католик. Кровная общность и тому подобное.
Какое трезвое хладнокровие! Дескать, что было, то прошло. Я так и слышал ее будущую фразу: «Он – мой бывший обожатель». А теперь бывший обожатель должен по-товарищески помочь обработать отца-католика и мать-католичку, американского ирландца и креолку, чтобы они с восторгом раскрыли объятия разведенному зятю, немецкому еврею.
– Пошли, – сказал я и взял чек. На улице я пошел прочь от нее, полуобернувшись и как бы помахав рукой на прощанье.
И через две недели я ничуть не удивился, получив от ее отца сердечное приглашение на уик-энд в Усадьбу Паданец. (Сердечное по тону.) Зато я очень удивился, когда в субботу, по приезде, меня пригласили на аперитив к нему в кабинет – мне было давно известно, что именно туда и именно в этот день недели его приятели и клевреты из других часовых поясов звонят ему в полной уверенности, что он снимет трубку, что он там один и что их разговору никто не помешает. И удивился еще больше, войдя в кабинет и услышав его глухой голос – рановато же он перебрал! Я взглянул на его стол. «Господи боже мой! – подумал я. – Только не это! Неужели опять?» – А он скромно-горделиво указал на разложенные перед ним сувениры, реликвии, экспонаты – назвать их всерьез фамильными сокровищами язык не поворачивается, до того жалкая это была коллекция: тот самый старый альбом в красном сафьяне, впору хоть для королевской династии – теперь на нем было золотом вытиснено «ЯНГЕРЫ»; цветные открытки – я узнал пустынную Главную улицу Каслтаунроша; семейные фотопортреты; снимки, сделанные, как он заверил меня, лично дедом Стивеном в его странствиях по Северной и Южной Америке, Среднему Востоку, Европе вплоть до восточных Балкан. Были здесь четыре листовки, напечатанные за пять лет до и через пять лет после Дублинского восстания 1916 года. В коробочке, выстланной бархатом, хранились медный воинский жетон с рельефными буквами ИВ, то есть Ирландские Волонтеры, и пустая винтовочная обойма, расстрелянная, важно заявил он, в 1916 году. Был еще ржавый наконечник пики ирландского повстанца 1798 года. Украшением коллекции служил короткоствольный револьвер тридцать второго калибра, якобы принадлежавший казненному предводителю мятежников 1916-го, Патрику Пирсу.
Ну, нет! – решил я, оглядывая его строгий кабинет и отдыхая глазом на двух телефонах, телетайпе, диктофоне и настенных геологических картах. Неужели опять? Неужели все то же? Тут что-то не так. Все эти лоскуты и отбросы былого, подлинные и поддельные, могли еще представлять какой-то интерес для его деда, Старика Стивена. А к его отлаженной, как машина, жизни они имели не больше отношения, чем ветхая, в подтеках, аккумуляторная батарея, которая пылится в углу гаража. Но тогда зачем он поливает их пьяными слюнями? И причем тут я?
Он захлопнул свой мемориальный альбом и умоляюще посмотрел на меня.
– Отчего мою семью не волнуют эти бесценные вещи? Ты можешь себе представить: моя собственная дочь чуть не хохочет, на них глядя?
Я мог себе представить. Она несколько раз очень издевательски отзывалась о его «старом хламе». Я понимал и больше – что один брезгливый жест его возлюбленной, обожаемой, балованной и нежно чтимой дочери – сколько раз я видел, как они ласкались друг к другу: она из него веревки вила, – мог вдребезги разнести все его жизненные достоверности. Может быть, хлопнув вот так альбомом, он пытался подменить ужас утраты праведным гневом на отступничество от касты и клана? Я молчал.
– Ты молодой ирландец. Потомок фениев-повстанцев. Ты можешь понять, как свято надо хранить традиции. Можешь ты мне объяснить, отчего моя семья этого не понимает?
Я опять-таки мог и опять-таки не собирался. Сказать ему, что их тошнит от его реликвий? Что они не верят в его благоговение? Что, будь его предки поляками, итальянцами, немцами, греками, пуэрториканцами, неграми, англичанами, евреями (даже евреями!), скандинавами, китайцами, было бы то же самое? Подумав так, я бешено обозлился на него, не потому, что он этого отчетливо не понимал из-за простительной всякому сентиментальности, а потому, что он это понимал вполне отчетливо. В нем угадывался один из самых омерзительных американских типов, живоглот-приобретатель, готовый пустить в дело любые человеческие чувства – была бы польза. У таких людей, переиначивая слова из пьесы Йейтса, «мечтанья усыпляют совесть». А может быть, я тоже хитрю сам с собой, сваливаю на него вину за неудачный роман с Крис: он, мол, еще до того, как мы с нею встретились, развратил ее своим двоедушием? Скорее же всего, он – просто еще одно олицетворение Стальной Воли, еще один Железный Человек, рыдающий по ночам на груди жены или любовницы, изнуренный каждодневной глухой борьбой с каким-то внутренним изъяном, постыдной слабостью, которую и сам предпочитает не вполне сознавать, а если сознает, то все же слезно скрывает ее от единственной надежной наперсницы.
Я заметил, что мы неприязненно смотрим друг на друга.
– Ну? – потребовал он. – Ты на мой вопрос не ответил.
Я медлил. Чего в нем больше – корысти? Искренности? Человек неоднороден: он и такой, и сякой – вообще многоразличный.
– А? Да, конечно! Вы про традицию? Да! Да! В каком-то смысле вся цивилизация зависит от нее, пока она неподдельна. Но нет сомнений, что на практике в ней смешиваются, сплавляются правда и ложь, они порой так же неразличимы, как рисунок на древней монете, затертой бесчисленными костлявыми руками. И то сказать, дядя Боб, ведь воспоминания тускнеют. Один рассвет затмевает другой. Все забывается. В конце концов даже традиция себя изживает.
Глаза его стали щелками на застывшем, убийственно мрачном лице.
– Любопытно! – тихо сказал он. – Буквально эти же самые слова о прошлом сказал мне твой отец 13 ноября 1990 года, за обедом у меня в номере дублинской гостиницы «Шелбурн».
Еще бы мне этого не помнить! Как раз после этого обеда я прямо в такси, по дороге на Эйлсбери-роуд, предложил Нане стать моей женой.
– Незадолго до моего рождения, – улыбнулся я, с новым раздражением припоминая, как двадцать лет назад он разводил болтовню с подвохом про ах какую героическую юность моего брата Старика Стивена, и слово «прошлое» вдруг стало мне отвратно – не потому, что оно так часто отдает фальшью, у него-то оно заведомо было насквозь фальшивое, – а по причине, которую я с изумлением обнаружил позднее: этим словом оскорбляли достоинство моей страны. Слишком уж много попадалось мне эдаких нахрапистых патриотов в дублинских кабачках, где они, до капли выдоив свое (?) Славное Прошлое, в мгновение ока от этого прошлого отшучивались как ни в чем не бывало: показывали, что стоят на земле обеими ногами. Овцы, разбредшиеся из загона рухнувшей империи, полулюди, навеки меченные клеймом имперского овцевода на крупах. А тут нате вам, такой же патриот американского образца, правдами и неправдами загоняющий свою семью в хлев другой империи. Знай я тогда Кристабел, как знаю сейчас, я бы понял, что он взрастил свое подобие. На миг я всей душой неистово взмолился к небесам: ну что бы мне родиться в стране, на которую совсем или почти совсем не давит память, – скажем, на необжитых пустотах Западной Австралии, песчаные равнины которой, как говорил мне один австралийский журналист, – те же пустыни Сахары: Большая Песчаная, Гибсон, Виктория, безлюдное раздолье вдвое побольше Техаса, плоские голые степи, где картограф радуется пересохшему соленому озерцу. Как привольно жилось бы мне там! Я бы ездил к платформе одноколейки, у которой два раза в месяц останавливается состав, именуемый «Чай да Сахар»: несколько цистерн питьевой воды, вагон мясопродуктов, вагон розничных товаров, бакалейный вагон, вагон скобяных изделий. Останавливаются, откидывают железные приступки и не поднимают их, пока последний покупатель не отъедет без спешки к своему дальнему оазису; тогда и поезд не спеша откатывается к невообразимо далекому горизонту. Как хорошо быть одиноким, заброшенным, выпавшим из времени Робинзоном Крузо! Но даже и там, наверно, нашелся бы какой-нибудь старикан, скопитель мусора дней былых. «Я еще хорошо помню – хе-хе! – последнюю керосиновую лампу – хе-хе! – в наших местах! Ну и вонищи от них было – аж сейчас тошнит». Или похлопывая по чугунному обломку водяного насоса, с грустной хитрецой приговаривая: «Э-эх! Э-эх!» Как далеко заходит в прошлое память старейшего обитателя? На поколение? Многовато [63]63
Тут вмешивается председательствующий. Председатель.Уж не описывает ли нам депутат Янгер Эдем без Евы, в очевидном расхождении с собственной жизнью. Депутат Б. Б. Янгер(весело). На то и расхождения, чтобы их улаживать.
[Закрыть]!
Я смотрел, как хозяин дома угрюмо прибирает свой самодельный шаманский набор, раздув нижнюю губу, будто пузырь жвачки; брови его топорщились, как черные густые усы. Его драгоценный (?) жетон «ИВ» улегся в коробочке на бархате. Он увернул в зеленый шелк наконечник пики якобы 1798 года и немного помедлил над револьвером, из которого якобы стрелял в 1916 году Патрик Пирс. Похлопывая по нему, он вызывающе взглянул на меня. (Я, кстати, точно знаю, что Пирсу во время Восстания стрелять не случилось. Он расхаживал со шпагой, на радость Йейтсу. Убивать было не его дело. Ему надлежало произносить речи, быть убитым и стать мучеником, каковую роль в Героической Ирландской человеческой комедии он сыграл вполне достойно.)
Я услышал шум за окнами. Он прекратил прибираться и сказал:
– Крис милостиво соизволит почтить нас нынче вечером своим присутствием. Мать поехала в аэропорт встречать ее. Кроме того, я ожидаю одну мою старинную английскую знакомую, некую мисс Пойнсетт. Они, кажется, приехали раньше, чем предполагалось.
Итак, он все знал? Железный Человек? Или Соломенное Чучело? Сейчас выяснится. Хлопнула дверца машины. В холле зазвучали женские голоса – все ближе, за самой дверью. Дверь приоткрылась: показался кусок лба и неуверенный темный глаз Леоноры. Вошла она почти робко и ввела очень высокую, прямую, сухопарую и седовласую даму, всю в черном, вплоть до потертых митенок и викторианских гагатовых серег. За ними следовала Крис, светлоглазая, завитая, с накрашенными ресницами, в зеленой косынке горошком и зеленых брюках. Глаза ее проворно, словно ящерки, перебежали с отцовского лица на мое. Ее поднятые брови вопрошали. Мои, насупленные, отвечали. Она упрямо выпятила губу. Все дальнейшее было как пулеметная очередь.
– Роберт Бернард Янгер, младший. – Заткнув за пояс большой палец левой руки, правой он сделал жест от меня к пожилой даме. – Мисс Эми Пойнсетт.
Та не взяла моей протянутой руки. Она подалась в мою сторону, задрав подбородок и разглядывая меня сквозь бифокальные очки, будто лицо мое было чем-то вроде геологической карты на стене. Затем, с врожденным английским произношением, без малейшего призвука «р», она внезапно спросила:
– Вы когда ’одились?
Я с улыбкой осведомился, зачем ей это знать.
– Я сп’ашиваю: когда? – отрезала она.
Как бы снисходя к причудам почтенной старушки, я ответил:
– 17 марта 1993 года, – думая о той ночи в Комо, когда падучая звезда возвестила пришествие моей дочери на землю.
Она обратилась к нанимателю:
– Не вижу смысла ходить вокруг да около. Я имею удовольствие знать ту молодую женщину, которую он выдает за свою мать. 17 марта 1993 года Нана или Анна Янгер, в девичестве Лонгфилд, действительно родила ребенка. Ребенка женского пола. У меня есть копия документа, удостоверяющего этот факт. Девушка проживает в настоящее время в Дублине; она студентка Тринити-колледжа. А этот молодой человек – обманщик и самозванец.
Крис побелела, как мел; отец ее пожелтел, как лимон. Он повернулся к ней.
– Это надо уметь – одновременно спутаться с мошенником-ирландцем и проходимцем-евреем. Ах ты, несчастная дурочка!
Мы с нею воскликнули вместе, я:
– Я не обманщик!
Она, адресуясь к нему:
– Никто из вас ничего не знает про Билла Мейстера!
Издевательски осклабившись, он кинулся к стенному сейфу с криком:
– Вы сейчас у меня оба посмотрите!
Мисс Пойнсетт предоставила ему просцениум. Сама же, точно второстепенный персонаж, сказавший свое, отошла к кулисам, то есть к стулу во главе стола. Там она преспокойно сняла черные митенки и принялась разглядывать подложные реликвии. Себе под нос она сообщила:
– Строго говоря, я встречалась с этим мистером Мейстером. В его сент-луисской галерее, в прошлом июле: я покупала у него портрет в натуральную величину, который, по его словам, он сам написал. Называется «Крис во всеоружии». Очень неплохо. В своем роде.
Она склонила голову набок, изучая фабричное клеймо на револьвере Патрика Пирса, переломила его, обнаружила в барабане четыре патрона, неодобрительно помычала, защелкнула револьвер и продолжала:
– Я заплатила за портрет тысячу долларов. Вероятно, он хранится у ее отца.
Крис сжала губы в ниточку и часто дышала через ноздри. Ее подавленный голос был еле слышен:
– Он его вам продал?
– Должно быть, нуждался в деньгах, – небрежно заметила мисс Пойнсетт, с явным недоумением вертя в пальцах жетон «ИВ». Боб-два воротился от сейфа с конвертом ин-кварто в руках. Он извлек оттуда цветную фотографию и швырнул ее на стол, на общее обозрение.
– У меня НЕТ этой мерзости: вот ее снимок. Оригинал был подписан и датирован прошлым маем.
Мы все уставились на фото, кроме Пойнсетт, погруженной в семейный альбом Янгеров. Изображение было в полный рост, картина примерно пять футов на два с половиной. Крис дерзко смотрела в глаза зрителям, положив левую руку на бедро и держа в правой дугой к полу обнаженную саблю. На ней были черные сапоги до колен; больше на ней ничего не было.
– Прошлым маем? – прошептал я, стараясь не думать, сколько насмешки надо мной в этой дате.
Мисс Пойнсетт откинулась в кресле, сняла очки и мягко помассировала прикрытые веки.
– Строго говоря, мистер Невесть-кто, так ли уж важно, что я про вас ничего не знаю? Никто не знает – в том-то и разгадка. Однако, человек вы или нежить, я все же вас уже однажды видела. В Венеции. – Она повернулась к Крис. – Вы помните родительские телеграммы, которые преследовали вас по всей Европе?
Крис злобно сказала:
– Я из них половину не распечатывала.
– Эту вы распечатали. Она гласила: «Переводим твой счет через Чейз-Манхаттан-банк Нью-Йорк четыре миллиона лир Банка д’Италия Венеция получить 20 июля. Целуем. Мама и папа». Конечно же, это была ловушка. Может, вы это даже и заподозрили. Но мы решили попробовать, а вы решили рискнуть. Невелики деньги – тысяч пять долларов, но, как видите, вы не устояли. Может быть, мистер Мейстер тяготил вашу совесть? Да, а в Венеции ничего нельзя сделать втайне. Слишком маленький город. Все всех знают. Неудивительно, что они там так пристрастились к маскам. На балах. В игорных домах. Раньше или позже всякий непременно пересекает их итальянскую Пиккадилли-серкус, пресловутую пьяцца Сан-Марко. 20 июля я там завтракала за уличным столиком у Флориана. Мне видны были все восемь входов и выходов с площади. Вы появились вдвоем через полчаса после открытия банков, под руку, со счастливыми лицами и, надо полагать, с четырьмя миллионами лир в кармане. И я ушла. Я видела совершенно достаточно.
Боб-два спрятал фотографию голой Крис и пренебрежительно посмотрел на меня.
– Ты тоже видел и слышал совершенно достаточно. Осталось только известить еврея, – он взглянул на Крис, – что моя дочь изменяла ему бог один знает, с каких пор.
Он потянулся через стол за ближним из своих двух кремовых телефонов. Она закусила нижнюю губу.
– Я выйду замуж за Билла Мейстера.
Он снял трубку.
– Он ведь женат, – заметила мисс Пойнсетт. – И даже дважды.
– Его жена запойная пьянь, – проговорила Крис. – Он с ней легко разведется.
Он стал набирать номер.
– Ради тебя? После разговора со мной?
Она оперлась о стол обеими руками.
– Ты кому звонишь? Галерея уже давно закрыта. В списках жильцов его нет.
– Вот как? Ну что же, тогда я позвоню своему старому другу Пату О’Хара, начальнику полиции Сент-Луиса. Он очень сурово относится к растлителям несовершеннолетних девиц.
Незаметно было, чтобы она шевельнула рукой, взяла пирсовский револьвер, прицелилась, выстрелила: просто что-то треснуло, и телефонная трубка у него в кулаке разлетелась вдребезги. Его правый глаз зажмурился, левый бешено сверкнул, губа съехала на сторону, волевой подбородок напрягся: он сорвал трубку второго телефона и прижал ее к уху. На этот раз она целилась в открытую.
– Брось трубку!
Мать выкрикнула ее имя. Он резко набирал номер. Я взглянул ему в лицо. Я его ненавидел. Я покосился на ее указательный палец с побелевшей костяшкой, плавно спускавший курок, и в последний миг круто двинул ей локтем под руку. Опять раздался негромкий хлопок. Он глядел на нее в изумлении. Или он был возмущен ее промахом? На его правом виске медленно проступила красная полоска и набухли кровинки, точно на гладкой бараньей ляжке от надреза мясника. Капля крови скатилась по щеке. Глаза потускнели. Он ничком рухнул на стол. Кровавая струйка из его нелепо подмятого носа побежала по красному дереву.
Должно быть, у меня случился краткий, но глубокий провал памяти, точно как наутро после буйной пирушки не можешь вспомнить ни чем она кончилась, ни как ты добрался домой. Видимо, Крис как-то ухитрилась вывести меня из дома. Послышался мне или нет долгий, пронзительный крик? Вероятно, его жена и мисс Пойнсетт прежде всего позвонили врачу, затем католичка Леонора вызвала священника, а уж потом оповестили полицию. Первое, что я отчетливо помню, – это как самолетик разгоняется, Крис кричит: «Пристегни ремень», и мы мягко взмываем. Потом вижу отсвет пульта управления на тонких чертах ее напряженного лица и звездный круговорот: мы поворачиваем к югу – она отвечает мне, – на Хьюстон.
– Зачем? – спросил я.
– В аэропорт. Лети в Нью-Йорк. В Чикаго. В Лос-Анджелес. Подальше отсюда, ближайшим и скоростным рейсом.
– Почему не из Далласа?
– Если мы его убили, то в Даллас тебе лучше ни ногой. Шериф и все его молодцы откроют на тебя охоту через десять минут, и если ты им попадешься, от тебя мокрого места не останется. Все, что я могу, это дать тебе час форы: хватай чековую книжку, паспорт, все, какие есть, деньги и улепетывай без оглядки. Одно ты должен сделать для меня в Хьюстоне – позвонить Биллу Мейстеру в Сент-Луис. Я дам тебе его номер, скажи ему, что случилось. Только он трубку положит, и его как ветром сдует. Евреи – народ быстрый. Привыкли, наверно.
– А с тобой как будет?
– Пока заправят, я звякну домой, узнаю, чем пахнет. Уловил очередность? Ты. Билл. Папа. Я. Как бы там ни было, я возвращаюсь дурить им голову. Оттяну погоню, насколько сумею.
– Быстро ты соображаешь.
– Как папа сказал, что звонит своему дружку полицейскому Пату О’Хара в Сент-Луис, я сразу поняла: Биллу и тебе несдобровать. Господи боже мой, хоть бы он был только ранен. Вряд ли пуля отклонилась больше, чем на полдюйма, от телефонной трубки в его кулаке. Плечевой прицел закрепляет руку, и ты мне его сбил скорее вверх, чем вбок. Чтоб тебя, Бобби, зачем ты это сделал?
У меня само собой выговорилось, что я ненавидел его всю жизнь, с первой минуты. И я почувствовал, что она повернула голову и пристально смотрит на меня. Я глядел вниз, на желтую цепочку уличных фонарей какого-то городка. Действительность, как всегда, была вдалеке. Я видел его в точности таким, каким он предстал передо мной двадцать два года назад, в то туманное утро похорон Анадионы, возле квартиры Наны на Эйлсбери-роуд.
– Что это за город там внизу?
– Почем я знаю. Может быть, Мексия. Или Корсикана. В ясную ночь огни видно за пятьдесят миль. Вон там, к юго-востоку, это, наверно, Уэйко. За каким дьяволом ты это сделал?
– Он отнял у меня единственное, что мне было нужно в мире. Тебя.
– Здравствуйте пожалуйста! Вот уж не он, а Билл Мейстер.
– Он подослал к нам в Венеции эту свою английскую шпионку, Пойнсетт.
– Английскую? Это ты ко мне сейчас суешься с патриотизмом? Папа долбил-долбил мне про ирландцев, Леонора про Испанию, Билл про Израиль; сажусь в Сент-Луисе в самолет с бабусей Пойнсетт – так она всю дорогу до самого Далласа, Форт-Уэрта, талдычит, что Генрих Второй Английский в жизни не собирался захватывать Ирландию, а Генриху Третьему вовсе не нужна была Франция.
– Он хам, он стяжатель, он хочет пить твою кровь, он мешает тебе жить своей жизнью, он бесцеремонно распоряжается чужими судьбами, больше никак объяснить не могу, я не хотел его смерти, я хотел просто убрать его с нашего пути.
Она спокойно поглядывала направо, налево, ввысь. Мигнула звездочка. Она сказала:
– Местный самолетишко из Уэйко.
И, задрав голову:
– А это, наверно, лайнер Мехико-Сити – Чикаго.
– Бобби! Нам с тобой было неплохо, не пакости задним числом. Не будь ты фантазером. Чего тебе надо? Бог ты мой, поглядеть сверху, долго ли мы там внизу живем? Один миг. Конечно же, я хочу выйти за Билла Мейстера. Особенно сейчас, после дурацкой перепалки и пальбы, когда я и сама-то дрожу и мигаю, как самолетик. Бобби! Эта старая ведьма Пойнсетт говорит, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Это правда? А кто ты НА САМОМ ДЕЛЕ? Вон смотри, внизу, видишь? Видишь, движется? Это скорый из Мехико-Сити, идет он в Сент-Луис и Чикаго, а мне нужно в город вечной любви, точно как ему стало нужно в Чикаго, не успел он появиться на свет в Мехико-Сити. Может быть, Билл Мейстер – просто еще одна путевая станция? Надо прожить две жизни, четыре, десять жизней – тогда станет понятно, чего мы взаправду хотим. О Господи, только бы я его не убила. Вот был мужчина! Был и есть. Десятерых стоил. Десятерых СТОИТ. Зачем ты это сделал, сволочь ты паршивая? Ну зачем ты это сделал?
В маленьких самолетах молчат подолгу. В больших засыпают.
– Крис! Я тебя когда-нибудь еще увижу после всего этого?
– Знаю я, почему ты это сделал. Потому что ты ирландский дуралей. Все вы одним миром мазаны. И он был такой же. Был и ЕСТЬ. Ты ненавидишь жизнь, ты на нее в обиде, потому что она не похожа на твои полоумные фантазии. А он тебе помешал? Да, он МЕШАЕТ тебе, поэтому ты его и ненавидишь, то есть не только его, Боба Янгера Второго, ты ненавидишь то, что он отстаивает жизнь как она есть, мешает тебе выдумывать, какой она должна быть. Ты на меня в претензии, как это я посмела полюбить другого? Да пошел ты! Тебя еще и в помине не было, когда я по уши врезалась в одного итальянца. Вот он был из одного теста с тобой, тоже притворялся, будто любит меня, а на самом деле был влюблен в свои восторженные фантазии, которые окрестил моим именем. Этот слюнтяй меня так обожал, что и поцеловать-то ни разу не удосужился. А я люблю Билла Мейстера, еврея, американского еврея: он не капает мне на мозги своей любовью, он – настоящий, твердый, сильный человек, я ему нужна, потому что он хочет меня. Вот и ладно. Мне это подходит. Это честно. Это правдиво. А ты? Ты же не просто под юбку, ты мне в душу лезешь! Ну, точно как тот итальянец, который обзывал меня своей Голубой Мадонной.
– Ты никогда раньше не жаловалась! И с первого взгляда я полюбил тебя всю, и тело, и душу.
– Он опять за свое! Да оставь ты в покое мою душу! Ведь это же еще наверняка и вранье. Что-нибудь за этим да кроется. Вина? Ты вроде моего отца. Уж если кому гордиться своим успехом, так это ему. А ты думаешь, он ликует по дороге в банк? Или когда идет в постель? Нет, вот тебе крест, он на ходу благодарит боженьку за его милости или молится за своих ирландских покойничков: не будь дескать, их, et cetera, in saecula saeculorum [64]64
И так далее, во веки веков (лат.).
[Закрыть].
Гул моторов. Шум ветра. Крупная звезда или планета на западе. Венера? Внезапно погасла. Закрыло облаком? Задуло ветром?
– Ты перевозбудилась, Крис.
– Все вы, ирландцы, – шизики.
– Согласен. Как и все прочие – разве что чуть побольше. Сказать тебе, кто я такой?
Самолет затрясся, точно ему наподдали.
– Выкладывай.
– Я – свой собственный отец.
Она фыркнула.
– Ну да, однажды ночью Гамлет насосался и встретил призрака, и тот сказал ему, что дядя Клавдий, по сути дела, лишил его ласк его мамы Гертруды, а Шекспир из-за этого оставил жену прозябать в пустой постели и написал полоумную пьесу, чтобы поведать обо всем об этом миру; а наш преподаватель английской литературы в Сент-Луисе на этой белиберде свихнулся. Нет уж, я-то знаю, кто мой отец! Господи, ну пожалуйста, ну пусть он останется жив! Я его любила, я люблю его, бедненького. А он любил меня. Он меня любит. Я им восхищалась, я ВОСХИЩАЮСЬ им. Он был настоящий мужчина, он и ЕСТЬ настоящий мужчина, я люблю его, и если он жив, я выйду за кого ему угодно, да чтоб тебе сгинуть, прежде чем я тебя увидела!
Самолетик опять встряхнуло. Он понесся книзу, как оборвавшийся лифт, потом выровнялся. Земное скопище огней пропало с глаз. Темень. Мексиканский залив. На юге полыхнула зарница.
– Крис, как мне убедить тебя? Я – это я и никем другим не был, просто я молодею вышним соизволеньем.
– Я уверена, уверена,УВЕРЕНА, что его только царапнуло!
– Крис! Поворачивай обратно. Я не могу допустить, чтобы тебе за это пришлось расплачиваться.
– Знаешь ли что, как говорят бруклинцы в Нью-Йорке: лучшие евреи – те, которые отбились от своих, и лучшие католики – отступники. Летом, во время нашей поездки, у нас с тобой все вполне клеилось, пока где-то, в Равенне, что ли, или в Монреале, ты вдруг не обалдел перед корявыми византийскими мозаиками, и тут я себе сказала: «Дело дохлое, он в этом так же застрял, как мой папочка». Ты волен думать иначе, но так оно, конечно, и есть. Ты – стопроцентный ирландец и очумелый католик. Как мой папа.
Ветер ярился. Она правила рычагами, как поводьями. Сиянье впереди, сказала она, это Хьюстон. Я снова спросил:
– Почему бы мне не взять вину на себя?
– То-то легавые обрадуются! Им чего же проще. Тоже мне, Сидней Картон [65]65
Сидней Картон – герой романа Ч. Диккенса «Повесть о двух городах», идущий на казнь вместо соперника.
[Закрыть]! Никто не посмеет возбудить дело против дочери Боба Янгера. И вообще, он не умрет. Я этого не допущу!
– Но я же должен знать!
– Езжай в наше обычное нью-йоркское пристанище, в отель «Билтмор». Зарегистрируйся как Роберт Тобертс. Дай лондонский адрес. Жди вестей от меня.
Она связалась с диспетчерской вышкой хьюстонского аэродрома.
В Хьюстоне мне повезло. На беспосадочный до Нью-Йорка я опоздал, зато взял последний билет на лайнер, отлетавший через пятьдесят минут в Вашингтон через Нэшвилл, и еле-еле успел съездить в Хьюстон, схватить паспорт, зимнее пальто и позвонить ее Биллу Мейстеру. Тот мигом раскусил происшествие в Усадьбе Паданец, вопросов не задавал, сказал только: «Спасибо, понял» – и положил трубку. В аэропорту Далласа мне повезло еще больше: до посадки на нью-йоркский самолет удалось выпить и перехватить бутерброд в буфете. Было около трех часов утра, когда я получал номер в отеле «Билтмор»: быстро добрался, учитывая перелет между Усадьбой Паданец и Хьюстоном, тамошнюю задержку, непрямой вашингтонский рейс, еще одну задержку в столице, перелет в Нью-Йорк и путь от аэропорта до Манхаттана, Сорок третья улица. Я повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и проспал до одиннадцати – что-нибудь могло выясниться только к вечеру. Но и потом я не рискнул покидать гостиницу, попросил телефонистку, если что, вызвать меня по радио и слонялся между газетным киоском, рестораном и баром. От этих часов ожидания у меня в памяти осталось только острое чувство своей вины и страх за Крис.
Вижу себя мысленным взором: юноша в углу гостиной отеля «Билтмор», в баре, в закусочной, в ресторане, в кафетерии. За окнами шумит Манхаттан. Неуловимый, мучительно одинокий трепет в нью-йоркском отеле на Сорок третьей улице. В пять часов, осоловелый от выпивки, я пошел к себе в номер и плюхнулся на постель. Бог весть сколько раз мне как бы въяве привиделся один и тот же кошмар – кажется, бегущий лис и собачья свора, – пока под ухом не грянул телефон. Ее голос в трубке:
– Ты? Помалкивай. Я из аэропорта. Домашний телефон, может быть, прослушивается. С ним все в порядке; живехонек и скоро встанет на ноги. Никому из нас ничего не грозит: списали на несчастный случай. Тут была жуткая буча, но теперь тихо-гладко. Одна только маленькая неприятность: он ничего из происшедшего не помнит. Врачи опасаются, что у него повреждена память. Завтра уточню телеграммой. Спасибо, что позвонил Биллу Мейстеру. Он сейчас в одном помещении с тобой. Ты его, пожалуйста, поставь в курс. И еще, Бобби, спасибо, спасибо, спасибо тебе за все-все. Ты растворил передо мной золотые ворота.
Поцелуйное чмоканье. Отбой.
Этого-то, значит, я и ждал с такой надеждой? Блаженная пустота. Так рыба, выброшенная бурей на морской берег, хватает ртом воздух, бьется на мокром песке, задыхается – и вдруг набежавшая волна затягивает ее обратно в благодатное, изначальное, привычное море. Я положил трубку, уткнулся лицом в подушку и расплакался от облегчения. Что, звучит малодушно? Это и было малодушно. Потом встал, подошел к окну и, заложив руки в карманы, благодарно оглядывал суматошную Мэдисон-авеню. Манхаттан и все Соединенные Штаты, целый мир снова в моем распоряжении! Я был свободен – и через минуту почувствовал себя одиноким, как Христос или Иуда.
По улице прошел человек с поднятым воротником, скрипичный футляр под мышкой. Я заметил в «Таймс», что вечером в «Метрополитен-опера» идет «Манон» Массне. (Когда мы с ним встретились, давали «Макбета».) Если еще есть билеты, я… Что она такое сказала про своего Билла Мейстера? «В одном помещении с тобой». А в самолетике было сказано: «В наше обычное пристанище». Наше? Чье? Мне открылась истинная сердцевина моих недавних мук: не вина, не утрата, не страх, а ревность разъедала мое достоинство, мое самоуважение. Я представил себе их вместе в этой гостинице. Она и не подумала выбрать для меня другую. Бесчувственность? Двуличие? Извращенность? Издевка? Торжество? Тщеславие?








