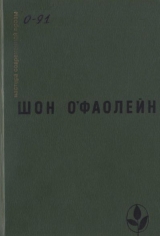
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
Северо-западный ветер доносит звуки оркестров. Вот и опять день святого Патрика. Его день рождения. Вяло мотаются дождевые завесы – то-то мне так зябко. Да, хорошо, что он ушел первым. Тело мое начинает сдавать: он бы, наверно, еще и не заметил, или нет, он был наблюдательный, заметил бы, но так, между прочим, – он во всем видел отражение того идеала, который пестовал в душе и который выпестовал его душу. На коленях у меня лежит рукопись. Я перебрала все его оставшиеся вещи и уничтожила, продала или раздарила их – мне не нужно горьких напоминаний. А с этим не знаю, что делать. Оставить своим душеприказчикам, пусть разбираются? Показать мисс Пойнсетт? Наизусть знаю, что она скажет. Назовет это стряпней, объявит, что вся эта чехарда с годами – заведомое надувательство. Ни один философ, которого я уважаю, не выжил бы в тесной клетке ее разумности. Ей не довелось никого близко узнать. А я жила вместе с ним и любила его. Послушав каватину Генделя «Царице любви», она бы наверняка прежде всего отметила, что истории неизвестны точные свидетельства существования такой женщины. Впрочем, я не совсем ее осуждаю. В данном случае действительно кое-что озадачивает. Показательный пример жизни Б. Б. недостаточно показателен, цель ее удвоения настолько не достигнута, что поневоле задумаешься, точно ли, «как дети давят мух», боги нас, правда, не «губят», но вынуждают жить на потеху их небожительствам [71]71
Цитируются и перефразируются слова Глостера из «Короля Лира»:
Как дети давят мух, вот так и богиНас губят на потеху.
[Закрыть]? Ведь эксперимент с постепенным возвращением Янгеру юности и ясности должен был издевательски продемонстрировать, что, если даже нам по-божески прибавить жизненного опыта, все равно мы, смертные, ни черта ничему не научимся. Однако, чтобы нам, смертным, вынести суждение по этому поводу, надо иметь возможность сравнить Бобби Янгера, известного нам по его второй жизни, с Бобби из первой, а среди действующих лиц его жизнеописания прежде его близко знали только моя бабушка Ана ффренч и сами боги; боги играют в молчанку, а она была выдумщицей, попросту неспособной рассказать о чем-нибудь по всей правде, – и в итоге насмешка повисает в воздухе. У меня такое чувство, что боги давным-давно обо всем этом позабыли; часто ведь кажется, что они вообще забыли о нашем мире, сотворенном от нечего делать неким божественным утром: слепили снежок из олимпийского облака и лениво зашвырнули его в безбрежное пространство – а все пышное и горестное великолепие земной цивилизации, все до последней мелочи, создали сами люди трудом миллионов лет.
Лежа в постели, исписывая последнюю страницу его воспоминаний, едва-едва слыша далекие праздничные оркестры и поглядывая на неслышную переступь дождя, я забавляюсь и мучаюсь совсем другим вопросом. Я притворяюсь, будто слышу мышиный шорох за дверью спальни и будто, стоит мне лишь опустить взгляд, и я увижу ползущие из-под двери желтые листы – предложение мне молодеть и молодеть, а Бобби, который здесь, рядом со мной, крохотный, как моль, станет расти и взрослеть. Первые два года он, горячий, сонный ребенок, будет лежать в постели, у меня на руке. Затопочет по дому послушным пятилетним малышом. В тринадцать лет он начнет в меня заново влюбляться! – а что? – мне тогда станет чуть больше пятидесяти, цветущий возраст. Что это – «Марсельеза»? Пригласили оркестр из Франции? Aux armes, citoyens! Formez vos batallions! Повседневность куда-то отодвигается. Перед глазами мечется крошечная золотистая мошка. Почти в надежде я обратила взгляд к двери. Что же я? Ну, то есть если я сейчас и правда увижу желтые листы – что же я, согласна повернуть жизнь вспять? Согласна?Да еще бы! На все, с первого до последнего мига, с мальчиком, взрослым, стариком. Вновь и вновь и вновь и…
Марки
Маргарин
Лондонская библиотека
Резинка для трусиков
РАССКАЗЫ

©Перевод Е. Суриц
Тучи медленно поднимались над черной грядой, и ее обтягивало ободком рассвета. Я пригнулся, через чердачное оконце выглянул наружу и сказал Рори, что тьма кромешная; и правда, было куда темнее, чем прошлой ночью, когда нам светила полная луна. Рори лежа приподнялся на локте и спросил, не слышно ли мне чего из-за реки.
На всем была рассветная сырость. Она окутала беленый щипец пристройки подо мною, висела над мокрым сеном в закуте, и, как пасмы тумана прошлой ночи под пронзительным лунным светом, она плыла по правую мою руку над гремящей рекой. Я так и видел, как, странно кружа, поток несется сквозь этот ни брезг, ни день, ни темень, свистя камышом и ольхою, и накрывает камни, по которым мы рассчитывали бежать на ту сторону, в горы.
И я шепнул Рори, что слышу только, как бурлит в запрудах вода, и он соскочил с лежанки и стал клясть сволочь-реку, потому что из-за нее, подлюки, черно-рыжие теперь пришьют нас и не поморщатся.
Я стоял босиком на голых досках, выглядывал наружу, я вспомнил прошлую ночь, и меня пробрала дрожь. Мы отступали из Инчиджилы проселками, и, двое с ним, мы заблудились на голом каменистом месте, что здесь зовется Падь, где и днем-то трудно пробраться, а ночью подавно. Вверх-вниз, вверх-вниз мы брели, спотыкались, и у меня глаза уже слипались на ходу, и не было сил поправлять патронташ, когда он сползал с плеча. Рори, деревенский малый, видно, нисколько не устал, а у меня рубашка липла к спине от холодного пота. Туман белым одеялом висел под луной, укрывая округу, и вдоль и поперек ее исчертили черные длинные тени. Вверх-вниз мы брели, туман густел, мы вязли в дряблых лощинах, под ногами чавкал мокрый дерн, и сердце обмирало от страха. Вечером еще, пока не пала ночь, я вдруг услыхал с поймы шум и бросился на землю плашмя, щелкнув затвором, а Рори ругнулся и спросил, неужели же я собираюсь с ними сражаться. И у меня уже ни на что не стало духу, только б на них не напороться, только б уйти, перебраться до света через реку, через большак и выбраться в горы на ту сторону, в Балливорни. И мы брели, спотыкались, и нас пугал любой, самый простой ночной звук: птичий крик, собачий лай, будто на два голоса – гав-гав, и тихо, и опять гав-гав, – и так всю ночь напролет, то с одного, то с другого ската. Люди говорят, ничего нет тоскливей собачьего лая в ночи, а для нас ничего не было тоскливей странного мигающего огонька, дальней-дальней точечки света на темной пустой земле, озаренной только луною с неба. Огонек говорит про друзей, про очаг, про совет и помощь, а нам он говорил про слепой, одинокий путь без конца, а может, про пулю в башку еще до света.
Только раз мы отдохнули, это когда Рори стало невмоготу и он бросил осторожность к чертям и закурил, прикрывая ладонями сигарету. Я растянулся на мокром мху – господи, поспать бы так часок-другой – и отгонял сон, глядя, как занимаются заревом ладони Рори, когда он затягивается. Луна убавилась всего на несколько ночей, и она казалась мне теперь бедовой девчонкой, и черный выем казался беретиком набекрень на пухлой ее голове, и она усмехалась нам обоим. Чума с ними, говорил Рори, ну их к бесу, двум против двадцати все одно не сладить. Рори потянул меня за рукав, и снова мы пошли, и я ругался, что Рори плутает, словно нездешний, а Рори ругался, зачем я, сопля городская, сунулся в горы. А потом мы услыхали, как в мокрой лощине топочет скот, и сами бросились вниз по круче, туда, где издревле продолбила себе дорогу река, мы бежали, съезжали, пока из ночи не выступила дивная купа деревьев и с ними рядом темная глыба дома. Рори признал дом Дэна Джеймси, и мы стали колотить в дверь прикладами, и нам хотелось только есть, спать и увидеть лица друзей. Она окликнула нас из верхнего оконца, и Рори назвал свое имя. Привычная ко всему и жалеючи нас, она спустилась, босая, и длинные черные волосы висели у нее по плечам, и черный плащ внакидку не сходился на белой груди, и ветер рвал как бешеный пламя клонившейся у нее в руке свечки.
Рори оделся, пока я разглядывал горы, вскинул амуницию на плечо и пошел вниз подкрепиться, перед тем как мы выйдем к реке и дороге – они теперь были от нас в полумиле. Я тут же пошел за ним и увидел старую хозяйку и мальчонку, они сидели на лавке, глаза у мальчонки горели от любопытства, а она глядела с тревогой, недовольная, что мы у нее в доме, беспокоясь за своего мужа и сыновей. Молодая, которая нас впустила ночью, стояла как статуя у широкой печи, красивые руки у нее были голые до локтя, а пальцы она странно так держала на макушке, будто защищала волосы, туго натянутые на голове черной бархатной шапочкой и поблескивающие при свете огня. Она улыбнулась мне, когда я вошел, а я даже не ответил на ее улыбку. Рори ей задавал разные вопросы про отряды окружения, и она отвечала, глядя сверху в его серьезное, круглое лицо, что с час назад проехали грузовики, а когда он спросил про реку, сказала, что река поднялась, затопила камни и по ней не перебраться. Она нагнулась за чайником и упиралась рукой в бедро, когда разливала чай. Не прошло и часу, я вспомнил, как она глянула на меня, подавая чашку, и, вспоминая это, я чувствовал то же, что чувствовал прошлой ночью, глядя на странный, чужедальний огонек в конце выморочной долины, полной лунным светом и туманом. Она опять наклонилась, поставила чайник, пошла и села на лавке рядом с мальчонкой с другого бока, положила руку ему на колено и сказала:
– Валежник, который Том вчера принес, совсем не горит.
– Плохо горит, куда там.
– Принеси-ка нам хорошей растопки, Джеймси, а? Принесешь? Да? – Мальчонка безотрывно смотрел на нас, он только ответил «да» и не шелохнулся. Старуха встряла сердито:
– Как же, принесет он.
– Джеймси у нас большой, да, Джеймси? Неужели Джеймси растопки не принесет? Ты принесешь, да?
А Джеймси только ногами болтал, смотрел, как мы едим, и она встала и легким шагом вышла наружу. Старуха ворошила огонь в печи; один сын тупо вертел в руках мой револьвер, другой теребил веретье над головою у Рори и отвечал, что проехал еще грузовик. Мы готовились выйти на большак и к реке, и нам было уже не так жутко, как вчера, среди непроглядной ночи. Я подошел к двери поглядеть, нет ли дождя, и стоял, всматриваясь в темные стойла, в глубокую тьму под соломой – больше нигде мне бы не различить тонких тихих стрелок. Пока я так смотрел, из тьмы показалась она, с охапкой дров, и подняла ко мне лицо, и снова она мне улыбнулась, и потом пошла к дому, укрывая голову от дождя своим синим фартуком. Меня резанула по сердцу эта ее улыбка. Потом Рори и старый хозяин пошли к конюшне, споря насчет лошади, которая нас повезет через брод, а я шел за ними, и так мы вышли туда, где река бешено колотилась над потопленными камнями.
Я сидел позади старика на белой кобыле, крепко ухватясь за него, старался не глядеть в вихрь, выбивавший гальку из-под разъезжавшихся копыт, и краем глаза видел, как взметываются брызги и, сверкнув на солнце, снова падают на пляшущие бабки и темную воду. И в то же самое время я видел ночную вчерашнюю женщину на злом ветру и то, как она на меня глядела два, нет, три раза сегодня утром. Я мечтал, чтобы кончилась моя бродяжья жизнь, и еще я мечтал о чем-то, что боялся даже себе представить; только в нем были запах и свеченье цветов, и запах женщины, и ее ласки. Она так на меня глядела, будто мы повязаны любовной тайной; ни одна женщина из десяти тысяч так не станет глядеть ни на одного мужчину из стольких же тысяч, а то во всей жизни вообще ни одна, и повториться это не может, вчера я готов был поклясться, и вот такая глянула мне в глаза, и сразу я вспомнил городское вечернее зарево, когда солнце зашло уже за самые высокие крыши, и день остывает, и глубину улиц затопляют сумерки, прошитые медленными огоньками, и мужчины просыпаются от дневного дурмана, и опоминаются, и думают про любовь, про тьму, где любовь таится, и бредут из города в темное поле.
Рори забыл, что нельзя смотреть вниз, и боком повалился на лошадиный круп, и, когда мы выбрались на другой берег, он стал говорить про свою дурость, и весь день он про нее говорил. Он глянул вниз, надо же, глянул вниз, совсем забылся, хоссподи-и, ему бы вперед глядеть, а он – вниз, ведь знал же, что нельзя, а вот поди ж ты – сам же я тебе говорил, только вниз не гляди, а вот… Ухх! Чтоб он унялся и не мешал мне думать, я ему сказал, что, видно, он устал молчать прошлой ночью; но это его не задело, и он все трещал, радуясь утру и тому, что до гор осталось всего ничего. Он был низенький, Рори, пузатый, рот у него был как трещина на картофелине, шапка, вздутая камышовым ободом, торчала на голове прямо как тарелка. Он пришпилил на свою мудреную шапку образок Пречистой Девы, но под горячую руку мог сыпать вовсе не девичьими речами. Уж как он меня обложил вчера, когда он увидел вражье кольцо, а я никак не мог разглядеть крохотных фигурок в хаки на скатах под нами.
– Не видишь ты их? – орал он, одинаково ударяя на каждое слово по обычаю своих родных мест. – Хоссподи-и! – бушевал он, произнося это в четыре слога. – Но теперь-то, теперь-то неужели еще не видишь? Хоссподи-и!
Я всегда удивлялся, чего он во мне нашел при таких моих изъянах. Теперь он был зато в мирном настроении и тараторил без умолку, пока мы пробирались против секущего ветра по медленному нагорью. Наконец мы услыхали зудящий треск молотьбы на лысом холме и пошли на него. Там ветер был просто бешеный, и он желтой вьюгой гнал по небу мякину. Сперва вылез синий шифер крыши, потом белые стены дома, желтая скирда, каменные ограды полей, а вот и черная молотилка, прыгающая, как чайник на огне, и вокруг машущие руками люди, занятые работой. Скоро мы были уже среди них и всем по очереди рассказывали о вчерашних и нынешних своих злоключениях. Рори, захлебываясь словами, еле переводя дух после подъема, рассказывал про лошадь и про то, как я никак не мог разглядеть серых фигурок, когда они окружали нас вчера вечером. Падь казалась отсюда ровным плоским местом, а дальние горы – выстроившимися в ряд горбунами. Я смотрел, как всю округу меняют летящие тени туч, слушал двусложный, с утра зарядивший треск молотилки, крик ветра и Рори, старавшегося все перекрыть.
– Кобыла уж посреди реки была, сатана, а я к лошадям непривычный, если кто привычный, тому и горя мало, а я непривычный, и вот она, сатана, посреди реки, а я? Что я? Ну! Что я сделал, я тебя спрашиваю? Взял да и глянул прямо вниз, а? Прямо вниз глянул и, не подхвати меня парень, так бы в воду и перекувырнулся. Ухх! Перекувырнулся бы – и поминай как звали. Мне б, дурню, не глядеть, а я возьми да глянь. Хоссподи-и!
Тут Рори пробирала дрожь, и он окончательно захлебывался словами.
Ветер все гнал по небу мякину, и время от времени кто-то глядел вверх и говорил тому, чью скирду молотили на общинных началах по обычаю гор:
– Авось либо не будет дождя.
Тот задирал голову, озирался, говорил:
– Не должно. Ветер крепкий.
И снова они принимались за работу, охорашивали, взбивали оседающие снопы, а потом мы с Рори опять спустились к дороге. Дорога извивалась между валунов и шла на восток, и на ней ничего не было видно, только верхушки телеграфных столбов впереди. Вся она была голая и пустая, и мы к ней спустились и перебежали через нее, и тут Рори крикнул, что грузовик выезжает из-за поворота. Мы рванули, сердце обрывалось, мы рухнули в мох, и, как колоды безногие, мы переворотились так, чтобы лечь лицом к дороге. У нас над головами взвыли пули, и я увидел, как чудные фигурки строчат в нас на бегу, и я остервенело строчил в ответ, пока не заело затвор, а потом я скатился в ложбинку, оказавшуюся тут на мое везенье; потом я бежал по камням, по трясине, по зарослям, в жизни я так не бегал, и я долго бежал, и, когда я свалился без сил, я не мог дышать, мне сводило грудь, и сердце колотилось о ребра, будто хотело вырваться. Еще стучали выстрелы и в вышине выли пули, они летели, наверно, широкой дугой, я даже слышал, как они, завершая полет, шмякаются о мягкую землю.
Когда все смолкло и сердца наши снова стали биться ровно, мы сошли по разлогу в лесок, где росли березы и рябины, и серебряная кора сшелушилась с берез черными поперечными полосами, и ветер пообирал красные ягоды со слабых ветвей рябины. Серые валуны сквозили в просветах между стволами, иногда на них падало солнце, чтоб обогреть их холодный цвет; ручей трудно пробивался сквозь твердую почву и пел низко и нежно, а на крутом выступе, обозначившемся силуэтом против неба, трудился одинокий работник, без устали взмахивая лопатой. Мы были долго в леске, мы слушали, как поет виолончелью вода, как ветер качает вершины лиственниц, щиплет тонкую рябину, а то вдруг мы вздрагивали, когда грохот грузовика входил в зону нашего слуха и опять удалялся.
Меня разбередила опасность и красота леса, падающая рядом вода, ходуном ходящие деревья, и снова я стал думать про вчерашнюю женщину в черном плаще, которая почувствовала, что и я существую на свете, как каждый, кто встречался ей в церкви или на ярмарке. Она представлялась мне такой, какой спустилась к нам ночью, черный плащ не сходился у нее на груди, и она все вела и вела нас к тихой кухне и последнему жару в печке. Уж наверно, жизнь подстроила эту встречу не с такой мелкой целью, как тысячи тысяч других, когда люди сбегаются и разбегаются в городе и на воле? Сколько раз эти встречи оказывались пустыми и зряшными, и давно бы мне убедиться в их ненужности и кружиться бобиной в челне, а я все трепыхался, словно пешка в руке сомневающегося шахматиста. Но сейчас мой ум отключился, как и прежде случалось, и сердце потянулось к красоте этой жизни, и в тихом, бесптичьем лесочке я совсем забылся. Поток пробил себе путь и стал могучей рекой, и баржи и плывущие огни этих барж гнали по небу темно-дымный вечереющий воздух, и каждая баржа рассекала гребень волны, бегущей от чужого уносящегося борта, а потом медленно таяла в сумраке, и мужчины сидели на палубах и курили, довольные жизнью, и поминали всех мертвых знакомых моих, которые слишком надрывали душу из-за бесполезности жизни. Есть сова в старой кельтской сказке, которая каждую рябину видела еще семенем на дереве и видела, как семь длин ее падало наземь и семь раз снова одевалось листвой; она видела людей, чьи кости вымыло из скал дождем, который обточил их в гальку, и скалы были в семь сотен раз выше, чем в этот гаснущий вечер; она видела людей, для кого выступ над моей головою был бездонной низиной, а впадина, где мы с Рори сидели, была высокой горой до Потопа. И вот такая сова из сумрака окликала меня, и крик ее говорил о незапамятности времен и наполнял меня таким покоем, какой бывает, когда колесо уходящего года ворочается тихо-тихо, почти совсем стоит. Я задремал – жизнь остановилась для меня, веки набрякли и сомкнулись.
А в Рори все бурлило, и он пел о буйной жизни. Он пел песню старого убийцы из Ньюгейтской тюрьмы, песню, которую тот накарябал на стене камеры, и ее прочли, когда уж его повесили и закопали. И ходит он с тех пор жутким призраком по Ирландии, бренча переломанным хребтом. Рори, того не зная, что еще до ночи и сам он будет лежать мертвый, начиненный английским свинцом, весело распевал:
Я Сэмюэль Холл, я Сэмюэль Холл,
Я Сэмюэль Холл, я Сэмюэль Холл,
На всех на вас я, гады, зол,
На всех я зол, на всех я зол,
Да пуля, глядь, одна-а!
Убил я парня, говорят,
Убил я парня, говорят,
Он честной смертью помер, гад,
А вы меня пошлете в ад,
Возьми вас сатана-а!
Я не вслушивался в слова, но смысл вошел в сознанье и разбил сон. Я огляделся. Запад остыл и стал шафранный, будто утрешние молотильщики, множась и множась в долинах неба, взвихряли мякинную вьюгу навстречу падающей ночи. Птицы, верные древней привычке, отправлялись на покой, вытянувшись строем; когда они вклинились в полосу расплавленного солнца, я отвел глаза на воду, но, пока я отворачивался, она стала уже серебряная рядом с черными камнями. Сумерки нас настигали исподтишка, и пора было двигаться к какому-нибудь жилью, где мы сядем у огня, и будем клевать носом подле печи, затененной копотью и не унимающимся дождем, и спать, спать, пока ночь не пройдем мимо.
И снова мы брели, держась проселков, только уже без страха, ведь враг остался далеко позади, и вот, высоко в холмах, продираясь против задыхающегося ветра, мы добрались до домика при дороге, который был сразу и лавкой и почтой, и мы устало сели у огня.
Земля тут была холодная и пусто выметена ветром, и бедную купу вязов, единственную веху на много миль кругом, ветер трепал, как тучи в небе. Рори оставляли тут, а мой путь лежал дальше, и я нетерпеливо ждал телегу, которая поможет мне одолеть часть последних нескольких миль до ужина и ночлега. В дальнем углу кухни старик возчик шептался через низкий прилавок с хозяйкой; девчонка, хозяйская дочка, стояла тут же и зажигала свисавшую с балки керосиновую лампу. Вот две серые макушки озарились сверху. Свет упал на некрашеный прилавок, голый, как тогда, когда доски только еще доставили из города Макрума за двадцать миль отсюда и свалили на кухонном полу на радость толстой маленькой женщине и ее толстому маленькому ребенку. Свет упал на сальные мятые бумажки, медные и серебряные монеты, синие мешки с сахаром, на темнеющие остатки субботней торговли. Я ждал, пока они кончат шептаться, может, они так секретно шептались про деньги, а может, про бабьи сплетни. А может, они хотели, чтобы нас унесло партизанить подальше, пока еще не сгорели крыши над их старыми головами. Снаружи, в ветреной ночи, ходил на оброти у вяза старый конь, низко свесив голову с сонными, как у Будды, глазами. Я сидел у очага и ворошил золу дулом винтовки.
Я знал, что всю ночь будет хлестать ливень, хотя ветер крепчал, и снова я вспомнил про девушку в черном плаще; но уже она соскользнула на много миль в прошлое, и однажды она вовсе в него соскользнет, я ее позабуду, не вспомню, разве что ни с того ни с сего, где-то, когда-то я подивлюсь странной встрече, расчувствуюсь и стану гадать, не спрашивала ли она у кого, куда я подевался, прибавляя, может, что я славный, а может, еще что-нибудь прибавляя. Она была у такой вот двери на руках у матери. И снова будет там стоять через год-другой, выпроваживая последнюю подшучивающую парочку, и поглядит в небо вместе с молодым мужем, заметит, что будет дождь, и укроется от него на засовы и клямки, и вернется к погасающему огню, и будет слушать, как зарываются в мягкое, теплое первые капли и вязы рвет нарастающий ветер; муж прижмет ее к себе, и она, навсегда прощаясь с девичьей порой, втихомолку всплакнет в темноте и потом улыбнется своему первому бабьему счастью. Каких только тканей не ткет старый Ткач, будто и не истрепаться им в ветошь и не вспархивать моли над веками тех, кого он так любил. Даже бури в конце раздробляются в прах.
Я услышал, как Рори демонстрирует свои познанья, почерпнутые в сельской школе, повернулся и увидел, что хозяйская дочка смотрит на него и дожидается конца, чтобы прыснуть.
«Это человек, – выступал Рори, – чье высокое ораторское искусство и мудрость беседы могут равняться лишь с безупречностью его нрава и благородством помыслов, каковыми наделил его Господь, ибо яснее ясного, – еще тверже продолжал император, – что, если природное сияние человеческого разума не затемняется сызмальства и не искажается в зрелости, сила воли человеческой непреложно производит в каждом, в каких бы он ни родился широтах, под какой бы звездой ни увидел впервые свет, если только он верен добру и чурается зла, гений Александра, красноречие Цицерона, мудрость Соломона и дивное искусство Леонардо да Винчи».
Низенький пузатый человечек кончил, задохнулся, повернулся к девчонке, хлопнул в ладошки, потом хлопнул по ладошкам и ее, произведя сам себе бурный аплодисмент.
Оказалось, она немного проводит меня по дороге. Мы залезли в телегу и что-то кричали с задка на прощанье, когда телега тряско отдалялась от двух квадратов света и толпящихся в дверном проеме черных фигур.
Потом мы въехали в широкую тьму и затихли. Я растянулся на дне телеги и слушал хвастливую бурю; я чувствовал себя молодым и смелым, мне весело было слушать, как она надсаживается впустую; над горной грядой, через которую проложили проход дорожные рабочие, пять веков уже, наверное, гнившие в могилах, просторно растекался лунный свет. Нам было в ту же сторону, что бродячим тучам, и они бежали по небу впереди нас. Телегу трясло, глаза у меня слипались, но вдруг девчонка вцепилась в мою руку:
– Ты боишься Буку? Я боюсь!
И бросилась ко мне на грудь, и положила голову рядом с моей головою, и я обнял ее за плечи и так лежал, и нас качало под звездами, путавшимися в пасмах тумана. Потом я соскочил со старой телеги, и скоро ее не стало слышно вдали.
Я спотыкался во тьме, и мысли мои разбредались. Я старался представить себе кровать, на которой сегодня засну. На стольких сотнях кроватей я уже спал, что она могла быть любого размера и вида, но я выбрал из своего набора образов кровать, самую подходящую для дождливой ночи. Это было крестьянское брачное ложе из некрашеного дерева, со стенками сзади и сбоку и сверху как бы прикрытое крышей, так что только спереди оно остается открытое, да и то иной раз завешено присборенным пологом. Она как омшаник, пчелиный зимовник, эта кровать, приплюснутая в головах и в ногах, так что удобно стать перед ней можно только посередине. И пусть воет буря, пусть дождь промочит скирды, пусть затопит навозом скотный; пусть бренчат оконные стекла – а я буду спать, спать ночь напролет, а утром проснусь и увижу проясневшее небо. Мне хотелось есть и спать, и на этой кровати я сперва полежу немного, вспоминая дневные события, и буду искать в них тайный план, прилаживать их для сна, как положено, и все мне откроется, сбудется: женщина в черном плаще, девчонка, мертвый муж, возчик, толпы, сбегающиеся и разбегающиеся якобы слепо, напрасно, – все смешается, спутается у меня в голове, меня укачает плетение странных картин и сон подкрадется исподтишка и меня накроет.
Наконец из тьмы выскользнул светлый квадрат с распятой на нем оконной рамой, и я различил ведущие к двери мостки и кое-как по ним пробрался, когда окно снова запало за свой обрез. Я поиграл с дверью в жмурки, потом ткнулся в нее вытянутыми руками и нащупал клямку. Там огонь, лавка, а может, и белая скатерть и какая-никакая еда, кроме сухой корки да чая с козьим молоком. Я поддел клямку и заглянул внутрь. Молодая женщина стояла ко мне спиной, видно замерев еще тогда, когда я торкнулся в дверь, но на мой голос она обернулась, очнулась, потрогала свои мягкие волосы и пригласила меня войти – это была утрешняя молодая женщина.
– Всенощное бдение, что ли? – сказал я, увидев пустую кухню, и голос у меня дрожал, когда я говорил.
– Черта-дьявола бдение! – И она снова мне улыбнулась.
– Тихо у вас тут, – сказал я и посмотрел на чисто выметенную кухню, а потом я посмотрел на ее подбородок, как у мальчишки, под светлым пушком.
– Да уж, тихо, – и она посторонилась, пропуская меня к лавке. Я спросил, найдется ли тут где переночевать, и она отвечала, что, мол, найдется и милости просим.
– А чего-нибудь пожевать голодному человеку?
– И это можно, если только чуть потерпеть.
Я хотел спросить, как успела она мне в обгон добраться в эти края за двенадцать долгих миль от последнего моего ночлега. Я скинул плащ и патронташ; сложил оружие, сумку и ремень в угол. Она прошла в дальний конец кухни, и я услыхал шелест воды и плеск рук, и потом она вернулась ко мне, к огню, и она вытирала пальцы, и они были розовые, когда упал фартук. Она принялась поддувать огонь в печи, пригнулась к устью и, касаясь одного колена грудью и обхватив его руками, возясь с поддувалом, вся изогнулась дугой. В углах рта у нее я заметил морщинки – может, это она улыбалась?
– Спят старики? – спросил я.
– Да. – Мне почудилось, что у нее дрожит голос.
– А остальные? Где остальные все?
– Больше никого нет. Том, это брат мой, в Керри поехал.
Я откинулся на лавке; огонь ожил и затрещал.
– Да, одной тут небось скучновато.
– Я привычная, – и она пощупала пальцами волосы; до чего они были мягкие на вид! Потом выпрямилась и стала расстилать на белом столе белую скатерть, потом поставила на нее кринку с молоком, чашку, блюдце, сахарницу и банку с вареньем.
– Тут и живете?
– Ага.
– Но не вечно ж тут так уныло, а?
– Уныло, это вы точно говорите; места у нас глухие.
– Ну чего уж, – сказал я. – Я б лично не отказался: горы, долы…
Она замерла и посмотрела мне в лицо; губы собрались в маленький твердый комок.
– Они вам быстро б надоели, горы эти! В городе оно лучше. Много знакомых, ученые люди, развлечения – живи, как душа просит!
Она положила пару яиц в черный котелок с кипятком, и вокруг яиц запрыгали шипящие пузырики. В дымоход ударил ветер и выгнал на кухню черную тучу дыма. Мы молча сидели, а потом подошли к столу, и она налила мне красного чаю, и я отрезал темный хлеб, мазал маслом, вареньем и ел жадно. Она села у огня, и я спросил, почему ей не нравятся эти края, но она посмотрела на меня молча. Я снова спросил, уверяя, что мне, честное слово, надо знать непременно. Она ответила:
– Потому что ферма на голом месте стоит. Земля у нас худая. И тут так похоже на север.
В огонь упала тяжелая дождевая капля. Выла буря. Я увидел все море тоски и досады, скрытое за ее словами, моросящий дождь без единого солнечного луча и как она украдкой поглядывает на одну, на другую ферму и снова на свой дом. Порыв ветра вздул вокруг нее дым, она отпрянула и схватилась за мое колено, чтоб не упасть с табурета.
– Задохнетесь, – сказал я, и брови у нее дрогнули, она улыбнулась. Я прикрыл ее руку ладонью и вспомнил весь долгий-долгий прожитый день, скирды, которые надо было намолотить, пока не улегся ветер, возчика, трусящего сквозь сырую ночь, море тьмы за порогом. Сколько дней мог я выдержать, не взбунтовавшись! Я заговорил серьезно:
– Тяжко жить в этой стране.
И тогда она заговорила со мною по-доброму:
– Я чувствую, вы честный.
– Правда чувствуете?
– Да, вы честный. По-настоящему, – снова сказала она.
Я глянул в ее мягкие глаза, на мягкие волосы, и мой взгляд потянуло вниз, туда, где наметились груди; она перехватила мой взгляд и сама туда посмотрела, а потом она глянула мне в глаза, и она улыбалась. Наклонясь над ней, я заметил обломанный краешек зуба; я не мог ничего ей сказать; и, сидя с ней рядом перед пляшущим пламенем, я обнял ее, и в мою ладонь влегла твердая чаша груди. Улыбнувшись, как больная улыбается врачу, который ее избавил от боли, она скользнула моей рукой себе под кофту, и я тронул теплую кожу и теплый затверделый сосок, и я наклонился над нею, чтобы ее поцеловать. Быстрые шаги у порога. Девчонка из придорожного дома распахнула дверь с криком, чтоб я бежал, бежал; Рори убили; они гонятся за мной, на закат! Я схватил амуницию, я кинулся в открытую дверь, в темную ночь, я бежал, бежал – я спотыкался, падал, бежал, сам не зная куда, только подальше от фар, щупающих дорогу на север.








