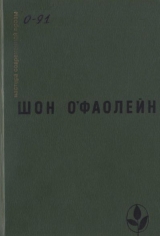
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
©Перевод М. Шерешевская
Когда Магир стал заместителем министра путей сообщения, жена обвила его шею руками, поднялась на цыпочки и, заглядывая ему в глаза, с обожанием сказала:
– Теперь, Пэдди, надо купить мне шубку.
– Конечно, конечно, дорогая! – воскликнул Магир, чуть отстраняясь, но любуясь ею: его миниатюрная женушка все еще была хороша собой, несмотря на начинающуюся седину и первые признаки сутулости. – Хоть две шубки! Теперь-то Свитцер откроет нам кредит на любую сумму.
Молли села, откинулась назад и опустила на колени переплетенные в пальцах руки.
– Ты считаешь меня транжиркой, – сказала она с укором.
– Да нет, право нет. У нас с тобой было столько тощих лет, пора нам иметь хоть что-то на старости. Мне будет приятно, что на моей жене шубка. Мне будет очень приятно, что моя жена утерла нос кое-кому из этих кобылиц на Графтон-стрит, этих раскрашенных потаскух, которые в жизни ни для кого пальцем о палец не ударили – ни для бога, ни для человека, не говоря уже об Ирландии. Непременно купи себе шубку. Завтра же с утра поезжай к Свитцеру, – воскликнул он со всей наивностью и пылом не искушенного в таких делах мужчины, – и выбери самую дорогую из всех, какие там есть!
Молли Магир посмотрела на мужа с нежностью и досадой. Годы сильно ее укатали – политика, революция, муж в тюрьме, мужа выпустили, дети, которых она поднимала на подачки родственников и пособия Фонда помощи семьям заключенных. О прожитых годах говорили кончики пальцев – красноватые, загрубелые – и алмазный блеск глаз.
– Ах, Пэдди, Пэдди, большое дитя! А ты знаешь, сколько тебе придется выложить за норковую шубку? Не говоря уже о собольей? А такое слово, как каракульча, я даже шепотом боюсь произнести.
– Ну, фунтов сто, – сказал Пэдди, набравшись духу. – Подумаешь – сто фунтов. Я теперь буду ворочать миллионами. Мне надо мыслить широко.
– Ой-ой-ой, – пропела Молли своим мягким лимерикским говорком, степенно и с достоинством, как полагается женщине, не раз державшей в руках – когда сидела в отцовской лавке – банкноты тысячами. – Да знаешь ли ты, Пэдди Магир, сколько с тебя возьмут за настоящее, шикарное манто? Оно может стоить тысячу гиней и больше.
– Тысячу гиней? За пальто? Да это же годовой оклад!
– Вот-вот.
Пэдди с силой втянул в себя воздух.
– И ты, – сказал он нерешительно, – хочешь, чтобы я купил тебе такую шубку?
Она засмеялась, довольная тем, что сумела сбить с него спесь.
– Упаси бог! Совсем не такую. Я думала подобрать что-нибудь славненькое фунтов за тридцать – сорок, самое крайнее пятьдесят. Столько нам по карману?
– Завтра же утром езжай к Свитцеру и возвращайся в шубке.
И все же даже тут ей послышалась нотка любования собой – вот какой я великий! Пусть! Она сказала, что еще подумает, поразузнает. Торопиться некуда. И в ближайшие четверть часа о шубке больше не было сказано ни слова.
– Пэдди! Насчет этой шубки! Надеюсь, ты не считаешь, что я веду себя как пошлая бабенка?
– Пошлая? Ты? С чего ты взяла?
– Ну, какая-нибудь nouveau riche [73]73
Богач-выскочка (франц.).
[Закрыть]. Ведь шубка нужна мне вовсе не для форсу. – Молли подалась вперед и с жаром сказала: – Знаешь, для чего она мне нужна?
– Чтобы не мерзнуть. Зачем же еще.
– Ну да, это тоже, наверно. Да, – коротко подтвердила она. – Но пойми: теперь нас станут приглашать на вечера, приемы и все такое. А мне – мне решительно не в чем выйти.
– Ясно, – сказал Пэдди, но она знала – ничего ему не ясно.
– Видишь ли, – пустилась она в объяснения, – мне нужна вещь, которая сгодится на все случаи. Шубка нужна мне не для шика. (В голосе зазвучало презрение.) Ее набросишь – и иди куда угодно – одета не хуже других. Понимаешь, под шубку можно надеть даже старье.
– Что ж, звучит вполне логично.
Он вникал в вопрос о шубке с той же серьезностью, с какой вникал бы в записку о проекте обводных путей. Она откинулась на спинку стула, довольная, с видом женщины, которая все обосновала и может считать, что совесть ее чиста.
Но тут он все испортил.
– А скажи, пожалуйста, как обходятся женщины, у которых нет шубки? – спросил он.
– Они одеваются.
– Одеваются? Разве не все вы одеваетесь?
– Ах ты, глупышка! Они просто больше ни о чем не думают. А у меня нет на это времени. У меня на руках хозяйство, и потом, чтобы одеваться, надо иметь кучу денег. (Тут она заметила в его глазах искорку, видимо означавшую, что сорок фунтов тоже не кот наплакал.) Точнее, они накупают себе костюмов по двадцать пять фунтов. Полдюжины, не меньше. Тратят на туалеты пропасть времени и только о них и думают. Для того и живут. Вот женился бы на такой моднице, так знал бы, что значит одеваться. Шубка тем и хороша, что накинула ее – и выглядишь не хуже любой завзятой франтихи.
– Вот и превосходно! И купи себе шубку! – Он явно уже не испытывал восторга: шубка, как он теперь усвоил, вовсе не шикарная вещь, а практичная. Он пододвинул к себе папку с проектами. Надо взглянуть, что за пирс собираются сооружать в Керри. – Не будем упускать из виду, что шубка – это еще и красиво и тепло. Да и простужаться не будешь.
– Да, да! И еще шикарно! А как же! Удобно! Да! И все на свете! Да, да!
И она выбежала из комнаты, хлопнув дверью, и помчалась в детскую; укладывала детей, словно швыряла кули с торфом. Когда она вернулась, муж сидел, склонившись над чертежами и справочниками. Она принялась латать пижамку сына, но, повозившись немного, подняла ее на свет и посмотрела. Потом с отчаянием опустила на колени и перевела взгляд на ворох отложенного для починки белья.
– Когда-нибудь, когда от меня уже и косточек не останется, изобретут, дай бог, вечные пижамы, которые можно будет протирать, как клеенку, а латать при помощи клея.
Она уставилась на тлевший в камине торф. Дюжина пижам… Белье со всей семьи…
– Пэдди!
– А?
– Меньше всего я хочу, чтобы кто-то думал, будто я могу, при любых обстоятельствах, невесть что из себя воображать.
Она смотрела на мужа выжидающе. Тот не поднимал от чертежей головы.
– Клянусь тебе, меня воротит – просто воротит от этого новомодного выдрючивания.
– Так и надо.
– От этих жен, которым кажется, они недостаточно высоко вознеслись, пока не приобрели меховое манто.
Он пробубнил что-то над картой с пирсом.
– И что бы ты или кто другой ни говорил, а в меховом манто есть что-то пошловатое. Бесформенное оно какое-то. Особенно из ондатры. Я-то хотела шубку из черной мерлушки. Конечно, то, что надо, – это оцелот. Но он немыслимо дорогой. Настоящий. А искусственный я в жизни на себя не надену.
Он искоса взглянул на нее, на мгновение отрываясь от чертежей.
– Ты, кажется, прекрасно разбираешься в мехах. – Он откинулся на спинку стула и благосклонно усмехнулся. – Вот уж не знал, что у тебя все это время шубка была на уме.
– У меня? На уме? Только не у меня. Что ты хочешь сказать? Не говори глупостей. Просто мне нужна приличная вещь, чтобы было в чем поехать в театр или на бал, вот и все. А ты – на уме!
– Ну а чем плоха эта твоя штуковина с пушистым мехом на рукавах? Ну эта, переливающаяся, с, как их там, блестками, что ли?
– Эта?Ходить в этом!Господи милосердный! Да не говори ты о том, в чем ничего не понимаешь! Я ношу ее четырнадцать лет. Наряд моей бабушки на собственных похоронах.
Он засмеялся:
– Раньше ты ее любила.
– Раньше. Когда мне ее купили. Честное слово, Пэдди Магир, временами ты…
– Ну извини. Извини, извини. Я не хотел тебя обидеть. А сколько стоит оцелот?
– Фунтов восемьдесят пять – девяносто самое малое.
– Ну так почему бы нет?
– Скажи мне честно, Пэдди. Только честно, понимаешь? Ты всерьез думаешь, что я могу таскать на себе восемьдесят пять фунтов?
Магир провел карандашом черту на карте, урезая пирс на пять ярдов. Любопытно, пропустит ли это главный инспектор графства?
– Точнее, вопрос стоит так: устроит ли тебя мерлушковая шубка? Какого, ты сказала, она цвета? Черная? Странный цвет для овцы.
Он с досадой стер нанесенную черту: если срезать пять ярдов, пирс будет коротковат при отливах.
– Мех красят! – крикнула она. – Его и коричневым можно сделать. Из овечьей шкуры разные выделывают меха. Вот каракульча – мех неродившихся каракулевых ягнят.
Это его пробрало: в нем возмутилась добрая крестьянская кровь.
– Неродившихся! – воскликнул он. – Как же так? Что же, их…
– Да-да! Разве не мерзость? Клянусь небом, Пэдди, я сажала бы в тюрьму всех, кто ходит в каракульче. Всё, Пэдди, я решила. Я не могу покупать себе шубку. И не буду. И конец.
Она снова взяла в руки пижаму и оглядела ее влажными глазами. Пэдди решительно повернулся к жене: вопрос явно требовал всего его внимания.
– Молли, милая, я, право, не понимаю, чего ты хочешь. Точнее, нужна тебе шубка или не нужна? Точнее, меня интересует: предположим, ты не купишь себе шубку – как ты тогда обойдешься?
– Что тебя еще точнее интересует? – холодно отрезала она.
– Точнее, я не вижу острой необходимости в том, чтобы ты покупала шубку. Точнее, если она действительно тебе ни к чему. Есть ведь и другие способы одеваться. Раз у тебя неприязнь к мехам, почему бы не купить что-то другое, равноценное? В мире сотни миллионов женщин, и вряд ли все они носят шубки.
– Я тебе уже сказала – они одеваются. А у меня на это нет времени. Я тебе уже все объяснила.
Магир поднялся из-за стола, подошел к камину, стал спиной к огню и, заложив руки назад, заговорил, обращаясь в пространство:
– У всех других женщин в мире тоже вряд ли есть время одеваться. Не может быть, чтобы из этого не было выхода. Вот в следующем месяце президент устраивает прием в саду. Сколько женщин придет в мехах? – Теперь он обращался к креслу. – У миссис Де Валера есть время одеваться? – Повернувшись, он полупоклонился корзине с торфом. – А у супруги генерала Малки есть время одеваться? Безвыходных положений не бывает: всегда найдутся способ и возможности (он бросил взгляд на карту с пирсом: а ведь, пожалуй, можно срезать несколько футов в ширину). В конце концов ты сама сказала, что за двадцать пять гиней можно приобрести черный костюм. Так или не так? А раз так, – голос зазвучал победоносно, – почему бы тебе не купить костюм за двадцать пять гиней?
– Потому, глупая твоя голова, что к нему нужны еще туфли, и блузка, и шляпка, и перчатки, и горжетка, и сумочка – и все это в тон, и я избегаюсь, гоняясь за всем этим, а у меня нет времени на такого рода дела, и нужен не один костюм, а два или три. Не могу же я, о господи, выходить день за днем в одной и той же старой тряпке.
– Ну хорошо, хорошо. Я усвоил. Значит, вопрос стоит так: будем мы покупать шубку или не будем? Вот так. Что можно сказать в пользу шубки? – Перечисляя, он каждый раз загибал палец. – Пункт первый: в ней тепло. Пункт второй: она убережет тебя от простуды. Пункт третий…
Молли вскочила и, взвизгнув, швырнула в него своей рабочей шкатулкой:
– Прекрати! Яже сказала, мне не нужно шубки! Не хочу. И ты не хочешь. Ты – низкой души человек. Сквалыга! Ты, как все ирландцы, крестьянской породы. Все вы одним миром мазаны, проклятое племя. Да подавись ты своей поганой шубкой. Мне и даром ее не надо.
И она выбежала из комнаты, захлебываясь слезами ярости и разочарования.
– Сквалыга, – пробормотал Магир. – И как только у нее язык повернулся – сквалыга!
Дверь распахнулась.
– А на прием я пойду в макинтоше! – рыдая, прокричала Молли. – Надеюсь, это тебя устроит.
И она снова выскочила за дверь.
Он сидел за столом, несчастный, окаменевший от негодования. Снова и снова повторяя про себя ненавистное слово, он пытался решить, а вдруг она в чем-то права. Добавил десять ярдов к пирсу. Скостил до пяти и, посмотрев на дело рук своих, смахнул все бумаги со стола.
Им понадобилось три дня, чтобы как-то прийти в себя. Она нанесла ему страшный удар, и оба это знали. На четвертое утро Молли обнаружила на туалетном столике чек на сто пятьдесят фунтов. На мгновение сердце в ней затрепетало от радости. Но тут же оборвалось. Она пошла к мужу, обняла за шею и вложила ему в руку разорванный на четыре части чек.
– Прости меня, Пэдди, – сказала она, по-детски горько плача. – Ты не сквалыга, ты никогда не был сквалыгой. Это я такая.
– Ты? – Он нежно прижал ее к себе.
– Нет. Я не то говорю. Просто я не могу, Пэдди. Из меня все это вытравлено – давным-давно вытравлено.
Он с грустью смотрел на нее.
– Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Он кивнул. Но она видела – он не понимал. Она и сама толком не понимала. Он вздохнул, глубоко и решительно, и отстранил ее от себя, продолжая держать за плечи.
– Молли, – сказал он, глядя ей прямо в глаза. – Скажи по правде. Тебе ведь хочется иметь шубку?
– Хочется, видит бог, хочется.
– Ну так пойди и купи ее.
– Не могу, Пэдди. Не могу, и все тут.
Он окинул ее долгим взглядом. Потом спросил:
– Почему?
Она посмотрела ему прямо в глаза, грустно покачала головой и тонким, дрожащим от слез голоском сказала:
– Не знаю.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ©Перевод Н. Галь
Эта одинокая женщина была уж такая отъявленная… Нет! Лучше промолчу. Не очень-то ласковые слова просились на язык. И, наверно, такой уж ее создал бог. А как выразился некий старый шутник, все мы таковы, какими создал нас господь бог, а некоторые еще и похуже. Но одно я про нее скажу – так говорили частенько ее родные сыновья, и они же прозвали ее Ах-Какая-Одинокая – она была, извините за выражение, отчаянная зануда. Нет, не подумайте – добрая душа, благочестивая, отзывчивая, истая христианка. Но зануда. Беда в том, что она и вправду была одинокая и вечно жаловалась на одиночество, но нипочем палец о палец не ударила бы, чтобы поправить дело, потому что – я глубоко убежден – наслаждалась своим одиночеством.
Конечно, жилище ее никак не подходило для доброй христианки. Жила она в ветхом доме-развалюхе, над мастерской жестянщика; в этих стенах она поселилась, когда вышла замуж, здесь вырастила детей, отсюда ее мужа вынесли ногами вперед, а потом одну за другой она сдавала ненужные ей комнаты жестянщику, владельцу мастерской внизу, и теперь весь день напролет здесь только и слышался стук-перестук, способный кого угодно свести с ума. И как можно жить в доме, где с утра до ночи разит жарким зловонием паяльника?
Сыновья опять и опять убеждали ее отказаться от этого дома, и она отвечала:
– Я знаю, надо бы от него отказаться. Я знаю, это неподходящее место для такой одинокой женщины. Случись со мной среди ночи приступ колотья или, может, аппендицит, глоток воды и то подать некому. Но куда же мне деваться?
– А ты переезжай к нам, мама, – предлагали сыновья.
– Нет уж, – отвечала она. – Нет уж. Поселиться под одной крышей с невесткой? Ха! Больно им это надо. Свекровь в доме им надобна, как же. Нет уж! Кому нужна одинокая старая женщина?
Тогда сыновья принимались ее уговаривать, и жены сыновей тоже, и после долгих уговоров она иной раз соглашалась, и, возвратись домой, они готовили для матери комнату. А за ночь, глядишь, она передумала. Не то чтобы они ее за это осуждали. Ее тесная кухонька – ее дворец, тут она королева. У нее своя чашка с блюдцем, свой нож и своя вилка, она вольна приходить и уходить когда заблагорассудится. По ночам с улицы не доносится ни звука, и в доме ни звука, разве что внизу в мусорном ящике шебаршат мыши или каплет из крана, – тогда, пожалуй, становится слишком уж тихо, но что ж, зато есть у нее другие развлечения. Ее окружают близкие. Сядет она у очага и, устремив взгляд в огонь, заглядится в далекое прошлое, на былую свою любовь к покойнику мужу, на давно умерших сестер, на святых угодников.
Каждый из сыновей хоть раз заставал ее вот так, погруженную в воспоминания, – и вдруг понимал, что в этом доме, где они родились и выросли, обветшалом и разоренном, для нее даже средь бела дня смолкает хлопотливый перестук молотков и отступает уличная суета. Посмотрят сыновья на мать, услышат ее кроткие вздохи – и язык не повернется сказать ей в такую минуту, как говаривали они не раз: «Да пропади все пропадом, мама, ну почему ты не сведешь дружбу с какой-нибудь соседкой?» Невозможно ей такое советовать, когда она с улыбкой поднимает глаза к изображению святого Франциска Ассизского и он улыбается ей в ответ.
А потом однажды, точнее, второго августа, нежданно-негаданно – новость: она написала одному из сыновей, что познакомилась с милейшей женщиной. По-видимому, это случилось, когда она истово, тщательно совершала особый обряд покаяния: за один день верующему полагается как можно больше раз посетить какой-нибудь храм. Войдешь в одни двери, прочтешь молитву, выходишь в другие – и это считается посещение. Возвращаешься, снова читаешь молитву – еще одно посещение, и так до тех пор, пока усталые ноги не откажутся служить благочестивому сердцу. Миссис Мур с величайшим удовлетворением исполняла этот обряд и вдруг заметила молоденькую девушку в красном берете, которая скромно переходила от распятия к распятию. Она радостно улыбнулась и продолжала молиться. В церкви было очень тепло, в ней пленен был льющийся в окна солнечный свет, на алтаре горели свечи, поглощая воздух. Среди изнывающих огней изнывали пламенно яркие гладиолусы. Мир и покой снизошли на старую одинокую женщину, и, когда та девушка тихонько подсела к ней, она уже готова была матерински погладить юную головку, как вдруг девичьи пальчики скользнули по скамье, схватили ее кошелек и пропали из глаз. Миг – и девушка бежит по проходу прочь. Миссис Мур – за ней. Девушка бежала быстрее. Миссис Мур крикнула вслед: «Стойте!» Молящиеся подняли головы и смотрели на них. У выхода девушка бросила кошелек, бегом кинулась через улицу и чуть не угодила под автобус, а одинокая женщина лишилась чувств. А когда она очнулась, оказалось, она лежит в ризнице и какая-то дама с очень знакомым лицом подает ей стакан воды.
– Вот вы и пришли в себя, миссис Мур, – сказала эта почтенная дама.
– Вы знаете, как меня зовут? – удивленно прошептала одинокая женщина.
– Кто же вас не знает, миссис Мур, – отвечала та. – Во всем городе нет такой церкви, где вас не знают. Вы, можно сказать, живете в храмах божиих.
– Другого общества у меня нет, – вздохнула миссис Мур.
– Вы святая женщина. Мы знаем вас так же хорошо, как священнослужителей. Меня зовут миссис Колверт.
– Какое неприятное происшествие!
– Ужасно! – подхватила миссис Колверт. – Подумайте, такая молоденькая девушка. Подумайте о ее душе!
– Надо что-то сделать для ее спасения, – сказала одинокая женщина.
Эта общая забота сразу так сблизила двух старых дам, словно они дружили всю свою долгую жизнь. Они засеменили через дорогу, к молочной, что помещалась в доме, где жила миссис Колверт, и выпили по стакану молока. В эти минуты, заглянув в открытую дверь и увидав их или послушав их разговор, всякий решил бы, что они родные сестры. Оказалось, они схожи во всем, кроме каких-то мелочей. Обе вдовеют. У обеих дети поразъехались. Обе живут одиноко. И та и другая измеряют время по звону церковных колоколов. Миссис Мур отвратителен вечный стук в мастерской жестянщика. Миссис Колверт просыпается по утрам от дребезжанья маслобойки. Не слишком приятен запах расплавленного припоя, но и прокисшее молоко и коровий навоз пахнут не лучше. Только и разницы между ними двумя, посмеялись новоявленные приятельницы, что одна возносит молитвы святому Франциску Ассизскому, а другая – апостолу Петру. И когда они поднялись и стали прощаться, понятно, нельзя было не спросить:
– Теперь, когда мы с вами знакомы, миссис Мур, может быть, вы за меня помолитесь?
– Что вы такое говорите, миссис Колверт! Это вам надо за меня помолиться.
– Полно, полно, миссис Мур, сами знаете, вы поистине святая.
– Ах, миссис Колверт, вы глубоко ошибаетесь. Я грешница. Нечестивая грешница. А вот смотрю на вас и думаю: если есть на свете чистая душа, угодная богу, так это вы, миссис Колверт.
– Полно, миссис Мур, нехорошо с вашей стороны так льстить старой грешнице. Вы должны молиться за меня каждый день. Я так нуждаюсь в вашем заступничестве.
– Будем молиться друг за друга, миссис Колверт.
Возвратясь домой после этой приятной встречи, одинокая женщина застала у своих дверей какого-то незнакомца.
– Имею честь говорить с миссис Мур? – учтиво осведомился он.
– Вы знаете, как меня зовут? – удивилась она.
– Кто же вас не знает, миссис Мур, – улыбнулся этот человек.
– Вот как? – сказала она, весьма польщенная, весьма достойно и весьма смиренно. – Я полагала, такую несчастную, одинокую женщину никто не знает.
Он засмеялся. Потом сказал:
– Насколько мне известно, сегодня утром у вас пытались украсть кошелек?
– Да? Кто это вам сказал?
– Ваша приятельница.
– Моя приятельница? Кто бы это мог быть?
– Она назвалась миссис Колверт. Четверть часа назад она звонила в полицию. Я полицейский агент, и мне поручено расследовать это дело. В последнее время к нам поступило много таких жалоб. Миссис Колверт сказала, что вы сможете опознать девчонку. Это верно?
– То есть узнаю ли я ее, если опять увижу? Да она у меня и сейчас перед глазами.
– Отлично! Стало быть, вот что я сделаю. Завтра утром подкачу на автомобиле к самому вашему порогу, и вы поедете со мной в участок на Брайдуэл-стрит, и, если мы вам покажем эту девицу, вы ее опознаете – договорились?
– О-о-о, не-ет! – протянула миссис Мур. – Этого я никак не могу.
И завела длиннейшую галиматью на добрых полчаса – она, мол, никуда не выходит, кроме как в церковь, и невозможно ей забираться в этакую даль, за рынок-барахолку, в участок на Брайдуэл-стрит, куда по вечерам свозят всех пьяниц, и вообще она никуда из дому не выходит, и сыновья вечно к ней пристают, чтобы не сидела взаперти, а свела знакомство с соседями, и как одиноко ей живется, и, конечно, лучше бы ей и правда не сидеть в четырех стенах, когда-то они с мужем везде ходили и всюду бывали, и про сестер своих рассказала, и про невесток, а полицейский слушал с неистощимым любопытством прирожденного сыщика и неистощимым терпением человека, давно покорившегося своей участи – иметь дело с женщинами, и упорно повторял про автомобиль: как миссис Мур покатит через весь город и как он потом привезет ее обратно, – и под конец соблазн начал действовать. Миссис Мур вообразила, как она едет в автомобиле. Подумала, как станет рассказывать про это сыновьям. И уступила. И полицейский, утирая взмокший лоб, отправился восвояси, выбившийся из сил, но торжествующий.
Но в душе миссис Мур не уступила. Где-то глубоко внутри затаилось ощущение: что-то неладно. Однако сыновья вечно твердили, что она уж слишком подозрительна, если б не это, у нее нашлось бы немало добрых знакомых, – и вот она постаралась заглушить в себе подозрительность, попросту о ней забыть.
На другое утро она поехала автомобилем на Брайдуэл-стрит, и, хотя в комнате, куда ее привел агент, при виде развешанных по стенам наручников и мирно бездельничающих полицейских сердце старой одинокой женщины отчаянно заколотилось, она все делала, как ей велели. Вошла в комнату, оглядела выстроенных в ряд молодых девушек и, выйдя за дверь, объявила:
– Да, она тут. Пятая с конца, в красном берете.
Очень было приятно все исполнить как надо, и потому она не слишком внимательно выслушала, что еще ей говорили, – и только уже дома, куда ее опять отвезли в автомобиле, до нее дошло, что же еще ей говорили. Тогда-то она поняла: надо будет отправиться в окружной суд и у всех на глазах под присягой засвидетельствовать, что перед судом та самая девушка, виновница происшествия. Тут миссис Мур опустилась на стул, и ее затрясло. Ее увидят родные этой девушки. Грубый народ, жители окраины. Отец, брат, мать потом подстерегут ее на улице и отомстят.
Она так и ахнула.
«Ну и ловкая эта миссис Колверт! Сообразила, что ее могут вызвать свидетельницей, чтоб опознала девчонку. Потому и подослала сыщика ко мне. Какое коварство! Есть же такие хитрые, коварные люди! А я-то, несчастная, одинокая старуха. С такой несчастной, простодушной, одинокой женщиной – и так поступить!»
Она наскоро нахлобучила шляпку, так что седые волосы выбились и их трепал ветер, заторопилась обратно на Брайдуэл-стрит, отыскала того агента и заявила ему:
– Я ошиблась. Это не та девушка. Теперь я вспомнила. А тогда в голове все перепуталось. Я такая старая, бывает, сама не знаю, что говорю. Забудьте, что я вам наболтала.
И хоть этот агент был человек терпеливый и привык управляться с женщинами, с нею он сладить не мог; уж он и уговаривал ее, и упрашивал, и умолял, даже грозил, даже уселся на табурет с железными ножками и зарычал на нее как тигр – все понапрасну.
– Нет-нет, – сказала одинокая женщина. – Не могу я этого, хоть убейте. Я одна на свете, где мне в суд, против таких ловких да расчетливых. Пускай идет свидетельницей миссис Колверт, она такая разумная и ловкая, эта миссис Колверт, такая храбрая и бесстрашная со своим святым апостолом Петром, да еще говорила: «Молитесь за меня, миссис Мур»!
И она стала толковать агенту про свою одинокую жизнь, про сестер и покойника мужа, про сыновей и невесток, а он все слушал и под конец сказал:
– А, знаете, миссис Колверт и впрямь к нам придет и опознает ту девчонку. Она мне сегодня обещала. Вы несправедливо про нее говорите. Просто она хочет, чтоб вы ей составили компанию. Говорит, у нее нервы слабые и тоска ее разбирает.
– Нервы? – воскликнула миссис Мур. – Да у меня нервы в сорок раз слабее. Она над молочной живет, какое у нее право жаловаться на нервы? Вот я, бедная, несчастная, заброшенная, у меня целый день от стука молотков голова пухнет, кругом пьяницы, крик да шум такой – святого с ума сведет.
И опять пошла-поехала про сыновей, и сестер, и про покойника мужа, и про невесток – и все это чтоб заглушить угрызения совести, ведь она и вправду была несправедлива к миссис Колверт и подозрительность, от которой так часто предостерегали сыновья, ввела ее в заблуждение. А полицейский вкрадчиво, с мягким ирландским выговором, опять и опять твердил, как приедет за ней в автомобиле и повезет ее по городу, и опять, сама не зная как, она сдалась – и не успела спохватиться и передумать, а он уже сбежал от нее и выпил две двойных порции виски, причем не на казенный счет, а за свои кровные.
На другое утро глядь, тут как тут миссис Колверт – мило улыбается ей, будто это у нее, у миссис Колверт, пытались украсть сумочку, будто сидит она в собственном автомобиле и этот полицейский – ее собственный шофер и она самолично все это устроила! Машина тронулась, и всю дорогу две старые дамы оживленно беседовали. Они радовались солнышку, и толпам на тротуарах, и уличному движению и, когда замечали среди пешеходов кого-нибудь знакомого, приветственно махали, все равно, видели их знакомые или нет. Они говорили, что поступают по справедливости и та девушка в конечном счете им будет благодарна, и церковь будет им благодарна, и весь город должен бы их благодарить, и к тому времени, когда они обо всем этом переговорили, их ввели в комнату, где по стенам развешаны были наручники, и стояли жесткие табуреты, и полицейские по обыкновению преспокойно бездельничали.
Миссис Мур и миссис Колверт вошли туда вместе. Бок о бок, очень бледные, прошли они взад и вперед мимо выстроенных в ряд подозреваемых и, конечно, увидели ту, что пыталась обокрасть миссис Мур, – девчонка нахально, в упор уставилась на них. Они не сказали ни слова – говорить ничего и не полагалось, пока они на выйдут за дверь; но и за дверью они продолжали молчать. Изумленный сыщик не выдержал:
– Ну? Вы ж ее узнали! Я видел, вы ее узнали!
Благочестивые старые дамы обменялись быстрым взглядом, и одинокая женщина спросила шепотом:
– Что скажете, миссис Колверт?
– А вы ее узнали, миссис Мур? – пробормотала та; ее всю трясло, и она криво улыбалась, словно параличная.
– Мне интересно знать, что скажете вы, миссис Колверт, – отвечала одинокая женщина, изо всех сил стискивая сухие кулачки.
– Послушайте, вы! – вмешался сыщик. – Сколько я с вами проканителился, а теперь вы что, на попятный? Подвести меня вздумали?
– Ого! Какие все нынче стали умники, не угонишься за ними! – сказала одинокая женщина.
– Ну, вы-то были очень милы, – сказала агенту миссис Колверт. – Так приятно было прокатиться в автомобиле. Я получила огромное удовольствие.
Агент уставился на них во все глаза – и у той, и у другой решительно поджаты губы. И обе смотрят на него жалостливо.
– Понятно! – зло рявкнул он. – Если б вы вошли первой (он глядел на миссис Мур), вы бы сказали «Не узнаю», и пускай воровку опознает другая. А войди первой вы (к миссис Колверт), свалили бы все на эту. Ну и парочка, черт подери! Паршивые душонки, пускай эта девка вас обеих обкрадывает до второго пришествия!
Он предоставил им возвращаться домой пешком. День был жаркий, и две старые дамы быстро устали. По дороге они не обменялись ни словом. Обе совсем обессилели, даже миновали две церкви и не зашли помолиться. Но вот наконец и церковь их прихода, у дверей они расстались – даже не взглянули друг на друга, только молча кивнули. Прошли в прохладный полумрак храма, каждая в свой угол, и вскоре две седые головы благочестиво склонились, и вот уже губы твердят слова молитвы, будто привычно перебираются четки. Одинокая женщина подняла глаза на Франциска Ассизского, а та подняла глаза на святого Петра. Каждая изредка покосится украдкой через проход на другую, когда та не смотрит, и вновь отвернется и со счастливым, исполненным преданности вздохом опять обращает взор к своему единственному верному другу.








