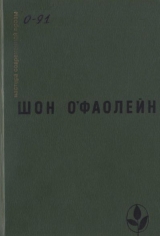
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
К роману О’Фаолейна, написанному как притча о жизни человека, нельзя подходить с мерками бытового правдоподобия. С первых его страниц читатель вслед за героем втягивается в эксперимент совершенно неправдоподобный. В правила затеянной игры входит загадывание загадок. Но нас ждет разочарование, если вместе с героем, увлекшись почти детективной историей, мы будем искать к ним точные ответы. Упорство Янгера упирается в насмешку богов, читатель же, коль слишком долго он будет сличать факты и сопоставлять даты, неизбежно почувствует лукавую улыбку автора. Он рискует уподобиться персонажу романа, мисс Пойнсетт (пародия на мисс Марпл Агаты Кристи), доверяющей только фактам: «Послушав каватину Генделя „Царице любви“, она бы наверняка прежде всего отметила, что истории неизвестны точные свидетельства существования такой женщины».
На вопрос интервьюера – в этой роли выступила его собственная дочь, известная писательница Джулия О’Фаолейн, – почему в жизни героя романа «И вновь?» подчеркнута личная, а не общественная ее сторона, писатель отвечал, что хотел «добраться до сущности человека, того, что Йейтс называл „личностью“, до ядра, освобожденного от оболочек, именуемых характером, приметами места, социальными функциями». Но социальный элемент никогда не исчезает из его произведений – комментирует это объяснение Джулия О’Фаолейн. И действительно, хотя в романе речь идет о личном, семейном прошлом, в какой-то степени это и метафора прошлого исторического, пережитого лично, напоминающего о себе незаживающей душевной раной. Потому что в ирландском контексте тема прошлого всегда включает в себя общественный, даже политический смысл. И по-прежнему остается одной из самых острых, больных для ирландской литературы. Сколько было написано об истории как «кошмаре» (Джойс), как грузе «бесполезных» (Л. Макнис) или «обжигающих» (Дж. Монтегю) воспоминаний. И в филиппиках героя О’Фаолейна нельзя не услышать взволнованный авторский голос, знакомый по другим выступлениям писателя: «…и слово „прошлое“ вдруг стало мне отвратно… этим словом оскорбляли достоинство моей страны. Слишком уж много попадалось мне эдаких нахрапистых патриотов в дублинских кабачках, где они, до капли выдоив свое (?) Славное Прошлое, в мгновение ока от этого прошлого отшучивались как ни в чем не бывало: показывали, что стоят на земле обеими ногами. Овцы, разбредшиеся из загона рухнувшей империи, полулюди, навеки меченные клеймом имперского овцевода на крупах».
Шон О’Фаолейн – искушенный мастер художественной прозы, прекрасно знающий ее историю и современные концепции. Выступал он, как отмечалось, и в роли исследователя жанра рассказа и романа. В своем последнем в полном смысле слова оригинальном произведении он сполна проявил и свою высокую образованность, и тонкое чувство литературного стиля. Многие страницы его романа пронизаны литературными ассоциациями и аллюзиями, цитатами явными и скрытыми. Он как бы разглядывает накопленное искусством богатство, наслаждаясь его сверканием, примеряя к своим задачам. Йейтс и Джойс, Джеймс и Набоков – их словечки, фразы, каламбуры, парадоксы, чаще всего нарочито искаженные, рассыпаны по тексту романа. Это, конечно, создает особые трудности для переводчика. Но не для читателя. Как большинство подлинно художественных созданий, роман О’Фаолейна доступен читательскому зрению разной остроты. Потому что «ключи» для его понимания писатель не прятал.
Для понимания романа О’Фаолейна важны не столько литературные ассоциации, сколько размышления о романной форме. «Это я для себя пишу. Мне надо помнить. Одни бессмертные способны жить беспамятно». Этими словами Янгер начинает свои мемуары, О’Фаолейн – роман. Факты или впечатления, летопись жизни или ее интерпретация – дилемма, стоящая перед автором мемуаров. Нана, верный друг и единственный читатель Янгера, уличает его в непоследовательности и противоречиях. Он хотел сделать документальный фильм без сценария, тогда как на экране, как и на бумаге, не может быть «все как в жизни». Любой объект, попавший в поле зрения, в искусстве обретает формообразующую роль. Рассуждения и споры в тексте романа, хотя в нем и нет публицистических отступлений, отчетливо выражают эстетическую концепцию автора. «Для современного романа существенно, что писатель истолковывает, а не повествует – повествует кто угодно, – и мы, его читатели, блуждаем с ним среди намеков и догадок. Я не автор и не читатель, я главный герой – так сказать, очевидец, я в курсе дела». В этих словах героя выражена очень важная для писателя оценка повествовательного искусства. И позиция автора – «очевидца», который «в курсе дела». Такой она была прежде и сохранилась в последнем романе. Потому что притча О’Фаолейна о жизни человека – это и его рассказ о себе.
Дело не только в автобиографичности – а в романе множество автобиографических деталей, начиная с года и места рождения Янгера. Хотя и эта сторона романа указывает на позицию автора, который всегда писал только в том случае, когда мог себя чувствовать «в курсе дела». Конечно, было бы наивно отождествлять рассказчика и автора, героя и писателя. Но то, что О’Фаолейну удалось сказать о человеке, его утратах и разочарованиях, радостях и неослабевающей жажде жизни, – в немалой степени результат эксперимента, им самим на себе поставленного. Нужно было прожить долгую и большую жизнь, чтобы написать эту «длинную, как жизнь, книгу».
О герое романа в его новой жизни говорится, что он остался «таким же законченным, неизлечимым, непробиваемым и страстным романтиком». Писатель-реалист, О’Фаолейн в своем отношении к жизни остался романтиком. Уже после выхода романа, когда его автору исполнилось восемьдесят лет, его спросили, по-прежнему ли он романтик. «Конечно! Сейчас, как и всегда», – ответил он.
А. Саруханян
И ВНОВЬ?
©Перевод В. Муравьев
SEAN O’FAOLAIN
And Again? London 1979

Это я для себя пишу. Мне надо помнить. Одни бессмертные способны жить беспамятно. Не сберег воспоминаний – берегись воображения: зарвется, заврется, свихнется. Мне надо в точности помнить, что произошло тогда, мартовским утром 1965 года, – и станет ясно, как это сказалось потом на моей жизни. Но только не драматизировать, ничего не накручивать, не усугублять. Все ведь началось под сурдинку, я тогда и сам не заметил, что началось. Полупроснувшись, я медленно повел глазами в сторону мышьего шороха за дверью спальни. Смутно привиделись мне две желтые бумажные полосы машинописного формата, углом выползавшие из-под двери на ковер. Все еще спросонья оглядел я комнату, до странности незнакомую, выпростался из постели, отодвинул занавеси – и с изумлением увидел внизу за окном опять-таки незнакомую и запущенную лужайку, примерно тридцать ярдов на двенадцать, по краям которой брезжили ранние краски весны – расцветающие нарциссы, золотистая россыпь форзиции, – нет, это не май, скорее март; и в дальнем конце двора сквозила исчерна-зеленоватая хвоя пирамидальных кипарисов, а за ними виднелись соседские задворки и бесцветное небо. Направо и налево – вереница схожих домиков со схожими садиками. Я приложил ладонь к груди и громко выговорил: «Что за черт, где я?» – но ощутил в ответ такую глухую пустоту под черепом, что тут же стал искать глазами зеркало во избежание другого, прямого вопроса, который уже наклевывался.
По левую руку в углу комнаты была розовая раковина; над ней белый кафель и зеркало. Я глянул в него и увидел лицо старика, редкие распущенные волосы, почти седины, красный нос, губы, поджатые как у старой карги без вставной челюсти, набрякшие веки – а ярко-голубые глаза сердито смотрели на меня. Он скорчил злобную гримасу. Я обернулся: нет ли его позади, – и опять увидел тусклые листы, наискось подсунутые под дверь; отмахнулся от мысли, что меня усыпили и похитили, подошел к двери и распахнул ее… Пустая лестничная площадка. Я подобрал длинные желтые листы, присел на край постели и стал читать убористое послание.
Отдел Внешних Сношений
Олимп
Вечность
Индекс А/Я
Получатель: Мистер Джеймс Дж. Янгер. Журналист. Дом 17, Росмин-парк, Дан-Лэре, Дублин, Ирландия, Европа, Северное полушарие, Земля.
Сэр, Вам будет небезынтересно узнать, что некогда (поземному 5000 лет назад, по-небесному чуть не сию минуту) Наши Предвечные Небожительства, собравшись на Олимпе, обсуждали, как наилучшим образом провести эксперимент, предоставляющий какому-либо смертному возможность прожить жизнь заново. Требуется лишь раз навсегда установить, черта ли вам, людям, проку в так называемом Жизненном Опыте.
Имею удовольствие предложить Вам от лица Наших Небожительств завидную роль подопытного соучастника данного эксперимента. Вы, разумеется, вольны принять или отвергнуть Наше предложение, но Мы есть Мы и как таковые сверхъестественно предвидим Ваше решение, хотя и не предуказуем его. Поздравляем Вас, мистер Янгер. Сегодня Вам исполнилось шестьдесят пять лет; и сегодня день Вашего второго рождения.
Должен, однако, известить Вас, что Ваше перевоплощение придется сопроводить двумя условиями. «Придется» – потому что хотя наше могущество и безгранично, но управляет им всевышнее попечение о сообразности. Соизвольте уяснить.
Много чего на белом свете недоступно человеческому пониманию, но в одном никто никогда не сомневался: в том, что всякое земное происшествие исполняет изначальный умысел. И верно, есть творческий расчет мироздания, даже самые ваши древние земляне усмотрели его, взирая на повторяемость явлений в окружающем мире:
Чередованье дня и ночи,
Бурь и затишья,
Блаженная круговерть рождений, взрастаний,
Болезней и тлена,
Смиренница смерть,
Безумное счастье, безмерное горе,
След серебристых лайнеров в чистейшей синеве
И тысячи горелых мертвецов;
Расползающиеся города-гиганты
И пепелища на месте рабочих кварталов.
Миллионы жертв голода и войны
И поспешная милостыня, щедрая горстка крох,
Птицы небесные, звери земные,
Утро, день, закат, сумрак и солнце…
И любая жизнь спокон веков сопряжена со всякой другой жизнью. Не будь Вавилона, не было бы ни Баллимакулагана, ни Вифлеема, ни Бельзена, ни Белфаста. Тутанхамон чихнул, вот королева Виктория и простудилась. Греческие корабельщики заплыли за Сардинию, вот корсиканец и проиграл битву при Ватерлоо. Где были бы нынче Вы, мистер Янгер, если б Англия не прошлась поганой метлой по Вашей стране и не явила бы миру герцога Веллингтона? А нос Клеопатры? Да Вы и существуете лишь потому, что Адам соблазнился фиговым листком и узрел Евину наготу. Все-все взаимосвязано. Уловили? Отлично!
По всему поэтому Мы сверхъестественно осмотрительны со всяким начинанием, которое по-видимости противоречит исконному порядку вещей. Так, например, если после стольких слаженных веков Мы допустили бы нечто, кое-кем из вас по недоразумению именуемое чудом (а ведь слово «чудо», смею напомнить, сродни словцу «чудовищный»), – ну, положим, дозволено будет мертвецу восстать из могилы или новая конечность отрастет взамен отсеченной, – так ведь человеческая вера в богов сразу пошатнется. Люди скажут: «Ну и чудные эти боги. Только бы им над нами издеваться». Мы и правда могли бы такое сотворить. Мы и не такое можем. Но не станем этого делать, будучи богами. Выражаясь на Ваш журналистский манер, Мы чудом обходимся без чудес. Блюдем закон и порядок.
Отсюда и проистекают два маленьких условия Вашего второго пришествия, а именно:
Первое.Предаваясь фантазии под названием «Прожить жизнь заново», люди всегда впадают в терминологическое противоречие. Рассчитывают они на Повторное Решение Идентичной Задачи. Это абсолютно исключено. Дважды в жизни ничего не бывает. Колумбу в другой раз не так повезет с погодой, Бруту случится забыть свой кинжал, а Наполеон накануне иного Ватерлоо невзначай покушает несвежей рыбки. Точный повтор выхолостил бы жизнь, лишив ее живости, риска, свободы воли, неведения, случая, выбора, нечаянности. Да и кому это вообще надо – разыгрывать заезженную роль в заезженной человеческой комедии? Впору сгинуть от скуки, подобно актеру, обреченному до скончания века изображать одно и то же.
Посвятив известное количество секунд решению соответствующего вопроса, Мы постановили, что есть один лишь способ предоставить Вам вторичное протяжение жизни, чреватой аналогичными, но не идентичными задачами. Надо строго оградить Вашу память от подробностей былых шестидесяти пяти лет, ничуть не ущемив, однако, всей полноты вашего жизненного опыта. Это значит, что из Ваших прежних сподвижников Вам будут памятны только эпизодические – Могильщик и Часовой, Вестник, Призрак, может быть, Розенкранц, пусть даже Полоний, но не его дочь, не Клавдий, не Гертруда, не Лаэрт. Ни близких друзей, ни главенствующих лиц, ни тебе Давида, ни Ионафана. Вам придется искать и создавать себе близких, как прежде.
Второе.Нельзя же, чтобы в начале другой своей жизни Вы гукали в колыбельке – это в шестьдесят-то пять лет! Опять же ни к чему Вам глупеть и дряхлеть до своих ста тридцати. Отнюдь. Вы начнете с Вашего нынешнего возраста, шестидесяти пяти лет, и проживете их назад, молодея и молодея, пока в зрелом нулевом возрасте Вас не затянет обратно материнская утроба Времени.
Таким образом, повторная Ваша жизнь никого не встревожит. Признаки поздней житейской мудрости, которые Вы будете выказывать на обратном пути от пятого к четвертому и от четвертого к третьему десятку, спишут на старческий маразм. На подходе к десяти годам Вас сочтут из молодых да ранним. Во избежание недоумения окружающих ввиду вашей возвратной юности Вам желательно менять местожительство по мере того, как Ваше моложавое обличье перестанет объясняться обезьяньими железами, овсяным киселем, йогуртом, зерновыми зародышами, косметикой, корсетами или пивом «Гиннесс».
Вот такие условия. А относительно сброса Вашего прежнего бытия затруднений не предвидится. Нынче люди что ни день исчезают без малейших последствий. Нужные документы, закрепляющие Ваш новый социальный облик, будут Вам доставлены, как только Вы формально примете Наше предложение, но не ранее Вашего размышления над оным на протяжении 1 (одного) часа.
Данная задержка вызвана тем, что Вы уже сомневаетесь, происходит ли это с Вами наяву и за каким дьяволом (за тем самым) Вы избраны. Вы избраны просто потому, что Нам понадобилось избрать некое незначительное лицо. Хороши были бы шуточки – воскресить Кромвеля, Наполеона или Гитлера: воскресить и позволить им заново изводить и донимать человечество. Еще и по той причине Вы человек подходящий, что Вам все равно надлежало в пределах часа погибнуть под колесами синего грузовика, который пронесется поперек Вашей аллейки точнехонько в 9 ч. 32 мин. 30 сек., как раз когда Вы ступите на мостовую, направляясь к киоску за утренней газетой. Сейчас 8 ч. 32 мин. 30 сек. Вы ощутите всю надежность Нашего предложения и будете иметь полную возможность принять его либо отвергнуть, выйдя на указанный перекресток к 9 ч. 32 мин. 30 сек., когда грузовик проследует назначенным курсом.
Тем самым все. Засим Нам с Вами не предстоит никаких словесных контактов; Вы, разумеется, будете иной раз угадывать Наше присутствие, но угадывать ошибочно.
ls mise le meas [1]1
Мой вам привет (гэльск.).
[Закрыть].Секретарь Отдела Внешних СношенийОлимп.
Едва я прочел последнее слово, как желтые листы медленно съежились у меня в руках, рассыпались и исчезли; остался присевший на постель старик в блеклой голубой пижаме, старик со всклоченными сединами, морщинистый лик и впалые щеки, словно с этюда во вкусе Микеланджело, мешки под глазами, а в желудке смесь желчи с медом, холод страха и холодок надежды; сидит, вперив ликующий взор в превосходнейшее измерение жизни, известное под названием Будущего Времени.
А как еще отозваться на такое сообщение шестидесятипятилетнему человеку? Хмыкнуть, фыркнуть и фукнуть? Сказать: «Тоже мне выискались умники, любители крупно пошутить! Это ж надо – на ночь подпоили, а наутро подсунули под дверь идиотскую бумаженцию, чтоб я побесился – то-то потеха!» Так, что ли? Нет уж, позвольте-ка мне воспеть тихие радости преклонных годов, скопом ожидающие нас на подходе к обещанному у псалмопевца семидесятилетию: хилость, импотенция, недержание, дивертикулы, кишечные раки, камни в желчном пузыре, гной в глазах, конюшня во рту, тупоумие, отрыжка, зевота, газы, запоры, воспаление простаты, застопоренное пищеварение, одинокие дни, пустые ночи, мышечные боли, кризис сбыта, рост цен, урезание пенсий, отсутствие планов и оскудение памяти, инфаркты, инсульты, а если повезет – сонный автобус в аэропорт и тамошнее предотлетное ожидание деловитого голоска: «Всех пассажиров рейса Омега на Преисподнюю просят пройти к выходу номер ноль-ноль-ноль».
Я поверил в это предложение так же безоглядно, как приговоренный к смерти узник поверит утешительному шепоту тюремщика: мол, вышло помилование, вместо казни – пожизненно. Я так хотел, чтобы предложение было подлинное! Я хотел лететь другим рейсом, попозже.
Однако насчет смертоносного синего грузовика все же не мешало проверить.
Я встал, поглядел на прохладное небо за кипарисной оградой и надумал собственный маленький тест. Если, как мне бесцеремонно заявили, я уже по сути сказал «Да» (ни черта подобного я на самом деле не говорил), то сколько от прошлой жизни осталось теперь в моей новой, усеченной и куцей, памяти?
Ближайшие воспоминания не шли дальше обстановки комнаты и вида за окном. Из более отдаленного прошлого, то есть из шестидесяти пяти прожитых лет, нахлынули образы, мысли, суждения, предрассудки, мнения, факты, места, происшествия – вся масса того, что смутно считается общеизвестным. Поверх головы. Чепуху они там сболтнули. Моя память была ничуть не хуже… Я осекся, полуиспуганно, полуоблегченно. Лица выплывали во множестве, но чьи это были лица – я не помнил. Всеобщая неразличимость? Забытый Робинзон погружается в забвение? Я вспомнил, что недавно был на Куррахских скачках: увидел и услышал толпу, и в ней ни одного знакомого. Был на танцах сколько-то лет назад. Партнеров не помню. Бывший журналист, я вызвал в памяти большое стечение народу на Трафальгар-сквер, припомнил ораторов, кое-что из речей, но личных встреч, частных бесед – ни звука, ни тени. Хотя стоп! Кто-то, помнится, мне улыбнулся. А, контролер в поезде. А вот еще была приветливая женщина – в Манчестере, что ли? – дня не проходило, чтобы я с нею не перемолвился словом-другим. Ага, официантка в кафе.
Значит? Ну что ж, значит, так, вот как оно, значит, будет. Я рассудил, что это опустошение памяти по-своему очень даже утешительно. С плеч долой многолетние обязательства и бремя прегрешений: о, как благоухает невинность! Отрадно будет отрешиться от близких, отделаться от друзей, не помнить родни, реять, как чайка над взволнованным морем; и я, наверно, утешался бы этим отрадным чувством новообретенной свободы добрый час, если бы церковный колокол не вернул меня к злобе дня. Еле-еле хватит времени умыться, побриться, одеться и вовремя выйти на перекресток, чтобы сделать свой первый (или последний) жизненный выбор. Я отказываюсь признавать, что предвидение подразумевает предуказание, даже в устах вседержителей. И не согласен я, будто нельзя и то, и другое, вместе взятое, послать к чертям собачьим. Я настаиваю на том, что я свободный человек и волен выбирать! В свое время так и оказалось, что волен – до известного предела.
Я подошел к розовому умывальнику и увидел свое отражение, которое, опершись о края раковины, косилось на бледно-зеленую зубную щетку, лежавшую на подзеркальнике. Вот оно, мое прошедшее, настоящее и будущее. Неужели я сам купил себе эту пакость гнойного цвета? А если она не моя, то чья же? Я взял ее, поглядел на стертую щетину и положил обратно – брезгливо и недоверчиво. Всякая зубная щетка обязательно чья-нибудь – и не просто так, а самая интимная принадлежность. Можно позаимствовать у друга или одолжить ему свое мыло, ну, бритву, в крайнем случае даже расческу, но зубную щетку – никогда.
Обозначилась дилемма. Я никак не мог выяснить, моя это щетка или нет, потому что Я, тот, который ее приобрел, был за пределами моей памяти: а это значит – и мысль моя бешено жужжала вместе с лезвиями электробритвы, – что – 9 ч. 19 мин., – что меня надули. Половину второй своей жизни я изведу, припоминаючи себя – до тех пор, пока не распознаю собственную зубную щетку или не стану с ней соотносим. Годы и годы понадобятся мне, чтобы сравняться с самим собой. «А это, – яростно отфыркиваясь, – означает, что Вы, всевышние мерзавцы, предлагаете мне не шестьдесят пять лет жизни, а почти вполовину меньше. Хорошенькая сделка, кому ни предложи, – обретенная память в обмен на полжизни задом наперед! Нет уж, спасибо!» Я сплюнул перед тем, как напялить галстук, прогрохотал по ступенькам, схватил шляпу – «Моя? Благодарствуйте! Я, значит, все-таки кто-то?.. Даже вот шляпа у меня есть!» Я пнул вешалку, растворил дверь, и ярко сверкнула на солнце хромированная табличка с номером семнадцать.
Неси ж мне смерть, о грузовик! Прекрасней дел, чем в этот день, не будет никогда, и отдых впереди такой, какого я не ждал.
Номер надо протереть. Однако что за несравненное утро, звенящее птичьими голосами и напоенное ароматами. Чудесная будет весна. Повсюду нарциссы. Что это, миндаль? По той стороне аллеи бредут рука об руку девушка с парнем, бедро к бедру, глаз друг с друга не сводят, смеются. О призрак забытый, ветром обвытый, вернись назад. Да что такое, подумаешь, память? Призрак с полуправдой на устах. Нужно вот подстричь газон рядом с соседским – тот в полном порядке, за беленькой загородочкой. Вдоль черного асфальта короткой и ровной проезжей полосы – лужайка за лужайкой, клумбы, кустарник и деревца перед строем сдвоенных особнячков. Когда я захлопнул за собой дверь, пожилая дама, дородная, стриженая, в широких брюках, появилась на крылечке домика слева и приветливо обратилась ко мне. Она говорила с английским акцентом.
– С добрым утром, мистер Янгер. Как, осваиваетесь?
Акцент чужеродный: подсказка, значит, моей ущербной памяти, что я не англичанин. Может, это мне вроде тычка в бок? Так сказать, по-божески подпихнули: дескать, смелей. Видишь, мол, сколько кроется за пустяками – за какой-нибудь интонацией? Ведь я ее заметил, заметим, чуть-чуть тоскливо. О чем тоска? О чем-нибудь английском? А может такое статься, что самые сокровенные воспоминания все же просачиваются, вопреки всевышним запретам Их Небожительств?
– Да все, в общем, благополучно, миссис Э-э-м-мнн. Очень вам, конечно, признателен. Весьма тронут.
Опять! И у меня интонация английская, не ирландская. Любезная, а не сердечная. Да кто же я, в конце концов?
– Ну, вы уж к нам-то не стесняйтесь. Мы – сестры Уиндили. С радостью поможем. Одинокому всегда ведь тяжело. Особенно после такой утраты!
Я прощально-приветственно, с должным прискорбием поднял руку и прошел по автомобильной дорожке через беленькие визгнувшие воротца. Был или нет особый тон в ее последних четырех словах? Сопричастность? Симпатия? Неуверенность? Антипатия? Или просто по доброте душевной интересуется новым соседом? Было бы у меня время с нею поговорить, я бы выяснил, почему и отчего мне так уж тяжело и какая такая постигла меня утрата. Овдовел я, что ли? Кого я потерял? Ясно было одно: каким-то боком мое прошлое должно быть известно другим, пусть более, пусть менее достоверно. Еще сколько-то подобных намеков – и отыщутся былые друзья. А стало быть, отыщусь и я, тот самый, прошлый? Вправо асфальт кончался: тупик. Влево виднелась поперечная улица, и в потоке машин кремово-голубой автобус. Я направился туда бодрым шагом шестидесятипятилетнего мужчины с вросшим ногтем на ноге.
Особнячки примерно на две-три спальни каждый, очень подходящие для молодоженов и супругов преклонного возраста. Лужайки и загородочки, вроде моей, зеленые, белые, глазурно-синие; или черные, как священники, или серые, как монашки. Бывает черное духовенство в белом облачении? А каковы чернокожие женщины в белых трусиках? Возвышенные, однако, мысли у подножия гильотины. Кругом чистота и порядок. Богатых здесь нет. Машины самых обиходных марок: «форды», «фиаты», «рено-4», «мини». Petit bourgeois [2]2
Мелкий буржуа (франц.).
[Закрыть]Боже, храни Ирландию. Впрочем, вкус все-таки присутствует. Береза, вишня, ива, миндаль, рябина, драцены, их еще называют зонтичные пальмы – я такие видел в Девоне, на острове Уайт, в Гленгарифе, на Ривьере. Помнить бы мне столько людей, сколько помню деревьев! Это скромно-пристойное пристанище означает, видимо, что у меня есть в каком-то банке не вклад, конечно, а текущий счет, иногда почти на грани, но не за гранью дефицита. Мне сообщили, что я журналист, вернее, был журналистом. Живучи здесь, я мог бы с тем же успехом быть торговцем, служащим, дантистом, лесничим, мошенником, только не врачом. Вот и угол стены, параллельной шоссе, и табличка с названием тупика по-ирландски и по-английски: Росмин-парк, Розмариновый. Здесь, на углу, если я так решу, я буду спокойно ждать, пока примчится грузовик.
Ждать еще две с половиной минуты. Стук сердца отдавался у меня в левом ухе. Подступила изжога. Я осмотрелся. Налево уходила в перспективу парковая ограда вышиной в человеческий рост; вдали мигали светофоры. Направо, неподалеку, была церквушка с двумя полосатыми башенками, торчащими, как ослиные уши. Ни шпиля, ни колокольни. Движение небольшое. Пешеходы редкие. Я вдруг заметил, что возле меня по черной глади гудрона кругами разъезжает девочка с рыжими кудряшками, лет пяти-шести. Серебристо-голубой велосипедик был ей, наверное, главным подарком на Рождество. Я невольно залюбовался ее детской степенностью, простодушным тщеславием, первыми навыками езды; потом перевел взгляд на зданьице ярдов за двадцать, возле какого-то подобия моста – должно быть, над железнодорожной выемкой пригородной дублинской линии, – и в тот же миг с внезапным ужасом увидел между станцией и церквушкой пыльную синеватую двухтонку, несущуюся враскачку на бешеной скорости.
– Итак?
Чейэто был голос?
Стиснуло грудь. У меня было ощущение ныряльщика, задержавшегося под водой несколько лишних секунд. Воздух застревал в горле, и прохожий, сворачивая в тупик, изумленно покосился на меня. Скорость шестьдесят миль в час – он что, с ума сошел? Осталось тридцать ярдов.
– Итак?
Двадцать ярдов.
– ИТАК?
За десять ярдов я различил обросшую физиономию, вытаращенные глаза, орущий рот; взвыл клаксон, руки водителя до отказа вывернули баранку, словно у него была одна цель – расплющить меня об угловой столб парковой ограды. А он просто увидел девочку на серебристо-голубом велосипедике, которую с разгону вынесло из парка наперерез грузовику. В эту миллионную долю секунды я понял, что у девочки два шанса остаться в живых. Первый: водитель мог заскочить на полосу встречного движения – нет, уже не мог, по ней мчался междугородный автобус. Второй: я мог в броске перехватить горделиво разворачивающуюся девчушку, зашвырнуть ее, как мяч, обратно в парк и угодить под крыло налетевшего грузовика.
В двадцать лет я был отличным центр-форвардом; тогда мои мускулы по первому сигналу срабатывали, как пружины. Доживите до тридцати трех – и окажется, что в случае чего среагировать как надо, с прежней сноровкой, удается только мысленно: мускулы медлят. Может быть, в эту секунду я взвешивал шансы? Решал, смогу или не смогу? А вечно живые предвечные боги замерли надо мной, точно зрители в последний миг корриды? Или же надрывались от идиотского хохота? Имел ли я в мыслях обещанные шестьдесят пять лет?
Точный ответ о таких вот решающих мгновениях – дело трудное. Хочу отметить, что тогда мне были донельзя ясны обе вышеуказанные возможности; теперь мне ясно только, что я отпрыгнул ярда на три в сторону от грузовика. И решительно не знаю, было ли связано предварительное понимание с последующим поступком. Post hoc ergo propter hoc? [3]3
После этого – значит, вследствие этого? (лат.).
[Закрыть]Краткий миг между зовом и откликом всегда зазывал судей, поэтов, драматургов и романистов мира сего. Могу лишь сообщить, что, извиваясь как ящерица, я был свидетелем последнего и тщетного усилия шофера. Ему каким-то чудом удалось миновать девчушку. Потом он влепился в квадратный угловой столб ограды – повалил пар, посыпались стекла, брызнула кровь. Погиб он понапрасну – кузов крутнулся, девочку сшибло, высоко подбросило и вдребезги размозжило ей голову о мостовую. Я привстал на колени, поднялся, увидел ее и повалился навзничь.
Слышен был смутный гомон; виднелись голубые просветы между склоненными лицами. Что за старикан? Да с ним ничего, просто обморок. Чьи-то руки помогали выпрямиться, но выпрямил меня гнев. Мне подстроили «выбор». Я заверил сердобольных помощников, что я цел. Живу тут буквально рядом. Им явно не терпелось поглазеть на трупы девочки и водителя, на грузовик со смятым капотом, изрыгавшим клубы пара поверх голов обступившей толпы. Я побрел назад к дому номер 17, отупело поникнув, как боксер после нокаута – голова гудела, сердце колотилось, – и по дороге заслышал сирену «скорой помощи». Только допивая вторую чашку черного кофе, я сообразил, что началась моя вторая жизнь.
Я это сообразил очень спокойно, вдруг ощутив привкус цикория в кофе, и поначалу невесть почему и как привкус этот стал благовонием, а благовоние – образом женщины, миновавшей меня на обратном пути, когда я бежал от убитой девчушки. Ее голубые глаза близоруко щурились, разглядывая поверх моего плеча, что там творится у парковой ограды; глаза и так-то небольшие, а уж прищуренные – и того меньше. Голова непокрытая. Волосы, пышные, как молодая пшеница, были по-мужски расчесаны на прямой пробор. Большеротая, перстни на крупных пальцах; жемчужины в ушах и жемчужное ожерелье; талия отсутствует, а бледно-розовая кожа на взгляд нежна, как лепестки душистого горошка; грудь едва заметная – словом, любопытнейшее смешение полов. Особенно меня поразило, что, когда она приближалась, она выглядела как-то не очень, почти дурнушкой – чересчур розовая, лицо застывшее, – и вдруг, проследовав мимо, она явила профиль изумительно тонкий, великолепный и даже величавый, профиль императрицы на греческой монете.
Я остановился и перечел этот поэтический пассаж насчет профиля на греческой монете. Звучит банально. Но пусть так и будет, хотя к эпитету «величавый» прибавлю, пожалуй, вот что: образ был идеальный, как все профили на всех монетах и медалях, как все такие-сякие символы Величия, Власти, Свободы, Плодородия – как ирландский лосось, бык или конь, американский орел, пшеничный колос или сеятель. Спереди она явила одну реальность, а сбоку другую – свою тень, свою мечту? Когда эта двуликая, как Янус, Юнона, вполовину, должно быть, моложе меня, прошла мимо, благоухая сандалом (вечнозеленое дерево, сердцевина которого идет на курения), я оглянулся ей вслед. Ее осанка, походка, горделивая шея и величавые плечи, вся ее фигура, распрямленная желанием увидеть, в чем там дело, были таковы – сказал бы я, будь я молод и привержен романтике, – что впору викингам добывать ее острием меча.








