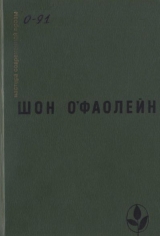
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
– Конечно, – со вздохом сказал он, – разгадка-то в том, что у них были нелады с женой.
– В самом деле?
– Чересчур уж лихо она крутила романы. Весь Дублин это знал.
– Вы думаете, и он тоже знал?
– Реджи ффренч был не дурак. Он все знал. И если бы не его дочь, ну эта, замужем за Лонгфилдом… Да нет! Он, несмотря ни на что, обожал свою вертихвостку жену. После ее смерти у него все стало валиться из рук. Вот он и подвел черту.
У меня кровь забила в ушах от ощущения вины. Намереваясь заказать еще два поминальных виски, я вдруг заметил, что размышляю, когда именно моя Ана решила подвести черту. И сообразил, что искушение подступало дважды: первый раз летом шестьдесят восьмого, когда она, ровесница века, изменила мне с Л. Л., а второй – особенно близко – перед самым Рождеством шестьдесят девятого, когда (я понял это лишь теперь, в баре яхт-клуба) она втайне от всех нас почувствовала зловещее недомогание в пояснице. Канцер.
Первым происшествием я целиком обязан собственной глупости.
Однажды в тихое летнее воскресенье, очень похожее на день нашей встречи в шестьдесят пятом, я повернул голову на подушке и встретил ее изучающий взгляд. Япосмотрел на нее точно так же. В ней перемен не наблюдалось. Конечно (или я уже писал об этом?), я давно уж заметил, что ее лебединая шея всегда увита пятью жемчужными нитями, а локти неизменно скрыты рукавами, однако есть большая разница между тем, что знает про себя и что предпочитает замечать любовник, зато могу сказать и скажу о безупречной прелести всего ее тела, особенно в плавном изгибе от плеча до бедра, я им как раз любовался: гладкая плоть, словно кремовый говяжий бок на крюке в лавке у мясника, едва с бойни, еще теплый, запекай, да и только.
– А ты изменился, – холодно сказала она. – Даже Реджи – а такого ненаблюдательного мужа поискать надо – и тот заметил это на прошлой неделе.
Она испугала меня. Уж не она ли изменилась? Может быть, «изменился» – это сигнал к расставанию? Я был уверен в ее извечном непостоянстве и взъярился от ревности. А если она мне изменяет? Я сел в постели.
– Изменился? – спросил я. – По сравнению с 1924-м? 1930-м? 1945-м?
Она тоже села.
– Уж конечно, не с 1924-м. Мы тогда не были любовниками. По сравнению, – она приопустила веки, – с той ночью после праздника Победы, когда, в 0 часов 30 минут, началась наша любовь, двадцать три золотых года тому назад.
– Сейчас же говори, в каком смысле, по-твоему, я изменился.
Она откинулась на подушку.
– Давай разберемся, в каком смысле. В одном, знаменательном. Сначала ты изнывал от любопытства, ты хотел знать все обо мне, о моих друзьях, о моем детстве, всю подноготную про всю мою жизнь. Это было приятно, хотя, когда ты прекратил расспросы, я обрадовалась: ты, значит, решил наконец, что твоя возлюбленная выше подозрений. Довольство – основа постоянства. Недавно тебя снова обуяло любопытство на мой счет, словно ты обрел вторую молодость. Да нет, какую молодость? Мы сошлись уже немолодыми. Вторую зрелость? Ну, пусть второе цветение. Я, в общем, не против, просто интересно, в чем дело, почему ты изменился.
Нет, это было не безудержное фантазирование на пустом месте, какому любовники взапуски предаются. Я принял ее всерьез и стал биться над вопросом, как мне выяснить, переменился ли кто-нибудь из нас. В ту же ночь я решил, что единственный способ – обратиться к кому-нибудь из общих и давних друзей, лучше всего к такому, который знал ее в молодости, еще неоперившуюся; и сразу подумал о Лесли Лонгфилде, своем по-прежнему соседе: он, правда, выглядел сущим мальчишкой на той давнишней фотографии, где они втроем с Реджи и Аной сняты в Ницце на палубе яхты, под слепящим солнцем, стоят и хохочут, обняв друг друга за талию. Наверно, ему тогда было не больше девятнадцати? Однако пусть он знал ее только с 1930-го, но я-то встречался с нею прежде всего два раза – тогда у фонтанов и в сочельник в доме на Фицуильям-сквер. Перед войной я и вовсе не виделся с нею, а с ним несколько раз – я писал заметки о его первых выставках. Мне нравились его тогдашние работы – задорные, свежие, обнадеживающие. Однажды, во время войны, когда он делал муляжи по заказу военно-воздушного ведомства, мы с ним столкнулись в каком-то кабачке, и он переночевал у меня, в конурке на Чок-Фарм, – в военные годы лондонские гостиницы были переполнены и все устраивались где придется. Вот и все, что нас связывало: он был не более чем Розенкранц. Однако же прошлое наше пересекалось, друг к другу мы относились с симпатией, да никто лучше для моих целей и не подходил. И мне было очень несложно напроситься к нему в дублинскую мастерскую посмотреть последние работы.
– Скажите мне, – как бы невзначай спросил я, остановившись перед зеленой головкой Анадионы, изваянной, когда ей было около двадцати, а ему под сорок, – кто, по-вашему, меняется быстрей, мужчины или женщины? Вот, например, с тех незапамятных пор, как мы познакомились – в Ницце, кажется? – в ком, на ваш взгляд, более очевидны перемены, в отце или матери этого создания? Кстати, с какого именно года мы знакомы?
Он недоверчиво взглянул на меня.
– Мы познакомились, – холодно сказал он, – 10 июня 1930 года. Вам это должно быть известно не хуже меня. Что до вашего вопроса, то больше переменился, разумеется, старина Реджи. То-то я и могу назвать его «стариной». А у кого повернется язык назвать «старушкой» Ану? Она не изменилась ни на йоту. Посмотрите вот на эту головку, сработанную к ее сорокалетию. Вряд ли кому удастся определить по скульптуре, кто здесь моложе, мать или дочь. А сделай я сейчас два скульптурных портрета – Ана в шестьдесят восемь, Анадиона в тридцать восемь, – несхожесть их станет еще заметнее, а разница в возрасте совсем сотрется. Но… бедный старина Реджи?
Я объяснил, что имею в виду перемены другого свойства.
– Я о переменах в нашем характере. Вы разве не согласитесь, скажем, что Ана в последние годы стала гораздо мягче, терпимее и добрее? Конечно, – добавил я, пожалуй, излишне чопорно, – я не очень хорошо помню ее в тридцатые годы, но кажется, она была тогда довольно взбалмошной дамочкой.
Он рассмеялся так выразительно, что у меня защемило сердце.
– Ана всегда была доброй. И всегда была взбалмошной.
Бронзовые головки вокруг нас прислушивались. Он улыбался криво, хитро, ехидно и явно подначивал меня. Пришлось говорить начистоту.
– То есть вы про мужчин, что они слетались, как мухи на мед? Ну, еще бы. Но не в шестьдесят же восемь лет! Это уж, как хотите, дело прошлое.
Он возмутился.
– Тут возраст ни при чем. Она никогда не пресытится. Она чувственна до мозга костей. Утоляя чью-то жажду, она разжигает ее. А утолит ли разожженную… – И высказался напрямик, внезапно, холодно и по-английски. – Уж кому, как не вам, знать, Янгер, что я был в нее юношей безумно влюблен. Я знаю, что после войны она полюбила вас. Я ревновал ее к вам: теперь-то незачем скрытничать. Я ее больше не люблю, давно отболело.
Вы, может статься, еще на крючке. Я лично ей никогда не доверял. Вы, может, и доверяете. Лицедейство ее как было, так и есть совершенно обворожительно. Или она притворяется, что лицедействует? Я не сумел разобраться. Может, вы сумели?
Я был взбешен тем, как нагло осмеливался он смешивать в одном времени свою жалкую незрелость и ее нежную неопытность. Впрочем, такая бесподобная женщина, естественно, привлекала толпы поклонников. Больше всего взбесило меня, что ему понадобилось опорочить перед собой мать, чтобы жениться на дочери. Ану так судить нельзя, к доверию, сказал я ему, мы приучаемся с годами, это водораздел юности и зрелости; но он брезгливо хохотнул, и я тут же потребовал – пусть поймает ее на малейшем проступке, пустячной провинности, хоть как-то уличит в предательском легкомыслии.
– Вот попробуйте получить от нее в доказательство хотя бы один поцелуй! Один, не больше! Ни в коем случае не два. А то мы все трое будем опозорены.
Я был убежден, что это ему не удастся. Положим, смеясь говорил я, мне просто надо отделаться от минутной ревности, конечно же, смехотворной, но – этого я ему не сказал – в тот миг сжигавшей меня, точно я был не я, а девятнадцатилетний Лесли Лонгфилд, еще изнывающий от первой в своей жизни настоящей боли, причиненной ее предательством. И чем больше я настаивал, тем упорнее он уговаривал меня образумиться, вспомнить о своем возрасте, прекратить это, но все его уговоры только подливали масла в огонь.
– Испытайте ее! – кричал я. – Я за нее ручаюсь!
Я чувствовал себя рыцарем, отстаивающим честь своей дамы сердца.
– Добиться поцелуя тещи? – издевался он. – Материнского? В щечку, и будет? Или непременно в губы? Что за ребячество! Нашли, за кого ручаться!
– Лес, вы один из моих самых давних друзей. Иначе бы мне и в голову не пришло просить вас о таком одолжении. Вы – надежный малый и здравомыслящий человек. Для вас это сущая безделица. Шуточная проверка ради интереса. Да ну же, чего там! Попробуйте, изобразите разок une façon d’embrasser [22]22
Этакое объятие (франц.).
[Закрыть]!
Тут его наконец пробрало.
– Вы что, в самом деле? Это в ее-то возрасте? Да и в вашем?
Я конфузливо улыбнулся в том смысле, что житейская умудренность не помеха пламенной, рыцарской преданности возлюбленной.
– Ну, на это мы оба уже ответили, правда? Что бы вы подумали в девятнадцать лет про пятидесятипятилетнего жениха? А когда сами женились? Какая разница между любовью в пятнадцать и двадцать пять лет? В тридцать пять и сорок пять? В ваши пятьдесят пять и мои шестьдесят пять? Подумаешь, всего-то десять лет. Любовь перекрывает время.
– Иначе говоря, вы ее все время ревновали? Вот уж никогда бы не подумал. Еще это значит, что, если мы с Аной не поцелуемся, ревности у нас не убавится. А если я поцелуюсь с нею три раза, четыре или пять раз, то вы свихнетесь от ревности. Да ради же бога, не школьничайте. Вы и так счастливы с Аной, насколько это возможно.
Глядя на него, я переполнялся восторгом открытия такого простого, что я, должно быть, сделал его уже пятьдесят лет назад: я родился, прожил жизнь, живу следующую и, если бы мне выпало еще пять, прожил бы их все таким же законченным, неизлечимым, непробиваемым и страстным романтиком. Дерево растет и растет, оставаясь тем же самым деревом. Ничего не меняется. Я упивался этим представлением о себе и о ней, и мне нужно было его окончательное доказательство. Я объяснил это ему с таким жаром, что он сдался, и мы без труда устроили общую встречу у него в доме, расположенном, как изящно выражаются комиссионеры, стена в стену с моим.
Жара стояла несносная, и он запросто повел мою Ану прогуляться по садику, а я пригласил его Анадиону, прирожденного садовода, к себе, посоветоваться насчет моих ромнейских маков. Для пущего правдоподобия я выдумал, будто эти огромные белые цветы вызывают у меня аллергию.
Я стоял с нею в зарослях маков, головки которых возвышались фута на четыре над ее волосами массивом белых лепестков с две ее ладони каждый, чуть смятых, точно бумажные; запорошенную золотистой пыльцой сердцевину каждого цветка беспрерывно сосали пчелы и грабили осы – они круто, как вертолеты, спускались в золотое изобилие и тяжело взлетали, нагруженные нектаром. Стоял и слушал, как Ана с зятем о чем-то негромко переговаривались за оградой.
– Рассаду этих маков мне подарила ваша мать три года назад, – сказал я Анадионе и увидел ее глазами Лесли – желтоволосую, дотемна разрумяненную жарким летним солнцем, в расцвете властной, зрелой красоты; когда она отвернулась от меня, рассматривая маки, меня опять восхитил контраст между ее тонким профилем и плотно сбитым, неженственным телом. В юности она, по-видимому, казалась совсем непривлекательной, зато теперь стократ заслуживала, чтобы ее по-настоящему оценил опытный и чуткий мужчина.
От этих мыслей меня отвлек взрыв звонкого и простодушного смеха Аны, которому вторил басовитый хохоток Лесли. Анадиона со знанием дела распространялась о трех разновидностях калифорнийского мака, а я настороженно внимал полному молчанию, воцарившемуся по соседству. Чтобы понять, что там происходит, я попытался увести Анадиону от маков поближе к садовой стене, но она как раз пригнула один из самых роскошных цветков и, держа его на широкой ладони, густо осыпав запястье оранжевой пыльцой – признаюсь в своей слабости к сильным женским рукам, – говорила:
– По-моему, единственное спасение от вашей аллергии, Бобби, – это подыскать какой-нибудь антигистамин, понизить ваш биологический фон. Нет? – удивленно спросила она, когда я дернул головой в сторону ограды, за которой по-прежнему было тихо.
– Ну и перемазались же вы пыльцой, – поспешно сказал я. – Точно пчела со взятком.
Смеялась она превесело, и поразительно, до чего ее красил смех и до чего она становилась похожей на свою мать – правда, в чересчур укрупненном виде. Я перестал прислушиваться, глядя на нее.
– Оставайтесь тут! – попросил я. – Я хочу позвать их сюда, пусть посмотрят на маки.
И будто бы затем, чтобы позвать, взошел на приступочку, сделанную у садовой стены. Они стояли посреди лужайки, тесно обнявшись, губы слиты в поцелуе. Четыре раза поцеловались они, прежде чем я вернулся к Анадионе.
– Что такое случилось? – спросила она.
– Ваш муж целуется с вашей матерью!
Она рассмеялась, оборвала смех и уронила голову набок, тяжело и смущенно. В голосе ее прозвучала смертельная обида.
– Я думала, вы знаете, – сказала она. – Ана же его первая любовь. А ей только протяни губы – она своего не упустит.
Подобие действительности, в котором она жила, затрепетало, как марево. Я отошел, скрывая слезы озлобленья на себя, на то, что я еще не так молод, чтобы или заключить ее в объятия, или перескочить через стену и расправиться с той негодной изменницей. Я возвратился к ней и пролепетал ей на ухо приукрашенную правду, дрожа, точно юнец:
– Анадиона! Вы настоящая красавица. Неужели же…
Она изумленно воззрилась на меня. Потом ее широкая ладонь подняла мой подбородок, и наши губы соединились. Она поцеловала меня неуклюже, как пятнадцатилетняя девушка, – один раз, два, три, четыре раза. И разрыдалась, припав щекой к моей щеке…
Луч маяка с пирса кружил по бушующим волнам. Я окунул палец в свое виски и капнул на стойку. «Возлияние?» – спросил он и поступил так же. Я поднял стакан (за нее), он тоже (за него). О, Господи! Если бы только можно было пережить все заново, поймать любовь у фонтанов нашей юности, как я поймал ее в Ницце, упустил, опять поймал у фонтанов, удержал и удерживал на склоне лет. Никакого развития, сплошное повторение? А урок лишь тот, что боги – властители случая, и мы, ловя случай, творим их волю. Я продекламировал стихотворение Гогарти своему собутыльнику. Он ухмыльнулся.
– Реджи? Он читал мне его раз-другой. Он только его и знал.
В конце концов она негодующе развернула парус, покидая земную гавань, из-за пятнадцатилетней девчонки, своей американской внучатной племянницы Лалидж Канг – необычная фамилия (корейская? японская?), – внучки ее сестры Лили ффренч, которая в 1925 году вышла замуж за американского гинеколога с такой фамилией и переселилась в город Плимут, штат Массачусетс. Я не замечал, какие мы все старые, пока не услышал и не увидел эту бредовую девицу.
Ввел Канга в семью не кто иной, как Реджи, умчавшись на медицинскую конференцию в тот день, когда я впервые встретил Ану на Трафальгар-сквер. На конференции он познакомился с Джейком Кангом и потащил его в Кью-Гарденз хвастаться перед ним своей красавицей невестой. Там Джейк и повстречал Лили ффренч. Их сын Сеймур Канг женился на бостонке голубых кровей, некой Пегги Дэвисон и, желая устроить своей чудо-дочери Лалидж «сезон» в Лондоне, обратился к Реджи за советом. За этот «сезон», робко предположил Канг, дочь его освоится и может быть затем представлена ко двору, как там положено, с плюмажем и в кринолине, ну, конечно, обученная манерам, и хорошо бы еще, скромно добавлял он, заручиться поддержкой лорда-гофмейстера. Реджи изложил письмо Ане, а та гостеприимно пустила гадючку себе на грудь.
– Надо бы ему, дураку, знать, что все это давным-давно кануло в вечность. Сейчас у нас май. Напиши ему, пусть присылает девочку. Я для нее соберу гостей раза три-четыре. Быстренько покажешь ей останки Европы. Кой-какую живопись в Париже. Римские древности и римские моды. Свяжись с посольствами, ирландским, британским и американским. Июль, конечно, не месяц, а наказанье, но уж как-нибудь. Привози ее обратно в августе на Конскую выставку. Потом в Керри, в твою усадебку [23]23
Тоже мне «усадебка»! Ветхий коттеджик. Но нельзя же, чтобы у Реджи да не было «охотничьей усадебки»!
[Закрыть]? Будете там стрелять дичь и удить рыбу. Сентябрь – октябрь в Лондоне – балет, опера, пьесы. В ноябре опять-таки поохотитесь. Будет ей праздник жизни на шесть месяцев. Ничем в особенности девочка не интересуется?
Реджи просмотрел письмо из Бостона.
– Если верить отцу, интересуется музыкой. Вот, занимается по классу скрипки.
– Дивно! – воскликнула Ана. – Походит в нашу консерваторию. И в Королевском дублинском обществе с музыкой обстоит прекрасно, там выступают лучшие европейские квартеты. Да если на то пошло, почему бы кому-нибудь из них не выступить в нашем доме? Какую великолепную идею ты мне подал! Реджи! А давай заведем собственный квартет? Будем устраивать музыкальные вечера? Ты у меня, Реджи, прослывешь самым культурным врачом в Соединенных Штатах Европы. Иди телеграфируй ее отцу. Или лучше позвони ему! – Она приостановилась. – Погоди! Она случаем не дурочка? И не дурнушка? А то мне вовсе ни к чему, чтобы у меня в гостиной с утра до вечера топтался этакий гадкий утенок.
На это Реджи было что предъявить.
– Отец прилагает несколько снимков. Ты же знаешь, как американцы фотографируются. Наше гнездо в Конкорде. У американцев не дома, а гнезда. День благодарения в нашем гнезде в Кохэссете. Лалидж здесь, Лалидж там. По-видимому, хорошенькая девочка.
Ана придирчиво рассмотрела фотографии. Да, девушка, похоже, загляденье. Такой не стыдно угощать знакомых.
Она и впрямь оказалась ослепительной белокурой красоткой – длинные русалочьи волосы, волнистые, словно речные струи, глаза лазурные, высокая, налитая; хотя ей едва исполнилось пятнадцать, выступала она павой в нетерпеливом предчувствии будущей женской стати и, может быть, женской власти. Ана привязалась к ней сразу, всегда готовая носиться со всякой новизной: новыми духами, новым мартингалом или трензелем, новым жеребенком, танцем, пьесой, коктейлем, новым приспособлением (от электрической зубной щетки до складного биде), новооткрытой песней, которую она радостно исполняла своим надтреснутым голоском перед смущенными гостями.
Ох, уж эти песни! Они выдавали ее возраст с точностью до года, что ей, впрочем, было безразлично.
Английский приятель,
Он совсем не похож на меня.
Он решил, что он победит,
А я решил, что я.
Я пока здесь вкопался крепко,
Но мы точно вдвоем
Это дело добьем
И друг другу помашем рукою
Через моря.
Это Ирвинг Берлин, война 1914–1918 года. Но она знала кое-что и посвежее: коронные номера Веры Линнз, например.
Над белыми скалами Дувра зареют синие птицы —
Завтра увидишь сам!
Знала песни сороковых и даже начала пятидесятых. Томми Дорси, Пола Уэстерна, Фрэнка Синатру, песенки из «Дружище Джои».
Какая ты бываешь, об этом я лишь знаю,
И до смерти скучаю по тебе…
Но мне не уснуть,
Мне глаз не сомкнуть.
Я глаз не сомкну,
Пока не усну С тобой…
Совсем одна,
За много миль от дома,
Ты помни, что кому-то
Одна ты дорога…
Уместные были слова в одном ее любимом шлягере: «ошалелый, одурелый, околдованный». «Сверхогорчен, сверхопечален, а также суперсексуален».
Но вот наряду со всем этим вздором ей нужен был квартет: она понимала настоящую музыку. Лежа при смерти, она снова и снова слушала на своем стереофоне жизнерадостный концерт Чимарозы для двух флейт с оркестром, а почти отмучившись, попросила Реджи, чтобы на заупокойной мессе ее проводили в могилу хоралом Баха. Как только она не противилась старческой вялости! Ей было невыносимо видеть, что Реджи сдает, выпивает лишнее перед обедом и за обедом, бормочет: «В Париж? Мы ведь уже бывали в Париже!» – или вдруг просыпается в своем кресле и говорит: «Я тут подсчитал, что за тридцать пять лет работы помог родиться двадцати тысячам тремстам пятидесяти трем младенцам», или: «Уинстон Черчилль однажды, едучи в поезде, сказал, что если слить все бренди, которое он выпил за свою жизнь, то вагон наполнится доверху, – и очень обозлился, когда его секретари в два счета доказали ему, что это преувеличение». Дважды мне случилось наблюдать со скрежетом зубовным, как он после обеда оседает в кресле, уронив голову на грудь, а она подходит и целует его в лоб. Ко всему, я вспоминал, что и у меня тоже была когда-то своя семейная жизнь.
С приездом юной прелестной американки стареющим супругам точно впрыснули свежую кровь. Ана тотчас составила себе «пятимесячный план» и весело объявила, что он будет выполнен к последней полуночи шестьдесят девятого года. Почти сразу отправились в Большое турне – Лондон, Париж, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь. Реджи поплыл в Неаполь, чтобы встретить нас в Санта-Лючии в бесподобном маленьком яхт-клубе для избранных, местечке самом живописном и самом нищенском на свете: островок, а вокруг него плавают в нефтяных разводах арбузные корки и дохлые собаки. Из его экипажа помню только студента-медика по фамилии Чокнис, который буйно резвился под стать фамилии; Реджи заверил меня потом, что он превосходный анестезиолог и отличный яхтсмен. Я, естественно, увидел в нем подобие молодого Лесли. Из Неаполя мы поплыли на Капри, в Порто-Веккио и в Ниццу, где Ана, Лалидж и я отправились в отель «Руайяль», а прочие остались ночевать на борту яхты.
– Изгоняем привидения? – счастливым голосом спросила у меня моя пожилая владычица, когда мы расписывались в книге для приезжих.
Июль я что-то подзабыл. В августе, помню, девицу привезли обратно в Дублин на Конскую выставку; потом она уехала к друзьям своих родителей в Шотландию – там ее и застигло двенадцатого открытие охоты на куропаток. Подстрелила она что-нибудь или нет, не знаю – в Штатах наверняка оказалось, что настреляла «уйму». Может быть, слепое восхищение Аны вызывало у меня ревность. Они были неразлучны. Они точно завораживали друг друга. Одна являла другой образ совершенства: младшая хотела бы стать такой, как старшая, а та некогда мечтала быть такой, как младшая. Я подозревал в девице особый талант лести; скажем прямо, так оно и было. Хуже того, потом обнаружилось, что она жестоко высмеивала Ану перед ее друзьями. Дряннушка. Я был рад, что она уехала в Шотландию, а оттуда в Лондон, встретиться с родителями. И раздосадован ее приездом в октябре – собственно, затем, чтобы поупражняться в верховой езде перед охотничьим сезоном, но якобы «на занятия»: то есть ее наконец уговорили извлечь скрипку из пыльного футляра и брать уроки у синьора Луки Полличе.
Лука! Он был предвестником решения, для которого, как я теперь полагаю, дал моей возлюбленной повод, хоть и ненароком: потаенного от всех, а может, и от самой себя решения о том, что ее время истекло, пора «выходить из игры». Он один воплощал ее мечту о собственном струнном квартете, мечту, на которой она, по словам Реджи, «сбрендила, как герцогиня». Никакие запросы и расспросы ни к чему не привели; он подвернулся мне случайно, когда однажды в сентябре я забрел под занавес на концерт в Королевском дублинском обществе: дотоле неизвестный мне даже по названию квартет исполнял в основном итальянскую музыку восемнадцатого века. В программе сообщалось, что отец первой скрипки, Луки Полличе, был альтистом в знаменитом квартете Флонзали, который мне посчастливилось несколько раз слышать в Лондоне в двадцатых годах. После концерта я прошел за кулисы, познакомиться и поблагодарить. В память об отце он согласился распить со мной коктейль-другой в баре своего отеля; мы очень понравились друг другу, и после третьего мартини он оттаял и разговорился. Ему было сорок три года, но в черных, гладко облегавших его круглую голову волосах лишь над ушами проглядывали полосочки седин. Он был егозлив, как мальчик. Американский гражданин, житель штата Нью-Джерси, ростом чуть выше пяти футов, жена его вконец допекла.
– Она такая ревнивая, что даже к скрипке меня ревнует, я от нее скрипку запираю. Ты, говорит, эту круглую гадость нежно прижимаешь подбородком!
Я спросил его, не хочет ли он возглавить новый квартет.
– Конечно, хочу! Так же, как всякий скрипач мечтает солировать. Но я ведь ростом не удался? (Мне и в голову не приходило, что рост – помеха солисту, но он стоял на своем.) Концерт – это прежде всего представление. Когда я стал выступать, мой импресарио для начала обул меня в туфли на высоких каблуках!
Он был не только прекрасный скрипач, но и славный малый, и я немедля оповестил Ану о своем открытии. Наутро она с ним встретилась, загорелась к нему симпатией, решила, что он ей подходит, разожгла в нем мечту о собственном квартете (под ее эгидой, а остальное – на его усмотрение) и, после месяца трудных переговоров с его импресарио, письменных, телеграфных и телефонных, выписала его в Дублин, к середине октября – либо довершить дело, либо поставить на нем крест. Проезд и содержание целиком за ее счет. Ему были гарантированы три сольных концерта в домах ее друзей и вдобавок щедрая оплата нескольких уроков, которые он даст ее племяннице Лалидж. Даже и это стало возможным только благодаря ее напору и обаянию и его бескорыстной решимости. Он никак не мог быть уверен, что квартет Полличе все-таки возникнет; его импресарио и его товарищи были в бешенстве оттого, что в разгар музыкального сезона ему надо подыскивать замену; жена его не сомневалась, что он все выдумывает, а у самого в Дублине интрижка. И наверняка он за две минуты понял, что Лалидж – ученица никудышная, а доктор ффренч (который поднимал всю затею с квартетом на смех) его терпеть не может.
В первую среду ноября я без спросу явился к вечернему чаю на Эйлсбери-роуд; было ясно и сухо, наступали холода, и пришла пора топить камин в холле торфяными брикетами. Прекрасная охотничья погода. Лалидж, которая недурно держалась в седле, уже два раза выезжала на охоту (с Окружным клубом и с Брэйскими Егерями) в сопровождении Реджи, хотя в шестьдесят девять лет это было ему уже не совсем по возрасту. Но как же не похвастаться хорошенькой американской племянницей и не поморочить самому себе голову, будто он еще атлет хоть куда!
Я отдал шляпу, шарф и пальто новой, довольно смазливой горничной и, следуя за ее рояльными ножками через холл в гостиную, услышал слева, из библиотеки, бестолковое пиликанье на фоне тихого пиццикато, обозначавшего то альт, то виолончель и задававшего ритм игры. Внезапно музыка оборвалась. Послышался терпеливый мужской голос и раздраженный девичий; несколько невнятных фраз образовали воспоминание, которое и сейчас бередит мне душу далеким отзвуком давнего прошлого: по-зимнему зябкий скрип высокой наружной двери; смолкающий самолетный гул над Ирландским морем, просвист автомобиля; я сползал во времени от наших дней к столетию Eine kleine Nachtmusik [24]24
Маленькая ночная серенада (нем.).
[Закрыть], и мне представились схожие сумерки шестьдесят лет назад в Корке: я шел после школы под вязами, мимо садовых калиток и газовых фонарей, по длинной и безлюдной пригородной улице, которую мы называли нашим Мардайком; шел на обычный фортепьянный урок к старому немцу-эмигранту Теодору Гмюрру, заранее зная, что он, как всегда, начнет с предупреждения: «Сегодня мы будем ронять звуки, как струйки фонтайна»; имелся в виду, как он однажды объяснил, его любимый «фонтайн» в родном Инсбруке.
Не успела горничная растворить дверь гостиной и доложить обо мне, как из библиотеки вновь полилась ночная серенада. С того конца комнаты, из-за секретера, Ана взглянула на меня поверх роговой оправы очков и с улыбкой, прислушиваясь к музыке, пошла мне навстречу, приласкала мягкой ладонью мою правую руку, а свою левую, увядшую, унизанную перстнями и браслетами, подняла в знак молчания. Я приотворил дверь, чтоб ей было слышнее, любовался ею и думал, как, должно быть, неотразимо прекрасна была она, увиденная впервые сорок пять лет назад, в ореоле водяной пыли возле лондонского «фонтайна».
Музыка замерла. Я закрыл дверь и сел рядом с нею на диванчик, пораженный внезапным пониманием, что она и теперь женщина редкостной красоты. Конечно, не той, которой блистала ослепительная дурочка, изничтожавшая Моцарта в библиотеке. Куда ей было до подобных прелестниц с их яркими глазками, изящными губками, точеными ноздрями, лилейной кожей и литой фигурой! И нагота была бы ей не к лицу. Меня в ней пленяла прелесть иного, редкого свойства: Юность в оправе Времени – а то ведь нам придется признать невзрачными девять десятых всех женщин на свете, и красавицами окажутся одни красоточки. Кому нужна свеженькая и гладенькая Венера Милосская? А эта дряхлеющая женщина торжествовала над временем потому, что не лукавила с ним. Она сохраняла осанку, даже когда неподвижно сидела, сложив руки на коленях, как пай-девочка или вдовица-бабушка в гостях, сидела и прислушивалась; да и когда просто проходила по комнате, вздымая свою тюльпанную головку на вялом стебле, и плечи ее были, как сложенные крылья. Особая одаренность, недоступная до шестидесяти лет: она была из тех, кто пожил.
Qui ont vécu. Я не однажды слышал от нее это выражение. Такого отзыва удостаивались только женщины, которые не пасовали перед жизнью, а обуздывали ее, вылетали из седла и снова садились верхом. Глядя на нее, я задумался, правда ли, что она смолоду охотилась за переживаниями, в моей далекой юности трепетно именовавшимися «опытом». Я вспомнил, как часто я пробовал у нее это выведать и как она, со своей неизменной житейской мудростью, уходила от ответа, – так что в тот вечер меня очень встревожил ее расплывчивый лепет про юность, мечты и любовь. Из-за маленькой ночной серенады, что ли?
– Юность права в своих мечтаниях, – сказала она. – Зря только они так стараются их воплотить. Я слишком рано вышла замуж.
Она раздраженно позвонила и попросила горничную подать чай с печеньем, а заодно, если ее не затруднит, пригласить в гостиную мисс Канг и синьора Полличе.
– Я не выспалась. Девчонкой, в Кью, чтобы заснуть, я представляла ботанический сад, сырые и темные теплицы с лилиями и священный лотос, дремлющий в теплой заводи. Как-то ночью я сочинила глупые стишки:
Кью-Гарденз нынче – зоосад,
Там кто усат, кто полосат,
Там лотос с лилией не спят.
Там вой и рев, там мяв и лай,
Любой цветок, как попугай,
Орет на весь свой жаркий рай.
Топорщит пышную хвою
Араукария в раю.
Урчит непентес, из кувшинов
Вкушая хлебово мушиное.
И целый сад, как лев в ночи,
На линию метро рычит.
Ага, вот и они!








