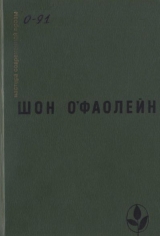
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
Лишь еще через три года она возобновила занятия в своем прежнем Тринити-колледже, да и то без особого толку – приходилось прерываться, пока Ана не подросла и ее не сплавили в Бретань, в интернат, горячо рекомендованный университетской подругой. Нана, к тому времени роскошная зрелая женщина, получила степень доктора философии в сорок один год и стала младшим преподавателем Тринити-колледжа в сорок два. Мы отметили это событие веселым обедом в тесном кругу, в котором хозяин дома (двадцать один год) был моложе всех остальных. Когда гости удалились и мы вместе мыли посуду, я заметил, что, заботясь о друзьях и знакомых, старых и новых, мне, очевидно, опять надо маскировать свой возраст.
– Наречие, – сказала она, – подходящее, – и прибавила, что ей тоже, «очевидно», будет все труднее не казаться моей матерью.
Немного погодя она задумчиво сказала:
– Что ж, твоя взяла. Ты и правда детище богов.
– Кровосмешение? – спросил я.
– Не без того, – согласилась она.
– Ну, и как?
Она погладила мне руку желтыми пальцами в резиновой перчатке.
Всякая женщина обязана вскинуться при слове «удачный», отнесенном к браку. Слишком оно целенаправленное, это слово, подразумевающее, наряду с такими, как «замужество», «замужняя», что женщина, вот счастливица, принадлежит мужу. Брак не имеет ни цели, ни задач. В браке нельзя ни преуспеть, ни потерпеть крах. Это изъявление оголтелой надежды, будто любовь останется и пребудет. А может быть, наша любовь, как вечнозеленое растение, осталась любовью и ежегодно цвела? Вот оглядываюсь назад: чему научил меня брак – тому, что слово – серебро, а молчание – золото, то и другое в свое время? А когда это – в свое? Иногда бывал я безрассуден, допускал заведомые ошибки, оказавшиеся много лет спустя верхом мудрости; чем-то гордился, а это потом оказалось несусветной глупостью. Есть одно мое высказывание, самое длинное и самое откровенное, про которое я до сих пор не уверен, умное оно или глупое. Я сделал его, когда ей исполнилось сорок три, я был за девять месяцев от двадцати, а нашей дочери Ане, изумительному и очаровательному подобию своей прабабушки, шел семнадцатый год. Я преподнес жене на день рождения свои машинописные Мемуары. Я затем так поступил, чтобы все последующее, все сказанное, сделанное и несделанное, памятное и запретное – все отвечало бы на мой вопрос: цветет наша любовь или совсем увяла.
Она читала Мемуары два дня и возвратила мне их со словами:
– Спасибо за доверие, Бобби. Я сделала кой-какие поправки.
Поправки?
«ПОПРАВКИ» НАНЫ
Ну и вранье! Не совсем, конечно: совсем-то не бывает. Многое из того, что он понаписал, – отчет о действительных событиях, но из-за кулис все время выглядывает сновидец, фантазер, романтик, выдумщик, мечтатель Б. Б. Он сделал роковую ошибку – переключил восприятие вовнутрь. Поневоле задумываешься, а может быть, этот жуткий подарок – вторая жизнь – обескуражил его, обессилил, затуманил обыденное сознание? Он называет себя журналистом и где-то там превозносит прямую фактографию в укор беспамятной идеализации, а сам постоянно идеализирует даже и то, что отлично помнит. Б. Б. не столько описывает, сколько расписывает факты. Несколько раз он хвастается, будто ничего не сочиняет, за эффектами не гонится, разгадок не утаивает, не романтизирует, не драматизирует. Поверить ему, так он всего-навсего снимает телефильм без сценария – поймал в объектив пустую улицу и пошел стрекотать. Чушь!
Характерна кладбищенская сцена в Шине (Ричмонд), где я у него, разинув рот, пялюсь на черное надгробие, оповещающее, что он, Роберт Бернард Янгер, покоится под этой плитой. Ах, какие страшные ужасы! (Мария Мартин. Дракула. Франкенштейн. Убийства на улице Морг.) Что было, то было, но вовсе не так! Надгробие я видела накануне, и привела его туда только чтобы поглядеть, как он это воспримет. Конечно же, он драматизирует, на то он и журналист. Внешне жизнь действительно идентична своей кинопроекции. Пустынная улица. Девушка медленно катит колясочку. Никого. Проезжает машина. Пустынная улица. Двое мужчин медленно идут навстречу объективу вдоль длинной, высокой, глухой стены. Не очень-то оживленно? Еще девушка медленно катит колясочку. Скрывается из виду; проезжает еще машина. Пустынная улица. Тишина. Безлюдье. Тишина. Третья девушка катит колясочку. Собачий лай. Все как есть правда. Но лишь только подобные самомалейшие происшествия перейдут с пустынной улицы на белый экран или на белую страницу, любой скажет: «Ага! Эти двое тут недаром. И три колясочки не просто так. А за длинной стеной что-то скрыто. Сейчас все это свяжется одно с другим и образует сюжет. Иначе отдавайте наши денежки». Оно и понятно; если ты не просто снимаешь что ни попадя, а взялся за перо, то надо полагать, что ты различаешь связующий замысел.
Все время так и виден Б. Б. в монтажной, как он пригоняет отснятые куски друг к другу, подстраивает контрасты, нагнетает драматизм, воссоздает или выдумывает смысловые связки. Иначе он не может, таков его душевный склад, такой он человек, хотя поди разбери, что он за человек! Узколобый реалист? Или, наоборот, широкая «художественная натура», то бишь свой брат ирландский инакомыслящий? Или то и другое, вместе взятое? Уайльд замечал, что если искусство в принципе отлично от жизни, то, с другой стороны, жизнь, как ни странно, сплошь и рядом неотличима от искусства. Тем самым ставится древний вопрос: «Что подлинно?» Пусть мой старый обманщик разделывается, как знает, с другими людьми. При этом он верен себе, мой старый злодей [47]47
Примечание Б. Б.Я ничего не меняю в тексте ее «Поправок», но тут надо заметить, что в приливе нежности Нана предпочитает заслоняться словечками вроде «обманщик» и «злодей», причем последнее всегда у нее исполнено особой ласкательности. А что до умильного эпитета «старый», то мне, когда писались ее «Поправки», было еще двадцать. Интересно, это мое примечание – тоже монтажного свойства? Или простообъяснительное? На самом деле все мои Мемуары – простообъяснение.
[Закрыть]. Угодно ему, например, романтизировать Ану Первую, ну и ладно, я все равно ее не помню (мне было три года, когда она умерла), его королеву-охотницу, беспристрастно-лучистую [48]48
Первая строка стихотворения Бена Джонсона (1573–1637) «Гимн Диане».
[Закрыть], хотя, если верить всем другим источникам, не была она ни такой уж лучистой, ни тем более беспристрастной. Однако же пусть, его дело. Положим, Анадиона сказала однажды, что мать ее была законченная эгоистка и только и думала, как бы избавиться от дочки. Но с какой стати судить о ней Анадионе? Или мне? Она ведь спровадила меня в тот же монастырь и в ту же заброшенную обитель предков близ Шаннона, чтобы самой рисовать в тиши и покое, а я, чтобы закончить диссертацию, спровадила мою маленькую Ану в монастырскую школу в Бретани, откуда бедняжечка пишет мне, что половина девочек и все монахини ежедневно принимают противозачаточные пилюли. Но когда Б. Б. принимается романтизировать меня– это уж извините.
Взять хоть ту пресловутую июньскую ночь: он описывает, как закатился на ночь глядя к Анадионе, и я, несчастная крохотулька, сидела (если верить ему) на лестнице, заткнув пальцами уши, а они рядом в спальне истязали друг друга любовью. Они и правда с криками бранились и со стонами мирились, но я сидела на лестнице только в его виноватом воображении. Может, они там занимались друг другом ночь напролет – не знаю. Мне они, это он верно пишет, жутко надоели, я схватила велосипед и поехала на реку, но вот уж дальше начинается несусветная романтика: я будто бы колыхалась на волнах в утлом челне и вопрошала луну о таинствах страстей людских. Я все про них знала еще с тех пор, как меня просветила в поезде полоумная старуха монахиня со своим Иоанном Богословом, Акрополем-Апокалипсисом и потрясающим словцом «свихнутый». Я, конечно, и до нее пыталась проникнуть в тайну напрямик. Реджи, Ана и Анадиона поднакопили за свой век эротических книжонок, и я, естественно, перечитала их с первой до последней, хотя, что правда, то правда, не поняла из них ничегошеньки. Кажется, Симона де Бовуар вспоминает в автобиографии, как она, вроде меня, добралась до отцовского запертого шкафчика с эротикой и ни на шаг не продвинулась к пониманию жизненных тайн, пока мать однажды не сказал ей: «Ну вот, душенька, а теперь почитай-ка ты хороший, добротный английский роман» – и дала ей «Адама Бида» [49]49
Роман английской писательницы Джордж Элиот (1819–1880).
[Закрыть]. Когда Хетти пошла в лес и вернулась оттуда беременная, Симона (точно как я при колдовском слове «свихнутый») сразу поняла все-все.Впрочем, мне еще помог телевизор, да и в ту ночь на реке я была не одна. Со мною был Крюгер Кейси, подручный мясника: он жил в сторожке со своей природной, то есть незамужней матерью Герти Бэрк, нашей привратницей. От сохнувшей по нему Минни Моллой я знала, за каким окном он спит – за маленьким с одной поперечиной, выходившим на подъездную аллею Угодья ффренчей. Стоял июнь, ночь была теплая, оконце распахнуто настежь: я заглянула и увидела при ярком лунном свете его круглые, как луна, ягодицы – он спал на своем топчане нагишом. Я так влепила ему хорошим камушком, что он тут же проснулся, перевернулся, потер задницу, увидел меня, подскочил к окну, забыв даже прикрыться, и прошептал:
– Ты чего? Дома что-нибудь стряслось?
– Крюгер, а Крюгер, – взмолилась я, стараясь выговаривать по-здешнему, – будь другом, скатаем на реку, а? Походим под парусом?
Он взглянул на луну, протер глаза и воззрился на меня.
– Господи Иисусе, небось уж второй час! Ты чё, рехнулась? Кто ж ночью под парусом ходит?
– Крюгер, на меня тоска напала.
Никогда не забуду, как быстро он все взял в толк и как правильно, то есть по-хорошему, поступил.
– Слышно было, к вашему дому с час назад проехала машина? И в дверь колотили?
– Мистер Янгер приехал.
Он выставился из окошка, посмотрел на большой дом и увидел сквозь ветви то же, что и я, – один-единственный огонек. Он перевел глаза на меня. Я в упор глядела на него. Он взглянул на яркий обрезок луны и сразу все понял. (Теперь-то я знаю, что Минни Моллой, а стало быть, и все остальные мои подружки, давным-давно проведали о «мистере Янгере», но по свойственной деревенским деликатности пополам с рассудительностью даже имя его при мне не упоминалось.) Он спросил:
– Велосипед с тобой?
Я кивнула. Он протянул длинную, сильную, голую руку, сгреб меня за плечо и очень раздельно сообщил, что если я протреплюсь Минни Моллой, то он мне рожу растворожит, щеку на щеку помножит и без ножниц пострижет наплешака. Потом исчез в темноте, натянул рубашку и брюки и выскочил босиком, со взъерошенными волосами; усадил меня на раму велосипеда, и мы, вихляя, поехали к малюсенькой заводи, где среди прочих была привязана и моя лодчонка.
Эта ночь на реке – одно из самых моих счастливых воспоминаний. Мы прыгали с лодки и плавали под луной в чем мать родила. Топили друг друга. Орали. Перебудили уток. Озаренная луной фигура Крюгера на корме осталась у меня в памяти покатым скосом бедра от поясницы, мышечной впадиной крепкого мальчишеского зада, продолженной до колена, сверкающими каплями на ноге. Прежде я на картинках никогда не замечала очень поучительной разницы между тем, как круглится женское бедро и как опадает мужское. Когда не в воде, он очень предупредительно держался ко мне спиной. Вылитые Paul et Virginie [50]50
Поль и Виргиния (франц.) – герои одноименного романа-идиллии французского писателя Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814).
[Закрыть]. Или нет! Скорее он был «совершенный джентльмен», о которых читаешь в английских книгах имперских времен, отошедших в прошлое, как я теперь знаю, за поколение до нас с Крюгером. Стройное бедро Крюгера довершило мое сексуальное образование, начатое словом «свихнутый». (Поправка. Там где-то выше я писала, что увидела в окно его зад, большой, как луна. Неточно. Может быть, как два полумесяца.)
Точные подробности – вот чего мне прискорбно недостает в записках Б. Б. Слишком уж он занят собственным восприятием.
Оставь ты в покое свое восприятие, Б. Б.! Побереги его для меня – не у места оно в твоей исторической хронике. Возьмем еще пример – тот скандал, когда Лесли сбыл американцу экспонат вашей художественной галереи – поддельного Джакометти. Незадолго до смерти Анадиона мне обо всем этом подробно рассказывала. Расстроенный чужими огорчениями, ты, Б. Б., даже не упоминаешь, что это ты (а вовсе не Анадиона) заплатил американцу из собственного кармана. Такая вот объективная подробность кое-что говорит о тебе, верно? Равно как и о вашем ненормальном тройственном согласии. Неужели ты никогда не замечал, как это влияло на чувства моей матери к тебе? Или ты опускаешь кое-что из скромности и деликатности? Что ж, тогда одобряю.
Тут я подхожу к твоей подлинной натуре, к твоей яйности и самости, которая радует меня именно в подобных зримых проявлениях. Еще одно из них – когда вы с приятелем распиваете в яхт-клубе поминальный стакан виски за утопленника Реджи и ты припоминаешь ночь, бурю, крушение, его мужество, его горе из-за смерти жены, которая его никогда не любила и с которой (по твоим словам) он никогда не спал. Тут виден ты, каким я тебя знаю, твоя сострадательность, твоя проницательность, твое чувство справедливости, твоя теплота, твое простодушное негодование против жизни, которое я так в тебе люблю, – и все это явственно благодаря маленькому стаканчику виски. Или там есть место, где стареющая Ана отчаянно гневается, обнаружив, что ее сорокалетний итальянец-скрипач поцеловал хорошенькую американскую гостью. Вот тут твоя жалость воссоздает образстарости и жизненного краха. Или где моя массивная мать примеряет девичьи сорочки в «Харродзе», а ты жестоко смущаешь ее замечанием, что они ей не по фигуре. Там ты, между прочим, не так уж и хорош, и твоя мировая скорбь стоит ее скорби о том, что она не родилась легконогой ундиной в сорочке от «Харродза».
Правда, очень многие философы утверждали, что память может обходиться без образов. У меня есть для них тест: помнит ли слепец ночную тишину? Помнить-то он помнит, но как убого! Я вспоминаю две беззвучные ночи – одну возле Лаго-Маджоре, последнюю ночь в Италии под конец нашего медового месяца, другую в Банахере, в детстве. Ты мне сказал, что юношей бывал один на Лаго-Маджоре, и говорил, как глядел через реку на равнину и горы, о белых валунах в стремнине, о сухой гальке, о прозрачных, быстрых, голубых протоках. В ту ночь ты уехал в Милан: что-то не ладилось с нашей машиной. Я осталась одна. Сентябрьские звезды, темные вершины в поднебесье. Далекая тусклая звездочка сорвалась с небосвода. Если ночь затрепетала, я не слышала. Может быть, расслышал бы небесный стетоскоп? Промельком этой звездной искорки в темно-синих небесах и осталась у меня в памяти тишина итальянской ночи.
А тогда мне вспомнилась другая сентябрьская ночь, давняя ночь в Банахере, не холодная и не теплая; высунувшись из другого высокого окна, я опять-таки вспомнила, что нынче осеннее равноденствие, а еще о том, как в июне прошлого года, звездной ночью, мы плавали по реке с Крюгером Кейси и как сверкали капли воды на его голой ноге. Что общего у этих двух беззвучных ночей? Когда я в Банахере отошла от окна, легла в постель и раскрыла книгу, я чуть-чуть задела светильник над кроватью. Крохотная пылинка проплыла в кружке света и исчезла.
Короче, Бобби, мне нужны отражения, а не преломления. Мне нужно то, что твой глаз различает сквозь телескоп, а не твои ахи и охи, даром что все свои переживания ты относишь на мой счет…
Будет! А то там еще несколько страниц этих нелепых «Поправок». Basta! Более чем basta. Я дал ей показать себя во всей красе. Она вполне изъяснилась. Мы с неделю до упаду спорили об этом самом, то есть о том, в чем я ничего не смыслю, – о Реализме и Идеализме, о Внешнем и Сущем. Она с отвращением назвала меня платоником, когда я взбешенно заявил, что видимость сама по себе еще ни о чем не говорит. Видимость? Я всегда пропускаю в романах описания внешности героев, например: «У него был длинный крючковатый нос, подобный клюву морской птицы, волосы его, тепло-рыжеватого оттенка, вились мягкими колечками, его маленькие мышиные глазки шныряли, когда он говорил…» И тому подобное, спасибо, если не на целый абзац. Да за каким чертом мне надо знать, что нос у него был длинный, а не короткий, волосы рыжеватые, а не белобрысые, глаза маленькие, а не как у всех? Странным образом, последний раз такая тягомотина мне подвернулась в рассказе Тургенева рядом с замечанием, что черты лица человека вовсе не столь важны, сколь «музыка лица», как выразился Байрон. А ты, Нана, ждешь от меня моментальных снимков восприятия места, лица, факта, причем снимков тогдашних.Это невозможно. Нам остается только эхо.
Она вздохнула.
– Ну, например?
– Ну, например, вот был один день во время нашей поездки по северной Италии. В мемуары он не попал. Нынче я и представить не могу, какой ты была в тот день, но в некий миг ты мне живо помнишься, долгим эхом отзвучавшей мелодии. Из Женевы на юг ты захотела ехать через Гренобль, в память о Стендале. Я в простоте душевной обрадовался, что ты так чтишь этого блестящего враля-жизнелюбца, и сразу же согласился, только заметил, что лучше нам ехать перевалом Мон-Сени – дело было в октябре, – потому что если ранний альпийский снегопад завалит дороги, то можно переправить машину на поезде от Модана до Бардонеккьи.
Она закрыла глаза, припоминая. Я тоже.
Лишь когда мы пересекли южное ущелье Лотаре, а за ним ущелье Монженевр, выяснилось, что у нее был и другой повод избрать этот путь в Италию. Мы миновали границу, проехали пониже модных лыжных курортов и стали спускаться к Пьемонтской равнине – до Турина оставалось километров пятьдесят, когда она подняла глаза от карты и воскликнула так непосредственно, что я купился с потрохами:
– Смотри-ка! Vallées Vaudoises, Вальденские долины! Надо нам посетить хоть одну! – и принялась оживленно рассказывать, как двадцать пять тысяч несгибаемых протестантов тринадцатого столетия укрылись от правоверных французских католиков в суровых альпийских долинах, и здесь их из рода в род преследовала, вылавливала и убивала католическая солдатня Пьемонта, пока наконец им не было даровано гражданское полноправие – в самом конце девятнадцатого века. И все же, пылко настаивала она, они-то и были становой жилой Пьемонта, и может быть, им-то и обязан нынешний Пьемонт своей духовной независимостью, столь отличающей его от Ломбардии, подобно тому, как старинный Турин отличается в лучшую сторону от современного, распущенного, космополитичного, лощеного Милана.
У нас был медовый месяц. Мы друг в друге души не чаяли. Я спешил выполнить любое ее желание. Мы свернули наверх к какому-то селеньицу, кажется, за Горре-Пелличе, где тоже едва ли наберется пять тысяч жителей, – горделивой столицей этих затерянных в Альпах Вальденских долин. В селеньице я заметил один-единственный трактир, уже закрытый – сезон-то кончился, закрывали рано – и суливший путникам giardino ombreggiato [51]51
Тенистый садик (итал.).
[Закрыть]. «Тенистый»! В Коттских Альпах, в октябре! Мы ехали вперед и выше, милю за милей по вьющейся, крутой, сыпучей дороге; наконец я притормозил за последней деревушкой и вопросительно поглядел на нее. Солнце скрылось за альпийскими вершинами. День угасал. Я думал о прекрасных туринских ресторанах, с которыми в Италии могут сравниться разве что римские и тосканские. И не без дрожи вспоминал об одиноком закрытом трактире за шуршащими виноградными шпалерами. Она вышла из машины и, обратившись лицом к широкой, стылой долине, усеянной крестьянскими домиками, ровно, твердо и совершенно неожиданно для меня произнесла:
Отмсти, Господь, за кровь Твоих святых,
Чей прах рассеян на холодных склонах
Скалистых Альп; их, в правде непреклонных,
Пока клонились мы пред идолов своих,
Попомни; и впиши стенанья агнцев сих
Ты в Книгу Живота… [52]52
Начальные строки стихотворения Дж. Мильтона (1608–1674) «О недавнем побоище в Пьемонте».
[Закрыть]
Она декламировала спокойно, но брови ее были насуплены, а напряженный голос взволнованно звенел. Дочитав стихи, она повела глазами вокруг и прошептала: «Едем». Я не сказал ни слова: не хотел противоречить ее настроению. Я погнал машину в Турин, радуясь, что нам не придется ночевать в нетопленой, захудалой альпийской locand’e [53]53
Гостиница (итал.).
[Закрыть].
И почти через двадцать лет после этого вечера я выразительно указал на рукопись своих мемуаров.
– Ну? В свете этого воспоминания могу я спросить, почему это ты ждешь от моих скромных мемуаров образных откровений, а от Мильтона не требуешь ни образов, ни картин?
Ответ ее меня не убедил:
– Мильтон писал стихотворение. Ты пишешь прозу. Мильтону не было нужды описывать лица, изображать обстановку. Стихотворение это не требует определенности лиц и обстановки. Оно и без того понятно во всем мире: оно об угнетении, о грубой силе, об истреблении инакомыслящих, о свободе духа, о любых несчастных беззащитных пришельцах, желающих тихо-мирно жить по своей глупой воле. Китайца это стихотворение может тронуть не меньше, чем тебя или меня. Оно будет понятно черному юноше в Заире, который никогда не видел снежных гор. И девушке из Шри-Ланки, не имеющей представления, где это – Пьемонт.
Тут я, по-моему, ее подсек.
– Не согласен! Тебе это стихотворение не случайно запомнилось, и тронуло оно тебя, должно быть, потому, что откликалось на какое-то полузабытое происшествие в твоей собственной жизни – скажем, обиду за себя или за другого, а может, и многие обиды. Жизнь ими полна, и «определенной» памяти о них нет, они вспоминаются, как вот это стихотворение, доносятся, как дальний барабанный рокот, как охотничий рожок в лесу. Искусство никогда не сообщает нам ничего нового. Оно лишь подтверждает то, что мы всегда подозревали.
Во время нашего свадебного путешествия по Италии мы то и дело схватывались на деревянных шпажонках по поводу внятных мелодий и неразличимых образов; оно и неудивительно, потому что каждый день одни впечатления дарили нас зеркальной радостью сиюминутной жизни, а другие, еще прекраснее, отсылали к жизням иным. Она предпочитала первые, я – вторые.
Когда я под занавес изложил это Нане, она засмеялась и сказала:
– Это всего-то и значит, что ты любишь одни картины, а я другие. Просто потому, что тебе по душе идеальный подход, а мне – реальный. Помню, в галерее Уффици ты подумал, что потерял меня, и носился, как угорелый, по залам. Тебя притянул идеальный Боттичелли. А меня зачаровал реализм Бронзино. Хотя я, как профессиональный философ, разумеется, знаю, что предполагаемая антитеза Реализма и Идеализма – надуманная. Сегодня, кстати, у меня есть особые основания чувствовать единство телесного и духовного начал. Час назад, глядя из окна на звезды, я произвела некоторые подсчеты. Я пропустила ровно три месяца. Нас трое, Бобби.
Я только что снял запыленную старую черную папку с пыльной верхней полки книжного шкафа в моем кабинете на Росмин-парк – посмотреть, давно ли и когда именно я сделал последнюю запись.
Не верится. Словно из другой жизни, а было это вроде бы всего пять лет назад. Я гляжу в зеркало на свое мальчишеское лицо. Видимо, так. Мне в точности пятнадцать лет – не больше и не меньше. Что же, на самом-то деле, случилось со мной в промежутке?
Отмыв перепачканные пылью ручонки над розовой умывальной раковиной в том самом кабинете, который служил мне спальней пятьдесят переполненных жизнью лет назад, я сажусь суммировать.
В 1991 году мы с Наной выкурили в Париже трубку мира и отправились в долгое свадебное путешествие – Париж, Карфаген, Дублин, неспешные странствия в мечтательном любовном обаянии – и привезли с собой еще не рожденную будущую Ану-два, нашего первого и единственного ребенка.
Целых пять блаженных лет Нана жила себе и жила на Росмин-парк: нянчила ребенка, хозяйничала, была мне женой-возлюбленной. Ей все было ясно далеко наперед: «Пять лет я кладу на Ану, потом снова займусь собой!» И это были наши самые счастливые годы! Со стороны в нашей жизни не было ничего примечательного. Я помогал, в чем мог, с маленькой Аной, ходил за покупками, прибирался, ухаживал за садиком, делал кое-что по дому, следил за доходами с недвижимости, иногда писал статью или рецензию, иногда выступал по радио. Я был как нельзя более доволен жизнью. И вот Нана, строго по обещанному, всерьез возобновила свои занятия в дублинском Тринити-колледже.
Мы вполне могли бы переехать в дом попросторнее – денег у меня хватало – и нанять домоправительницу, на худой конец, просто помощницу, отчасти няньку, отчасти служанку, однако Нана с упорством, которое сперва меня удивляло, потом внушило уважение, отказывалась «делать из быта проблему». Ей даже нравилось наше тесноватое жилище: «Скромность, – говорила она, – имеет свое достоинство»; я тоже с радостью здесь ютился – а раз так, зачем было, действительно, создавать себе проблему бытового переустройства?
Еще через пять лет она получила степень доктора философии, и защита ее произвела такое впечатление, что ей тут же предложили место младшего преподавателя. Лектором она стала в мае 2010 года. Ей было тогда сорок три, мне двадцать. Я не только по-прежнему обожал ее, но буквально благоговел перед нею, и спроси меня кто-нибудь тогда в мае: «Ну, как? Все ли еще, по-твоему, прав твой старый друг-неприятель монсеньор, утверждавший, что жизнь себя окупает?» – я бы просиял, как майское полнолуние, и ответил бы:
– Судите сами. Прошло сорок пять лет с тех пор, как я (воз) родился в 1965-м. И сколько непомерного счастья мне довелось испытать с того мартовского утра! К тому же я знаю, то есть именно знаю,ЗНАЮ то, чего не знает о себе ни один смертный, – что мне жить еще целых двадцать лет!
Через две недели я бы уже не просиял. Двадцать лет жить – да, но что это будет за жизнь? Была ночь на второе июня. Мы поздно вернулись из итальянского посольства с роскошного обеда в честь годовщины не помню уж какого из многочисленных событий, украшающих историю Италии, – и лежали в темноте в постели, на славу употчеванные, умиротворенные, понемногу соскальзывая в сон. Как бы желая покойной ночи, я положил руку на ее мягкий янтарный живот и сказал дремотно-ласково:
– Ты нынче изумительно выглядела.
Она, точно всполохнувшись, схватила мою руку, с нажимом провела по ней большим пальцем и сказала:
– А ты нынче слишком изумительно выглядел.
– То есть?
Живот ее затрепетал: она смеялась, беззвучно и невесело; потом издала долгий судорожный вздох и сильно встряхнула мне руку.
– То есть ты ничуть не похож на отца шестнадцатилетней дочери. После обеда я слышала, как неподалеку от меня шептались две женщины: «Который муж миссис Янгер?» – и потом: «Как, этот? Совершенный студент!» Биби! Ты иной раз явно смущаешь нашу Ану-два. В прошлом году, когда она приезжала на святки из Даун-Хауса [54]54
Примечание Б. Б.Даун-Хаус – это ее школа в Кенте. Понятно, почему в Кенте, а не в Ирландии.
[Закрыть], она спрашивала меня, сколько лет тебе было, когда мы поженились.
Тут она опять встряхнула мне руку так, точно пожимала на прощанье.
– Биби! Надо ли тебе быть здесь летом, во время ее каникул?
Около 19.30 по железнодорожной выемке к востоку от Росмин-парка громыхает последний пригородный поезд. Затем в парке воцаряется полная тишина. Было далеко за полночь. Она, должно быть, слышала мое напряженное ответное молчанье. Ближние и дальние соседи наверняка все крепко спали. Опять настойчивое рукопожатие, словно перед тем, как сказать: «Счастливого пути, родной, пиши же мне. Чмок, чмок. Будь!»
– Если она соберется через год поступать в Тринити, она будет ездить туда-сюда и все время привозить подружек. Отправляйся-ка ты куда-нибудь в деловую поездку, пока тебе еще по возрасту деловые поездки. Ну, хоть на лето? Куда угодно. Попутешествуешь, а? В Европу, в Азию, да в ту же Америку? Почему бы не в Техас? Навестишь внучка, Боба-два. Ему сейчас, наверное, за пятьдесят. Отрекомендуешься собственным сыном. Скажешь ему, что Боб Янгер, с которым он встречался в Дублине двадцать лет назад, приказал долго жить. Убеждена, что он будет тебе рад. Да если на то пошло, прояви ты всего-навсего интерес к американским Янгерам, и он нисколько не удивится, что ты приехал.
У меня есть легкий физиологический дефект: пульс отдается в правом ухе. И так отчетливо, что я могу его сосчитать, просто прислушиваясь. Я точно отличаю 80 от 82-х. Ей-богу, в тот момент он заколотился, как у младенца, а у них он достигает 120 ударов в минуту. Так и тарахтело в ухе: тук-ТУК, тук-ТУК, и вино тут было ни при чем. Она сочувственно потрепала меня по руке. Но продолжала настаивать:
– Нельзя нам дожидаться, чтобы ваши корабли разминулись в ночи. Что-то надо с тобой делать. Ты же не можешь вдруг стать моложе собственной дочери. Что она подумает? Почувствует? Какое потрясение…
Я покорился, исполненный восхищения перед ее прямотой, ее неприкрашенной речью. Она ждала, пока было можно. Да я и сам уже несколько лет предчувствовал, что этот вопрос встанет в упор. И дело было не в моемвозрасте. В то время жила в Дублине очень общительная неженатая парочка: они стали любовниками, когда ей было тридцать пять, а ему пятнадцать; она, благочестивая католичка, не предохранялась и абортов не признавала; у нее до него родилось четверо детей от четверых отцов, а потом еще четверо от него. И все весело смеялись. По благочестию своему она открыто признавала себя грешницей, и все было ясно, прекрасно, благопристойно и вполне допустимо. Но возраст Аны означал либо что я обрюхатил ее мать, будучи четырех лет от роду, либо что это был не я, и ни того, ни другого допустить было нельзя. Когда Нана сказала мне со своей подушки, что надо со мной что-то делать, то в этом для меня новости не было, а мешкал я потому, что не знал, что именно «делать» с собой, кроме как исчезнуть, стать мужем-беглецом, или – и я впервые посмел выразить это словами – смело объявить, что я никогда не был ее мужем. Я сказал это вслух, обращаясь к отсвету уличного фонаря на потолке, и почувствовал, что Нана медленно поворачивает ко мне голову. Я зажег ночник, чтобы встретить ее гнев при свете. Она глядела на меня с чисто интеллектуальным изумлением, лишенным всякой примеси чувства, и вид ее без слов напоминал, что есть на свете такие люди, как Эми Пойнсетт, для которой генеалогия – точная наука. Глаза ее говорили: «Ты что же, думаешь, что эта бредовая мысль не приходила мнев голову?»
Я выключил ночник. Объявить Ану-два приемышем – тоже не выйдет. Раньше или позже, по тому или другому поводу ей придется предъявлять свидетельство о рождении. Так мы и лежали рядом, как два надгробных изваяния, испытывая схожие страхи, сомнения и почти что обиды: я, например, оказывался в роли чересчур молодого любовника, ровесника дочери, роли предательской, а между тем такое же предательство с ее стороны открывало историю наших отношений. Наконец моя горечь прорвалась.
– Она моя дочь.
– И моя тоже.
– Значит, я вообще ее потеряю? А я хочу видеть ее снова и снова. И снова! И снова? Всегда.
– А меня?
– А без тебя я пропаду.
– А что со мной будет без тебя?
– Если я уеду, – отважился я, – откуда мне знать, что ты захочешь, чтоб я вернулся?
– Конечно, я захочу, чтоб ты вернулся, вот дурачок!
– А ты уверена, что я захочу вернуться?
Под простыней в меня вцепилась жадная, ласковая рука.
– Да я умру, если ты ко мне не вернешься.
Мы накинулись друг на друга, как юные любовники.








