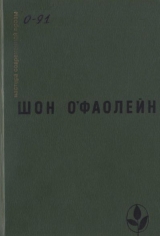
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Шон О'Фаолейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
– В Дублин, я вижу, ты вернулся со щитом, – сказала она утверждающим тоном, отчего он сразу нахмурился. Ведьма. Чего доброго, держала его на крючке все эти десять месяцев.
– Я вернулся, – сказал он, пугаясь ее, – в холодные объятья матери-Ирландии. Сосу резиновую титьку.
Она подняла бровь, отметила, что он порядочно выпил. Вытянул уже три мартини. Робеет? Трудно признаваться? В чем – она уже догадалась по оброненной шутке, что-де он в долгу перед портным и обществом. Окутавшись сигарным дымом, потягивая портвейн и потчуя ее коньяком, он наконец развязал язык, бравируя и смиряясь так неискусно, что у нее заныло сердце. Бедняжка! Неужели все так плохо?
– Мириам, этот чертов город меня доконал. Как бы ты на моем месте завила горе веревочкой?
– Определись в армию.
– Меня же выставили год назад!
– В ирландскую армию.
– Здравствуйте! – взорвался он. – Тоже мне, войско! Они такие же вояки, как гвардейцы папы римского. Они с двадцать второго года не нюхали пороху.
– Сноб! Невежда. Численностью она не уступает другим армиям. Замечу также, что в свое время папская гвардия умела достойно сражаться и умирать. В конце концов, – она скользнула взглядом по его брюшку, – ты воевал в основном в штабах. Надо поскорее вытащить тебя в фехтовальный зал. Подумай серьезно, Джордж. Хорошая квартира, хороший стол – это мы позаимствовали у британской армии, – хорошее жалованье, никаких расходов, конец всем твоим финансовым проблемам. О’кей?
– Что ж, – промямлил он, смущенный ее натиском, – цену я себе знаю. Кое-чему научить ребят, конечно, смогу. Только как быть с моей злополучной генеалогией? Ведь даже мое имя обличает во мне иноверного, как сказали бы твои соплеменники.
– Если тебе вообще повезет привлечь к себе внимание, то исключительно благодаря своей злополучной родословной. Суди сам. В армии у нас одни ярые патриоты, на девяносто пять процентов католики и на все сто – пролетарии. Приезжает какая-нибудь важная зарубежная шишка, и мы не моргнув глазом выставляем тебя. Потеха! «Капитан Аткинсон». Шишка смотрит на тебя сверху вниз. И тут выясняется: блестящий классик, выученик средневекового университета, набожный методист, ветеран британской армии, и по свету поездил, и акцент оксфордский, и пять языков знает. Ты будешь наш главный приз. Наш дядюшка Том.
Он вспыхнул. Она протестующе вздела руки и, укоризненно передернув плечами, сложила брови домиком и губы трубочкой.
– У меня такая же планида, Джордж: я у них – тетушка Том. При этом свое дело я исполняю нисколько не хуже других, в сто раз лучше, по правде сказать.
Некоторое время он обретал дар речи.
– Я не набожный методист, – выговорил он твердо. – Я не владею активно пятью языками. Активно я владею только греческим, французским, итальянским и английским.
Она накрыла его руку своей. Он шумно сглотнул, обескураженный ее загоревшимся взглядом и победной улыбкой. Она бывала чертовски привлекательна.
– Пятый язык будет козырем в нашей игре. Завершающим штрихом. Зарубежной шишке ты ведь должен будешь хоть что-то сказать по-гэльски. Ничего, если придется надеть горскую юбку?
– Что?! – бешено взревел он, и она не могла не признать, что он в своем праве, поскольку удар ниже пояса нанесла умышленно. – Я ни слова не знаю на твоем наречии.
– Мое наречие, – сказала она примирительно, – иврит. Ты хороший лингвист, Джордж. Может, чуть мне уступаешь. За шесть недель я натаскаю тебя к собеседованию на ирландском. Пущу в ход свои связи, и еще выйдет так, что ты им делаешь одолжение. А потом хоть на голове стой – еще больше полюбят. Но чем-то вроде протестанта тебе, хочешь не хочешь, быть придется, нам позарез нужен – и это очко в твою пользу – представитель президента и армии на таких печальных событиях, как похороны, например, евреев, методистов, свидетелей Иеговы, баптистов, оранжистов, масонов, буддистов, последователей ирландской церкви и всех прочих язычников.
Он бросил взгляд на ее янтарную аскетическую плоть. Ядовитая тварь. Жертва генов. Плюс сексуальная озабоченность. Плюс компенсирующая жажда власти. Он важно обронил: «Посмотрю». Она сомкнула свои траурные веки. Вслух она не сказала, но он расслышал: «Умничка!» Что-то его ждет – лямка? Успех?
4
Как выяснится, годы в ирландской армии станут лучшими в его жизни. Жалованье, стол, гардероб, квартира, знаки любви и внимания, и вдобавок он оказался прав: от него была определенная польза. С чем только к нему не шли: сигары, марки вина, крикет, поведение в обществе, методизм, презервативы, английская система среднего образования, коктейли, перчатки, галстуки, поло, английские шлюхи, Джон Весли, королевская семья, лондонские клубы. Замечательные ребята. Светлые головы. Задушевные друзья.
Жаль, плакался он ей, а она охотно поддакивала, что плоховато у них с культурными запросами. В качестве отдушины он обзавелся потайной комнаткой с розовыми обоями в центре города – благо он человек одинокий, на женщин непадкий, о браке даже не помышляющий, – где расставил свои долгоиграющие пластинки, подборку обожаемых лёбовских классиков [99]99
Двуязычные издания памятников античной литературы (по имени основателя «Классической библиотеки» Дж. Лёба, 1867–1933).
[Закрыть], французские романы, где прохлаждался в пижамах из Гонконга, пригубливал, по настроению, pastis, Punt е Mes, retsina, Ghambéry vermouth либо cassis vin blanc, где шелестел своей «Таймс», выкуривал десятишиллинговую сигару и даже время от времени принимал гостью. Само собой, он ни словом не обмолвился Молл о своем убежище. Молл смежит веки с положенной тенью и, показывая лазуритовую изнанку языка, высмеет его розовый рай. Она-то живо сообразит, что претерпеть ему в этом раю от дублинских девственниц столько поражений, какое число давно бы покрыло бесчестьем армию любой державы, исключая Уганду, Израиль и маоистский Китай. К ее удовольствию, он время от времени водил ее обедать в клуб. Там он не упускал случая поблагодарить ее за все, что она сделала для него. В душе ему хотелось, чтобы она была поменьше духовной и побольше плотской.
Это благодатное время однажды прекратилось: он потерянно выслушал по телефону ее нагоняй за то, что-де попусту губит себя в армии и что пора остановиться. Он вызвал ее в клуб пообедать. Там она повторила свои бредовые соображения. Он напрямик велел ей не лезть в чужие дела, ему роскошно живется, он и впредь намерен роскошно жить – премного благодарен! Она поджала нижнюю губу. Показала кривые клычки. С особым же удовольствием он отметил, что у нее нет готового ответа, она просто сменила тему. Так держать, подумал он. Пожестче с ними! Месяц спустя под дверь просунулась записка, согретая дружеской рукой, из коей явствовало, что его готовятся перевести штафиркой в Министерство обороны. Он немедленно отправил к ней мотоциклиста с депешей «Крайне срочно», где заверял, что приведет дела в порядок и тут же подаст в отставку. Амбициозный финал послания приводил на память Альфреда де Мюссе: On ne badine pas avec moi! [100]100
Со мной не шутят! (франц.)
[Закрыть]После месяца лихорадочных поисков он горестно убедился в том, что судьба не прочьпоиграть с ним. Она верно рассчитала: призрак голода, зеленая тоска; ее утешало, что он нигде не может приткнуться. Она сама прошла через это.
Он маялся в Министерстве обороны. Какого дурака он свалял, что возвратился на этот мокропогодный остров! Война, сокрушался он, разлюбезная война по колено в крови и грязи, – она бы вырвала его из этого утробного мрака! Терпи, храбрец, терпи, Одиссей, свою Итаку. И Пенелопу в придачу. Он лишил себя лондонской «Таймс». Вынужден был отказаться от убежища с розовыми обоями, продать лёбовскую библиотечку, перейти на хлопчатобумажные пижамы и даже брать готовые костюмы. Но за клуб он держался зубами. On ne badine pas… Эти слова нужно было выставить девизом на фамильный герб Аткинсонов. Пока он кое-как перебивался, зашевелились тайные силы, вдруг оценившие его. Мало-помалу он осознал себя как бы посредником между министерствами иностранных дел и обороны, что повлекло за собой не всегда обоснованные, но всегда желанные инспекционные вылазки в континентальную Европу не реже четырех раз в год на четыре недели кряду. Сравнительно с прежней суровостью он обмяк и в один ничем не примечательный день решил проявить великодушие, поскольку теперь глупая женщина должна понимать, что кое-где знают ему цену. Он вернул ей свое расположение. Пригласил в клуб отобедать с ним.
5
Уже за обедом она пришла к печальному заключению, что гражданская служба мало его образумила. Она наизусть знала его возраст – да и кто не вычислит? – сорок два стукнет 11 ноября. Самоуверен, как в двадцать семь, но гонору поубавилось, и даже может помолчать минуту-другую. Он же отметил в ней прежнюю живость, увы, типажные черты бабьей неудовлетворенности, прежнюю словоохотливость, но, наглядевшись, во что превращает живых людей конторский стол и диктофон, он восхищался сейчас ее способностью все эти годы senza rancor [101]101
Без обиды, без злобы (итал.).
[Закрыть]оставаться собой. Это фехтование, решил он, благодаря ему она сохраняет внутреннее равновесие. Спортсмен не озлобится на противника, если, защищаясь, выронит клинок.
А в целом вечер удался. Расхрабрившись после вина, он даже сказал ей у порога ее дома. – Как сказал мистер Черчилль мистеру Рузвельту, «Amantium irae amoris integratio est» [102]102
Ссоры влюбленных – возобновление любви (лат.).
[Закрыть]. – И притормозил. – Эту же мысль находим у Публилия Сира, 25-я Сентенция. Что ссоры влюбленных укрепляют дружеские узы. – Эта минута припомнится ей. Пусть он размазня, пугливый методист и перестарок, но скажи она ему: «Ты не хочешь поцеловать меня на ночь?» – и она уберегла бы его от лишних глупостей, а себя от лишних унижений. Она не нашлась сказать это, потому что в ту самую минуту загляделась через его плечо на фонари, обставшие площадь, ощутила себя художником, ваятелем, поэтом, гадающим, с какого боку, каким еще манером подступиться, овладеть трудной натурой. И сказала другое. – Замечательный был обед, Джордж, спасибо. Спокойной ночи.
Слаб человек погордиться, потщеславиться, даже полюбоваться собой, хотя в нем она первая осуждала эту черту. Но ей, конечно, было мало, что он наливается на ее дереве, хотелось сорвать яблочко, подержать в руке, положить его, наливное, на стол и не спускать с него глаз, и она легко устроила его к себе в министерство, хотя кто-кто, а уж она-то знала, какие мужчины требуются в ее министерстве: легкие на подъем, настоящие перекати-поле. «Джордж не из таких!» Джордж не перелетная птица, он наземная служба, обязательно при ком-нибудь. Она спокойно пребывала в этой уверенности до тех пор, пока начальство, проигнорировав ее яростные возражения, пылкие мольбы и даже угрозы, не решило послать его вторым секретарем посольства в Париж. Когда он, растягивая слова, поведал ей, что, хорошенько все обдумав, согласился на эту незначительную должность, она со спокойной душой дала Парижу месячный срок на возврат ее питомца.
К ее великому возмущению, он великолепно прижился там. Прошел год, и силы, недоступные ее влиянию (и разумению), решили послать молодца в Осло. Он и там замечательно прижился. Прошло два года, и она оторопело проводила его первым секретарем посольства в Италию. Целый месяц римские дипломаты вешались ему на шею («Questi Irlandesi! Argutissimi! Spiritosi! Un gros gaillard. Ces Irlandais! Потрясающий парень, с таким никаких англичан не надо. Ein so witziger Kere» [103]103
Эти ирландцы! Проницательные! Остроумные! (итал.)Балагур. Эти ирландцы! (франц.)…Забавный парнишка (нем.).
[Закрыть]). И она смирилась. Тем более что министерская «галерея шепота» [104]104
Знаменитая своим акустическим эффектом галерея в соборе св. Павла в Лондоне.
[Закрыть]давно зачислила его в креатуры их розового преосвященства. Ей не оставалось ничего другого, как способствовать его дальнейшему повышению. Кем теперь – послом? Только не на край света! Упомянули Канберру. Она обложила Южную Корону [105]105
Созвездие Южного полушария.
[Закрыть]по-ирландски. Замаячила Африка. Она покрыла ее на иврите. Последними арабскими словами была награждена Канада. Рука судьбы на пуантах просеменила к ЕЭС [106]106
Европейское Экономическое Сообщество.
[Закрыть]. Соединенные Штаты Европы? Chef de cabinet [107]107
Глава кабинета (франц.).
[Закрыть]в Комиссии по культуре? Это уже пристойно. Смущало, правда, одно обстоятельство. СШЕ – организация наднациональная. Ее сотрудники состоят на службе у Европы, а не у своей страны. Можно, конечно, оформить его переводом, временно откомандировать. Но даже в этом случае отозвать его будет непросто. Австралия, Канада и Африка вынудили ее решиться.
Брюссель, 1972 год.
…весь Брюссель сиял./Красивейшие женщины столицы/И рыцари стеклись на шумный бал [108]108
Из «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона, Песнь III, строфа 21, ниже – строфа 25. Пер. В. Левика.
[Закрыть].
Всего несколько миль к северу от Ватерлоо.
Толпа все гуще, в панике народ, /И губы бледные твердят: «Враг! враг идет!»
6
Она приехала в солнечное ноябрьское утро. В лайковых перчатках, со свернутым зонтом, в котелке, вальяжный, он фотографически оцепеневает под ее взглядом, потом той же горделивой поступью препровождает ее в свою скромную, но стильную трехкомнатную квартиру на Avenue des Arts. «Я сам ее выбирал сообразно своему не столь уж незначительному месту в бюрократической иерархии нынешней наднациональной Европы».
Экономка, худая брюнетистая фламандка с испитым лицом, приготовила восхитительно пахнувший кофе, и Молл занялась своим протеже.
Насколько ей известно, приступила она, ему сейчас пятьдесят четыре.
– Ума-разума прибавилось? – спрашивает она с надеждой.
По его подсчетам, льстит он, ей пятьдесят.
– Самая подходящая мне ровесница.
Ей не нравится кавардак в гостиной, все валяется где попало – письма, газеты, книги, журналы, отчеты какие-то.
– У меня руки чешутся прибрать здесь.
Он буквально лоснится от тщеславия и благополучия, подносит она пилюлю. Ее иссушает неутоленное желание, подпускает он шпильку. Она платит ему «тучным плевелом, растущим мирно у летейских вод» [109]109
Шекспир, «Гамлет», акт II, сцена 5. Пер. М. Лозинского.
[Закрыть]. Он подбирает живот.
– Превосходный костюм, Джордж, отлично скрашивает фигуру.
– Прелестная на тебе хламидка. Ба, вроде седой волосок? Во что тебе обошлась эта показушная горжетка – как минимум, в сотню фунтов?
С такой подковыркой даже супругам неинтересно пререкаться, причем каждый чувствовал себя в своем праве. Его манило кресло посла, и он был убежден, что она перекрыла ему эту дорогу. Он хорохорится, желая показать, что больше не зависит от меня. Из гордости он не признается себе, скольким он ей обязан. А она еще много, очень много могла сделать для него, будь он чуточку посговорчивее. Горестное сознание ущербности укололо их одновременно. В таких маленьких странах, как их родной зеленый остров, как вообще в маленьких столицах и городишках, в домах и конторах, в учреждениях и мастерских, – везде близость рождает зависть, и подсиживание, вероломство – истинное наказание таких мест. Но именно потому, что там все под рукой, все ручное, теплое, свое, – вероломство раскрывается, и в этом истинное благо таких мест. А здесь?! Как разгадать козни в безликих, вечно тасуемых конгломератах: Лига Наций, Организация Объединенных Наций, Европейский совет, ЕЭС? И уже у обоих на языке Дублин – его сплетни, его герои дня, его интриганы и прожектеры, его последние новости, его… Она первая вспомнила о делах и с грустью отправила его на службу. По дороге, однако, она мурлыкала под нос:
То ли гражданин французский,
То ли прусский, то ли русский
Подданный,
Он всемирный человек,
Но Ирландии навек
Отданный.
Она в отменном настроении опросила своих осведомителей (к этому времени СШЕ стянули в Брюссель около четырехсот ирландцев), прикинула, взвесила, смягчилась, оттаяла и вернулась в Дублин раз и навсегда довольная своим детищем, которое было для нее всем: муж, дядя, тетя, отец, мать, сестра, брат, толстый, глупый, сила, свобода, слава. «Мой человек в Брюсселе», – говорила она с гордостью. Она ходила коридорами власти, попирала карту Европы, откликавшуюся дюжиной западных и восточных языков, по-свойски заглядывала в отделы, как губка, впитывала байки старого Дублина, его предания, воспоминания, его типологию, сама уже воплощая тип ирландского остроумца. Словно солнечные лучи, согревали душу его регулярные, как часы, секретные донесения с передовой, доверительные писульки, сдобренные острым словцом, каплей яда, каплей меда, а местами даже нескромные. В свою очередь он упивался ее отчетами о пересудах и передрягах в родных пенатах. Оба словно вернулись в свое студенчество, только теперь она более продуманно одевалась, каждую неделю подвивала свои плоские волосы, предпочитала рестораны, где метрдотель называл ее «мадам», носила бижутерию, пользовалась духами «Шамад» и угнетала коллег апломбом, какого хватит на целого министра. В последовавшие девять месяцев она четыре раза ездила к нему, и он четыре раза наведывался в Дублин. Он был в своей лучшей поре, она переживала вторую молодость, к нему пришла зрелость, она вертела Европой, сидя в Дублине. Так прошел год. Нигде даже призрака веточки тиса [110]110
Ветка тиса – знак траура.
[Закрыть].
К середине второго года его пребывания в Брюсселе зашуршали слухами пальмовые веера. Привычная к злословию, она не стала вникать. Женщина? Она саркастически рассмеялась. Между тем языкастые листья продолжали бубнить на ветру. А кто конкретно? Она бурно, облегченно расхохоталась. Как, это жалкое создание, которое она видела пять раз! Эта не разгибающая спины, не первой молодости, плоская как блин экономка, существо невзрачное, угрюмое, темное, способное только оттолкнуть! Она упрямо отказывалась верить, но в одно сентябрьское утро…
«Дорогая Мириам, на прошлой неделе исполнилось ровно полтора года, как я здесь, и должен с подобающей скромностью сказать, что Европа нас не забудет. Я решил, что надо держать марку. Соответственно я снял поместительную квартиру в доме 132-бис, это через два квартала, где можно прилично устроить гостя и развлечь коллегу. Имеются три спальни – моя, гостевая и экономки, мисс Вирджинии Нидерс. Ты хоть помнишь Джинни? Или не удосужилась ее заметить? Она превосходно готовит и, как я недавно обнаружил, восхитительно (хотя дороговато) шьет рубашки. Сущий клад. Она фламандка и во многих отношениях замечательное создание. Тоща, как хорошая борзая, мучнисто-бледная, взрывчатая, глаза словно подернуты золой страстей, надменное, аристофановское презрение к человечеству так и пышет из нее, моих разноплеменных коллег она разделывает под орех, особенно их жен. Где она только собирает свои разоблачения? На замечания огрызается, взвивается, зато предана мне абсолютно. А какой язык! Заслушаешься. Вчера вечером, например, я сказал: прелестный закат. Она кричит: „C’est transcendant!“ [111]111
Необыкновенно, запредельно! (франц.)
[Закрыть]А неделю назад, когда она примеряла мне очередную обнову, я пожаловался, что под мышками жмет. Как же реагировало это дитя природы? Она страдальчески вскричала – по-валлонски, хотя вполне владеет французским, – что ее душа истерзана. У какого еще народа женщина поставит рядом рубашку и душу? Разве что итальянка („Mi straccia l’anima!“ [112]112
Мое сердце разрывается! (итал.).
[Закрыть]). Они могут быть фуриями, эти фламандки. Только признавая этот факт, я нахожу возможным и даже нужным мириться с ее чрезмерной порою критикой наших гостей. При всем том квартира прелестная, и в свой следующий наезд прихватывай компаньонку и останавливайся у нас.Всегда твой Дж.»
Читая это письмо, другая женщина раздумчиво поднимет бровь, озадаченно опустит уголки губ. Молл знала своего приятеля вдоль и поперек, и письмо ходуном ходило у нее в руках. От неаккуратного словечка «наши» («наших гостей») у нее пресеклось дыхание. На заключительной фразе она напружинилась, на заключительном «у нас» пружина сорвалась. «Наши» гости?! Она погрозила ему пальцем. Гнев душил ее. Болван, он не представляет, где эта женщина набирается своих разоблачений! Да в этих разноязыких кафе, где гужуются лакеи, швейцары, кухарки, горничные, шоферы, экономки, и тут она вспомнила свое первое впечатление от его прежней квартиры – стол, захламленный письмами и газетами, – вообразила, за сколькими стойками, навалившись на них грудью и локтями, внимательнейшим образом изучались ее письма, и закрыла руками пылающее лицо. Потом овладела собой, остыла. Не «наши» главное: главное – «у нас». Написав это, он вынес себе приговор.
Ей нужно все знать точно. Но кто может точно знать, что именно произошло у этой пары идиотов, если вообще что-то происходило. Он сам наверное этого не знает, даже наверняка, потому что, компрометируя себя в этом возрасте, мужчины совершенно отрываются от реальности. Охладив рассудок и зажав сердце в кулак, она в течение одного часа вывела пять пунктов.
1. Хотя в таких делах возможно всякое, но чтобы он спал с ней – это маловероятно.
2. Даже если это случилось, она не испытывала ни малейших признаков ревности – в этом она должна отдавать себе ясный отчет, и она его отдавала.
3. Что-то произошло, либо происходит, либо только произойдет, о чем осведомлен весь Брюссель, как о том свидетельствуют здешние слухи и предполагаемое ликование за coulisses, в couloirs и кафе, и это «что-то» выходит за рамки.
4. Трудный случай. Своего представителя в многонациональных СШЕ отечество лишь в том случае призывает к ответу, если он а) наломал столько дров, что поставил в трудное положение посла; b) наплевал в душу своему землячеству, в данном случае ирландцам, правильной, строгой нравственности католикам, навсегда ущемленным в самолюбии и душевно ранимым; или, самое милое дело, с) выставил себя на позорище и посмешище здесь, дома.
5. Имелось средство спровоцировать его на пункт 4 «с».
Она села за машинку и отстучала письмо на французском – благодарила за приглашение, за радость, которую ей без малого год доставляли его милые весточки. Писала, что рассекретила их переписку и раскрыла несмелые и тем более упоительные намеки. Она наконец разобрала невнятицу его любимого и любящего сердца. «Какая же я была слепая! Сердце горит, когда подумаю, сколько у нас впереди дней и ночей!» В субботу вечером он обнимет ее в Брюсселе, и какое счастье, что больше не надо таиться от людей. Разумеется, она с восторгом поживет у него, не маскируясь никакой компаньонкой. Больше того, на выходные нужно куда-нибудь отослать глупую старуху экономку. Je me prends à pleurer de joie. Je t’embrasse. M. [113]113
Я сейчас расплачусь от радости. Обнимаю тебя. М. (франц.).
[Закрыть]
Была среда. В полдень она отправила письмо по новому адресу, не заклеив конверта. Он (они) прочтет (прочтут) в пятницу утром. Она не оставила ему времени на ответное письмо. Звонить по телефону он не рискнет. Он даст телеграмму, и все зависело от ее тона. Тон будет ядовитый, если он невиновен; бурный, если невиновен наполовину; уклончивый, если испытывает слегка виноватое чувство. Если он виновен, то немедленно явится в Дублин с праведным видом выяснять, в чем именно он провинился.
В пятницу днем пришла телеграмма: «Вылетаю Дублин пятницу утром позвоню клуба субботу утром твой Джордж».
Она прочла, и у нее перехватило дыхание. Что, если идиот – все равно, виновный или невиновный, – что, если он принял ее признание au pied de la lettre [114]114
Буквально, в буквальном смысле (франц.).
[Закрыть]? Она была готова присягнуть, что такая мысль даже не приходила ей в голову. Она провела бессонную, с кошмарами ночь, прикидывая все неудобства этого допущения, а также некоторые его приятные, томительные моменты. В субботу утром он не позвонил. Зато позвонил швейцар клуба и сообщил мисс Мириам Уолл, что майор скверно перенес дорогу, заполучил простуду и невралгию и уложен в постель, но в обед позвонит сам. Час спустя из цветочной лавки вблизи его клуба прибыл огромный букет красных роз. Она оставила его в прихожей. Что все это значит? Трусит? Спрашивается – чего? Водит за нос? Она весь день просидела дома. Он не позвонил.
Он решил вынудить ее саму позвонить, иными словами, как некогда его вечно нерешительный родитель, он забился в свой угол и страдал не от простуды и невралгии, а от нечистой совести и раздрызганных нервов. С одной женщиной он уже имел бурное объяснение в Брюсселе, и нарываться на такое же в Дублине у него просто не было сил. Пусть сама позвонит! К чертовой матери! Мужчина он или ничтожная тварь? (Внутренний голос шепнул: «Ничтожная тварь».) Около пяти, когда он решил подбодриться в баре, раздался стук в дверь, и голос коридорного сообщил, что им интересуется дама по имени Уолл.
Что он говорил? Пожестче с ними! Пляшущей рукой он зачесал назад седеющее оперение своих цветущих лет, поправил галстук, на палец поддернул малиновый платочек в нагрудном кармане и начал величественное нисхождение по винтовой лестнице на встречу с этой мамзелью. Внизу, приплюснутая ракурсом, на шахматном полу вестибюля стояла Вирджиния Нидерс, вся в черном, сама черная, с черным пламенем в душе и провально-темными, грозовыми глазами. Загнанная в угол, даже ничтожная тварь показывает зубки. Выявляя свою истинную суть, майор Аткинсон прошествовал мимо нее в стеклянную швейцарскую, выхватил из кармана портмоне, сунул человеку пятифунтовую бумажку, приказал: «Немедленно избавьтесь от нее!», выскочил из швейцарской и, раздобревшим жирафом скача к лестнице, прокричал ей по-валлонски, по-французски, по-фламандски, по-английски и по-итальянски: «Убирайся!» За его спиной ливрейный швейцар осуществлял настолько глухую блокировку ее волчком кружащегося тела, что двое подошедших к обеду, сами регбисты, дали восторженную оценку ее реакции. Поднята телефонная трубка, но уже подвернулся полицейский патруль, и павлиньи вопли на валлонском, французском и фламандском языках все глуше доносятся с улицы. Покой воцарился в Ирландском клубе старших офицеров. Швейцар наблюдает за ней через зарешеченную стеклянную дверь. С возвышения в две ступеньки бдит патруль. Из окна чердачной спаленки всматривается в ее лоснящуюся макушку Джорджи. Господь чудотворно насылает ливень, и воды уносят ее челн.
Майор вихрем спустился вниз, вызвал такси и поехал на Лисон-стрит, в свой старый пансион. Там ему обрадовались как родному. Свободной комнаты, к сожалению, нет. Кстати! Какой-то час назад, сказали ему лукаво, о нем расспрашивала иностранка. Та-а-к! Записной книжки с ним не было, и за телефонами приятелей он поехал на Святого Стефана, в Министерство иностранных дел, где должен нести субботнюю вахту очередной герой-холостяк. Он едва успел крикнуть таксисту: «Полный вперед!», когда струящейся русалкой она прянула с крыльца, визжа ему вслед по-валлонски. Он вспомнил: в двух шагах от парка, на Эрлсфорт-террас, квартировал приятель, также служивший в ирландской армии. Когда и на этом крыльце в свете фонаря обозначилась ее темная, заостренная фигура, со страха его почки вымокли от адреналина. «На Хэч!» – взревел он, и, взвизгнув тормозами, они свернули на Хэч. Сколько ее тут – десять? Нужно собраться с мыслями. Выпить. Поесть. Обогнем парк – и к «Единорогу». Стоп, а он не проговорился ей как-нибудь об этом достойном ресторане, где кормился в полузабытые студенческие годы? Получается, что проговорился: сползши на пол такси, он выглянул в окно и увидел ее на фоне освещенных занавешенных окон. И он сдался. Обратно, в клуб. Впервые в жизни он обрадовался, что в баре никого нет. Потребовалось полчаса времени и три рюмки коньяку, чтобы разобраться в ситуации.
Итак: что, собственно, произошло? Он дико тряхнул головой. Черт! Что, собственно, произошло? Ему было одиноко. Так? Ей было одиноко. Так? И вполне нормально, что у него возникло желание утешить, приласкать. Так? Если же он далековато зашел, то это его проблема, ничья больше. В конце концов, не секрет, что половина многонационального Брюсселя обретается в грехе. Трусоватые ирландцы не в счет. Все было бы по-прежнему роскошно, не отыми эта дурища соску у ребенка. Среди бела дня гоняться за ним по городу! Бог знает, что она могла натрепать какой-нибудь канцелярской крысе, на грех оказавшейся в министерстве! Безусловно, она заявится туда и в понедельник утром и поднимет крик в духе французского фарса. Так? Нет! Да!!!
Он был конченый человек. Только после третьей рюмки он набрался духу вызвать пожарную команду.
– Мириам, это я. Соскучился – сил нет.
– Джордж.
Голос грустный. Какая-то она пришибленная. Какой поворот все это примет? Он постарался, чтобы его голос прозвучал ни мягко, ни твердо. Голос заскрипел, как на ржавых петлях.
– Само собой, я сразу позвонил бы тебе, Мириам, не будь этой гнусной простуды.
– Бедный! Это, наверное, когда ты бегал от женщины по всему Дублину.
Внутри у него все оборвалось.
– Когда мы увидимся, Мириам?
– Боюсь, что не сегодня, Джордж. И не завтра. С той самой минуты, как твоя экономка появилась в Дублине, она названивала мне каждые полчаса. У тебя, видимо, не было от нее тайн – она как у себя дома в этом городе. Ты что, поведал ей все сказки юных дней? Вдобавок ты оставил дома записную книжку. Подозреваю, что она могла позвонить секретарю министра. А то и самому. Я не исключаю даже весь кабинет. Некоторое время назад она осадила мою квартиру и мыкалась под фонарями с видом безработной шлюхи. Я с полчаса понаблюдала за ней сквозь занавеску – и впустила. Бедная тварь промокла до костей. Я дала ей рюмочку для согрева, немного послушала ее европейское нытье, дала сухую смену белья и отправила мокнуть в горячей воде. Когда она там наплещется, я, наверное, еще немного послушаю страсти о нашем человеке в Брюсселе, а потом устрою ее в какую-нибудь гостиницу, чтобы она была в форме, когда в понедельник утром явится к секретарю.
– Она же полоумная баба, Мириам! Нельзя верить ни единому ее слову!
– Если бы только слова: у нее есть глаза. Она говорит, что у тебя на пояснице родинка. У тебя есть родинка, Джордж?
– Она же шьет мне рубашки!
– Очень по-семейному. И еще – что у тебя шрам в районе паха.
– Проговорился как-нибудь.
– При ней твое письмо из Парижа, двухмесячной давности. Его просто неловко читать. – Ее голос снова смягчился и погрустнел. – Прости, Джордж. Лучше бы ты остался в Тринити и стал преподавателем древнегреческого. Я поняла: в тебе мается мальчишка, и ты до такой степени его боишься, что слой за слоем замуровываешь его заграничным жирком. Также эта бедняжка: из ее мощей, может, всю жизнь ломится наружу пышная богиня Питера Пауля Рубенса. Боже мой! Я иногда задаюсь вопросом, сколько Ариэлей томилось в Калибане. И сколько Калибанов – в Ариэле. Когда я так думаю, мне становится жаль человечество.
– Если тебя хватает на все человечество, – взорвался он, – то, может, ты подашь совет, как мне лучше всего поступить?
– Ничего нет проще. У тебя только два выхода. Первый – отставка и возвращение домой. Приготовься, что тебя понизят в должности. Не бойся, удобную жердочку мы тебе подыщем. Как насчет консульства в Южной Америке? Или в Африке? В Уганде, например? Умереть с голоду не дадим. А свой второй шанс ты должен был уяснить из моего письма. Если ты по-прежнему не возражаешь, чтобы я обнародовала нашу негласную помолвку полгода назад, то весь сыр-бор можно задуть, как свечу. Только решить ты должен сейчас, чтобы я успела позвонить секретарю или министру и некоторым злым языкам, протолкнуть на понедельник публикацию в «Айриш таймс», помягче ввести в курс дела мою купальщицу и утром отвезти ее в аэропорт. Потом, когда тебе будет удобно, ты можешь расстроить нашу помолвку. В этом случае, Джордж, очень тебя прошу: верни мне мое письмо. Иначе я перед тобой беззащитна как женщина.








