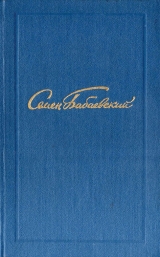
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 1"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)
XV
В полдень Таисия приехала в Садовый. С виду хутор, с его старыми тополями у въезда, с широкими улицами и в беспорядке стоявшими домами, напоминал небольшую станицу. Лежал он на берегу Кубани двумя улицами, из которых к реке вели узенькие проулки, густо поросшие бурьяном.
Шарабан подкатил к кирпичному зданию. Таисия не поехала к родным. Она сложила вещи в коридоре, распрощалась с Дашей и вошла в комнату с одним окном во двор. На скамейке сидели две старухи, опершись на палки, одетые по-зимнему: одна в шубчонке пепельной окраски, другая – в кофте; обе повязанные теплыми платками. Они посмотрели на Таисию старчески-грустными глазами, как бы говоря: «А мы вот здесь сидим, а чего сидим – и сами не знаем». Место за секретарским столом занимал паренек с белым вихрастым чубом. Увидев вошедшую незнакомую женщину, он угрожающе посмотрел на старух, вышел из-за стола и, не зная, что делать, пристыженно заморгал глазами. «Наверно, это и есть секретарь Крошечкиной, – подумала Таисия. – Как же его звать? Ах, да, кажется, Ванюша». Желая ободрить паренька, Таисия улыбнулась, поздоровалась со старухами и с Ванюшей.
– Тетя, а я знаю, кто вы, – смело сказал Ванюша, приглаживая рукой мягкий, падающий на лоб чуб. – Вы из райфинотдела?
– Почему думаешь, что из финотдела? Разве похожа?
– Нет, вы как все, – быстро заговорил Ванюша. – А только к нам должен приехать человек из райфинотдела. Мы тут сами собираем разные добровольные платежи, так нас надо научить этому делу. И Прасковья Алексеевна ничего не знает, и я ничего не знаю. А инструкций тоже нету. Какие были инструкции, посжигали перед приходом немцев. А теперь мы ждем такого человека.
– Я не работник финотдела, – сказала Таисия. – Буду у нас культурником. А ты здесь секретарь Совета?
– Как же вы это сразу узнали? – Ванюша засмеялся. – Или похож.
– Похож. Очень похож, – эти слова развеселили даже старух, и они засмеялись, но так тихонько, что Таисия не услышала.
– И неправда, – обиделся Ванюша. – Я вовсе не похож. Это вам про меня Прасковья Алексеевна сказала. Ох, если б вы знали, как я не хотел идти на эту должность. Опыта я не имею, а тут, как на грех, нет инструкций, чтобы можно было хоть немного подучиться. Справку написать или протокол составить – это я умею. А вот финансовая часть страдает. Растрат, конечно, у меня нет, а сводку составить не могу. Деньги надо записывать по статьям, а тут еще эти бабуси совсем меня с толку сбили. – Ванюша сердито посмотрел на старух. – Промежду собой эти бабуси являются свахами, и принесли они триста рублей наличными в фонд Красной Армии. С утра я с ними разговариваю, бьюсь как рыба об лед, и никак мы не можем уяснить, куда они хотят записать эту сумму. Прямо беда! Может, вы нам поможете? – Ванюша посмотрел на Таисию и, не дожидаясь ответа, быстро подошел к старухе, которая была одета в шубчонку пепельного цвета, и крикнул ей в ухо: – Бабо Лысынчиха, начинайте все сначала! Только говорите понятно и не спеша!
– Ох, господи, грех-то какой, – застонала старуха, вставая и подходя к столу. – Ты, сыночек, записуй, записуй, а я тебе так все по порядку и расскажу. Значит, так прямо и записуй: сто целковых на танку… Записал? А теперь клади еще сто на танку. Положил?
– Бабусю! – кричал Ванюша. – Вы опять начинаете путать! На танковую колонну вы уже положили одну сотню. Слышите! Одну сотню!
– А ты записуй. Ах ты, горе, не слухаешь старших, – старуха тяжело вздохнула, и усыпанное мелкими морщинками ее лицо стало грустным. – Ты, Ванька, сам сбиваешь меня с панталыку. Почему ж не положить на танку? Трое у меня сынов – все на войне. Пусть хранит их господь от вражьей пули, – старуха перекрестилась и продолжала: – Опять же сказать, растут внучата. Почитай, по трое хлопчиков от каждого сына. Девчушки – те не сгодятся, не бабье дело, а хлопчики уже подрастают. Старшенький, от сына Петра, так этот вражененок марширует. Таких наберется немало. Да у моей свахи Параськи тоже сыны и внуки. Сваха Параська, а сколько у вас внучат, хлопчиков?
– Бабусю, внучата к делу не относятся, – сердился Ванюша. – Вы говорите, куда мне записать деньги.
– Ежели считать с маленькими, – отозвалась все время молчавшая Параська, собираясь вести счет по пальцам, – с маленькими будет… Сколько ж их налупилось? Значит, у сына Федора трое. У Никиты пятеро или четверо. Запамятовала.
– Неужели Федор, сын Васьки, уже на войне? – спросила Лысынчиха?
– С прошлого года.
– Так ты его не считай. Веди счет тем, которые подрастают.
– Бабуси, – стараясь быть спокойным, перебил старух Ванюша. – Внуков вы как-нибудь на досуге сосчитаете. Куда ж все-таки записать ту сотню?
– Записуй на танку.
– Это какую ж? Первую?
– Зачем же первую? – удивилась старуха. – Я ж тебе простым языком кажу: сто целковых клади на танку. Так и записуй.
– Какую ж, бабушка? – краснея, громко говорил Ванюша. – Какую сотню?
– Запишем, бабуся… всё запишем, как вы сказали, – вмешалась Таисия. – Ванюша, пиши квитанцию на триста рублей.
– Ну и слава богу. – Обе старухи перекрестились.
Ванюша выписал квитанцию, которую свахи аккуратно завязали в платок и, попрощавшись, ушли. Ванюша удивленно посмотрел на Таисию.
– А все-таки, – сказал он, – куда ж я запишу эту сумму? В какую графу?
– Все триста запиши на танковую колонну.
– Верно! Как я раньше об этом не подумал! – Ванюша застенчиво улыбнулся и спросил: – Может, вы еще в одном деле меня выручите?
– В чем же?
– Упросите Крошечкину, упросите ее, чтобы меня уволили. Я погибаю на этой должности. Я хотел жаловаться ее сестре – Ольге Алексеевне Чикильдиной. Знаете ее? А она к нам не приезжает. Поговорите с Прасковьей Алексеевной.
– Я тоже сестра Крошечкиной…
– Да ну?
– Вот тебе и ну. Так что помочь не в силах. Тебе сколько лет?
– Семнадцать.
– Эх, Ваня, Ваня, такой молодой, а подумать только – уже занимаешь какой большой пост в государстве. Секретарь хуторского Совета! Это не шуточное дело. – Таисия задумалась. – Иной человек, Ваня, всю жизнь проживет, а даже и подумать не может о такой должности. Тебе семнадцать лет, и ты уже государственный работник. Что же будет, когда вырастешь?
– Я все равно уйду с этой должности, – насупившись, говорил Ванюша. – Все мужчины на фронте, а ты тут сиди и в бумагах ройся. Мой товарищ Сенька только на два года старше меня, а уже медаль имеет. Я тоже уеду на фронт. Добровольцами всех принимают.
– Ну что ж, если ты так хочешь, поговори сам с Крошечкиной, – сказала Таисия. – А пока проводи меня к Чикильдиным.
– Ваши живут тут, совсем близко, – сказал Ванюша. – Вот я закрою канцелярию, и мы пойдем. Чемодан у вас одни?
В доме Чикильдиных пахло свежей кукурузной мукой. Алексей Афанасьевич Чикильдин сидел верхом на стульчике в расстегнутом бешмете и медленно вращал ручку самодельной мельницы. Желто-белая, не очень мягкая мука струйкой сочилась по желобку и падала в черепяную чашку. Старик с трудом встал, обнял дочь, вытирая ладонью слезы.
– Лукерья! – позвал он охрипшим голосом. – Иди сюда! Посмотри, кто до нас приехал? Таюшка заявилась!
Из кухни вышла Лукерья Анисимовна, на ходу вытирая руки о фартук.
– Доченька, моя родная, – заголосила она. – Ты же моя самая меньшенькая! Позабыла дорогу в родительский дом.
– Не плачьте, мамо, – говорила Таисия, глотая слезы. – Видите, не забыла, приехала.
– Ну чего, бабы, расплакались, – строго сказал Чикильдин. – Пойдемте в горницу.
Мать и дочь прошли в соседнюю комнату. Следом вошел и Чикильдин с белыми от мучной пыли коленями.
– Помнишь, Таенька, тут жила Оля, – сказала Лукерья Анисимовна. – И кровать ее.
– Да, была когда-то Оленька, – вмешался в разговор Чикильдин. – Была… А теперь управительница всего района. И хоть она мне дочь родная, а только я скажу: нет у ней хозяйственной жилки. Вот если б поставить туда Прасковью!
– За что ж вы, батя, так Ольгу осуждаете? Ее весь район любит.
– Район, может, и любит, а родному батьке виднее. Чего, скажи, не едет к родителям? Боится, потому что с батькой заседания плохие, прению тут не откроешь. Вот приехала б с тобой, навестила. Так не кажет и носа. Знает, батько за мельницу будет ругать. Говоришь, что ее район уважает? А почему в районе нет мельницы? Третий месяц идет, как немца прогнали, а до сих пор кукурузу негде смолоть. Какое ж это управление?
– Нельзя ж все сделать в один день, – робко возразила Таисия.
– До каких же пор мы будем крутить эту дробилку-шарманку? Зайди в любую хату – каждая баба сама себе мирошник! При немцах – сам бог велел, садись на это деревянное чучело и накручивай жисть-кручинушку. А теперь же у нас снова своя власть. Дочка родная правит районом.
– И чего ты, старый, все бурчишь и бурчишь? – сказала Лукерья Анисимовна, разбирая постель. – Видишь, что молодые не так роблют, иди становись сам и управляй. Да через этот твой язычок и дочка домой не заявляется. Ей и так там, наверно, и присесть некогда, а тут еще родной батька точит и точит.
– Да я что? Так, к слову. – Чикильдин молча вышел.
– Шумливый, какой был, такой и есть. Шумит, шумит, а все без толку, – сказала Лукерья Анисимовна, держа на руке подушку. – Молодые теперь лучше нас знают, что и как делать. А старик лезет, куда его не просят. Оленьку он еще не так ругает, а вот Кондрату ой как достается. В прошлом году, когда наши отступали, так он прямо аж заболел и все Кондрата проклинал. Не так воюет – и всё! Хотел было седлать коня да ехать на войну к сыну. И поехал бы, я его натуру знаю, так я коня у соседей схоронила. А тут немцы пришли, и он затих, захворал. Я думала, и богу душу отдаст. А ты осиротела, овдовела. Знаю, знаю, – сказала она. – Эх, дочки, дочки, – старуха приложила ладонь к глазам. – Горюшко вы мое. Приду вот так в горенку, погляжу на постель, увижу всех вас пятерых-то маленьких, а то девушками, наплачусь вволю, и будто полегчает на душе. Ну отдохни, отдохни. Тут тебя никто не побеспокоит.
Лукерья Анисимовна вышла и, тихонько прикрывая дверь, еще раз посмотрела в щелку, как бы не веря, что младшая дочь дома.
XVI
Таисия раскрыла окно, склонилась на подоконник. За окном лежал знакомый с детства палисадник, огороженный низеньким плетешком, еще не убранный и не вскопанный. На смятых грядках торчали какие-то блеклые стебли, зеленели кусты крыжовника. «Здесь я когда-то жила и снова буду жить… Долго-долго», – с грустью думала Таисия.
С запада на Садовый двигалась туча, далеко-далеко погромыхивал гром. Таисия легла на кровать и, слушая отдаленные раскаты грома, уснула.
– Мамо, батя, а где тут моя помощница? – услышала Таисия голос Крошечкиной. – А! Ты спишь! Сестричка! А я зашла за тобой. Поедем сеять ячмень. Я приарендовала у Осадчего добрый участок земли. Трактора давно там. Идет дело!
– На ночь в поле? – удивилась Таисия.
– Как раз и хорошо, что ночь. Пока съедемся, наладим дело, а на зорьке начнем сеять. Если не желаешь – оставайся.
– Зачем же? Я поеду.
– Тогда побыстрее собирайся. Я поскачу верхом, а ты поезжай на подводе с Настенькой Давыдовой. Возле амбаров она нагружает зерно. – Гремя коваными сапогами, Крошечкина вышла из хаты и на улице крикнула: – У Ванюши возьми новые газеты. Почитаешь бабам, что там делается на фронте.
Пока Таисия переодевалась, ужинала, на дворе совсем стемнело. Дождь давно прошел, было сыро, с гор веяло прохладой.
Когда Таисия пришла на хозяйственный двор, там стояли подводы в бычьих упряжках, из амбаров женщины выносили мешки с зерном, мелькали огни ручных фонарей, слышался говор и торопливый топот ног.
– Марьяна, легче бросай мешки, а то люшня лопнет.
– Грузите по восемь на каждую арбу.
– По восемь? А ежели у нас мешки рваные?
– Снимай юбку, да и насыпай!
– Николенька, неси сюда фонарь.
– Куда нести фонарь? – отозвался детский голос. – До вас, тетя Настя?
– До меня, до меня, – говорила Настенька из темноты амбара.
Таисия по голосу узнала Настеньку. Следом за мальчиком, несшим фонарь, поднялась по ступенькам и вошла в амбар. На уголке низенького закрома сидела Настенька и что-то записывала в книжку. Лицо ее, освещенное коротким лучом фонаря, было черное и суровое.
– И что это за жизнь? – говорила она, обращаясь к стоявшей сзади нее пожилой казачке. – За что ни возьмись, и кругом ничего нет. Брички кое-как наладили – мешков нет. Боюсь, в такой таре мы весь ячмень растеряем по полю.
– Вот бы наших казаков поставить до такой справы, – сказала пожилая женщина. – А то мой пишет, что в разведку ходил. Вот бы его сюда. Пусть бы он тут разведал.
– Зря ты, Анисья, казаков вспоминаешь, – проговорила Настенька, подкручивая фонарь. – Им там тоже не сладко.
– Здравствуйте, люди добрые! – сказала Таисия. – На посев собираемся?
– Собираемся с горем пополам, – неохотно ответила Настенька. – А ты кто будешь?
– Таисия, сестра Прасковьи. Неужели ты меня не узнала?
– Тая! В этой темноте разве узнаешь. Значит, приехала? Будешь по культурной части?
– Культурность – дело дюже хорошее, – сказала Анисья, – да если б можно было мешки починять.
– Брось, Анисья, эту глупость, – сердито сказала Настенька и обратилась к Масликовой: – Поедешь с нами?
– Сестра советует.
– Прохорова, какой же это у чертова батьки мешок! – кто-то кричал из другого амбара. – Это ж не мешок, а решето.
– Мы бы давно выехали в поле, да вот мешков нету. – Настенька взяла у мальчика фонарь и вышла из амбара. – А тут еще Крошечкина, как всегда, горячку порет. И что за сумасшедшая женщина! Все бежит, все торопится. Можно б посеять и через два дня, нет, в одну душу требует сеять завтра.
Еще долго грузили зерно и в амбарах стоял разноголосый говор. Между возов мелькали фонари. Когда весь обоз был готов к отъезду, Настенька взобралась на переднюю подводу, усадила на мешках рядом с собой Таисию и крикнула:
– Бабы! Тронулись! Только посматривайте за мешками!
Разом скрипнули ярма, и обоз тронулся. Ночь стояла темная. За хутором дождь прошел небольшой, но дорога отсырела, и быки шли тяжело. Равномерно постукивали колеса. В стороне шумела Кубань. Обоз медленно въехал на тракт, потом завернул на проселочную дорогу, отчетливо черневшую двумя колеями. Ехали молча. Воз покачивался. Таисия лежала на мешках. По небу плыли разорванные облака, в просветах виднелись звезды.
– Таисия, ты не спишь? – спросила Настенька.
– Любуюсь небом.
– Я хотела у тебя спросить. Цоб, цоб! Чертяка лысый!.. Одну вещь хотела спросить. Как ты думаешь, казаки – какая это нация?
– Какая нация? – переспросила Таисия, не зная, что ответить. – Какая же это нация? По-моему, все казаки русские. А почему ты об этом спрашиваешь?
– Из интереса. Сегодня я с твоей сестрой поругалась из-за этих проклятых мешков. А она и давай мне про русских баб говорить да в пример их ставить. Дескать, русские бабы всё могут и хоть с какой беды выкарабкаются. А меня такое зло взяло, и я ей сказала: «А мы разве что ж, не русские?» – «Значит, – говорит Крошечкина, – не русские, раз мешков не раздобыли». – «А казачки, говорю, разве не русские бабы? Эх, ты, говорю, председательша, а язык у нас какой? Русский. Хлеб мы печем по-каковски? По-русски. А платки на голове каким манером завязываем? Русским манером. А борщ какой варим? Русский. Да все у нас русское, и кровинушки нету чужеродной. А что мы казачки, так это к нации не относится. Это, как я думаю, совсем другая песня…» – «Ну, – говорит Крошечкина, – ежели вы русские, так идите по хатам и раздобудьте мешки». Хитрая Паша! Поддала бабам жару, и сразу мешки нашлись. Хоть рваные, а все-таки есть.
Настенька взмахнула кнутом, и воз легко покатился под гору.
С задних возов послышался крик;
– Ой, мамочка, сыплется!
– Пррр!
– Стой!
– На какой арбе?
Настенька спрыгнула на землю и пошла к задним подводам. Пока она стояла у воза, где разорвался мешок, и о чем-то говорила с собравшимися казачками, быки нагибались, шершавыми языками искали еще низенькую траву; ярмо потрескивало так громко, точно кто-то в темноте ломал сухие палки. «Еще ярмо поломают, – думала Таисия. – Надо, наверно, слезть к быкам». В это время пришла Настенька, села на воз, и обоз поехал.
– Починили мешок? – спросила Таисия.
– Акулина сняла с себя юбку и ею дырку в мешке заткнула. – Настенька на минуту задумалась. – Дырку-то закрыли, но баба осталась без юбки, а рубашонка у нее коротенькая. Так что весь грех наружу. – И она сдержанно рассмеялась. – Ночью ничего не видно, а как ей теперь днем показываться на людях, днем?
Обоз тянулся по невысокому венчику, и чем ближе он подъезжал к Черкесской балке, тем мокрее становилась дорога. С горы, затормозив колеса, спускались как на санях. Отсюда было видно широкое плато с узкими и яркими на нем полосами прожекторов.
– Пашут, – сказала Настенька. – Мы приехали во-время. С рассветом начнем сеять.
Обоз встречала Крошечкина. Она вела коня на поводу, щелкая плеткой по земле.
– Ну как, русские казачки? – спросила она. – Мешки выдержали?
– Один распоролся, – ответила Настенька. – Беды Акулине наделал. Она своей юбкой заткнула дырку. Так что я и не знаю, как теперь с ней быть. Мужчины тут есть?
– А, ничего, – как всегда уверенно сказала Крошечкина. – Стыд не великий. В городе не такие бабочки в одних трусиках наперегонки бегают. А вы не стойте, а располагайтесь лагерем. Скоро приедут сеяльщики.
С рассветом в Черкесскую балку приехала бригада Скозубцевой. Четыре колхоза, стоявшие лагерем, уж сеяли. Скозубцева разыскала Крошечкину.
– Герасим не вернулся из района. Так мы сами… Только малость опоздали.
– Молодцы бабы, – сказала Крошечкина и обратилась к Настеньке. – Вот тебе пример к нашему спору. Не растерялась бабочка. Ну, Дуня, кормите худобу да запрягайте.
Лагерь жил обычной степной жизнью. Дымились костры, и в увесистых котлах готовился завтрак. Не занятые на севе казачки кормили детей, чистили картошку.
Обоз Скозубцевой пристроился к лагерю. Решили коров покормить в завтрак, запрягли в сеялки и в бороны и выехали на вспаханное поле. Двадцать сеялок шли по разрыхленному бороной следу. Ячмень подвозили на арбе две казачки. Тут же, на загоне, насыпали в сеялки, и бычьи и коровьи упряжки шли дальше.
Крошечкина и Краснобрыжев стояли у края загона, подсчитывали, управятся ли засеять весь клин к вечеру.
– А дело споро идет, – сказал Краснобрыжев, поглаживая бороду.
– Пока Осадчий выспится, попьет чаю, а мы уже всю его землю засеем.
Краснобрыжев хотел сказать что-то веселое по адресу Тихона Ильича, своего старого знакомого, но в это время невдалеке на возвышенности вдруг вырос всадник на низкорослом коньке без седла.
– Боже мой! – крикнул Краснобрыжев. – Кого мы видим! Тихон Ильич на коне, как князь!
– Вот уж действительно: земля лопнула, и черт выскочил, – сердито проговорила Крошечкина. – И принесло его не ко времени. Ну, что ж поделаешь, пойдем, Афанасий, встречать дорогого гостя. Зараз у нас будет веселый разговор.
XVII
Возможно, в такой ранний час Тихон Ильич Осадчий и не прискакал бы на коне в Черкесскую балку, если б не надоумила его на это Соломниха. В тот день, когда от него уехала Крошечкина, Тихон Ильич еще с полчаса бурчал ей вслед. Стоявшая в стороне Ефросинья спрятала покрасневший нос в платок и боязливо спросила:
– Тихон Ильич, кому это вы молитву читаете?
– А тебе что, красноносая?
– Хотела посочувствовать.
– Пойди да скажи Егорию, чтобы живо седлал коня. Сочувственница нашлась.
Ефросинья побежала на конюшню и вскоре подвела к Осадчему невысокого поджарого конька под стареньким седлом. Отдав в руки Тихону Ильичу повод, Ефросинья жалостливо посмотрела на угрюмо молчавшего председателя и проговорила:
– Трудно вам, Тихон Ильич. Вы ж один, а колхозов пять. И вдобавок кругом недостатки. Тут какую надо голову.
– Ты, Фроська, видать, женщина умная, рассудок имеешь, – проверяя седловку, проговорил Осадчий. – Только я тебе скажу, что не трудности меня с ног валют. Трудностей я не боюсь. Помнишь, в тридцатом году какую я гиганту воздвиг? «Красная Яман-Джалга». Тогда трудностей было не меньше. И ничего, вынес. А теперь ко всему прочему наплодились выскочки, карьеристки в юбках, чтоб их черти взяли! Э, что тут с тобой толковать!
Тихон Ильич безнадежно махнул рукой, сел в седло и поехал из станицы. Был он не в духе, загонял коня, переезжая из бригады в бригаду. К стану подъезжал рысью, с седла не слазил, а подзывал плеткою к себе бригадира и записывал с его слов итоги первых дней пахоты и сева, просил напиться воды и в ту же минуту уезжал. «Тихон Ильич, тебе бы эстафету возить», – сказала ему бригадир первой бригады Маруся Соколова.
Тихон Ильич, занятый своим делом, не слыхал этих слов, думая о том, как бы ему к вечеру побывать во всех шестнадцати полеводческих бригадах. По приезде в станицу он мечтал сочинить небольшой рапорток и с этим документом поехать завтра на заре к Чикильдиной. «У меня, Ольга Алексеевна, дело горит, – рассуждал он по дороге в бригаду. – Я не жду, пока мне учетчики принесут сводки, а сам, своими глазами все вижу. Тут без обмана». Но итоги пахоты и сева были нерадостны. Как ни прикидывал в уме Тихон Ильич, получалась очень мизерная цифра вспаханной и засеянной земли. Вечером Тихон Ильич вернулся в станицу злой и неприступный, накричал на Ефросинью и закрылся в кабинете. «Черт старый, на Крошечкину лютует, а на мне зло сгоняет», – думала Ефросинья, привязывая в конюшне коня.
Тихон Ильич до ночи просидел в Совете, но рапорта так и не написал. Не зная, ехать ли ему к Чикильдиной или не ехать, он пришел домой и, чувствуя во всем теле гнетущую усталость, не стал ужинать, лег в постель и подумал: «Так и заболеть можно… Вот чертова Крошка, стала на моем пути». Только на заре крепко уснул и проспал бы долго, если б не разбудила его Соломниха.
– Тихон Ильич! – басовито крикнула Соломниха, подойдя к кровати. – Кажись, сам бог послал нам трактора.
– Какие там еще трактора! – недовольно отозвался Осадчий. – Может, тебе это приснилось?
– Ей-богу, правда. Всю ночь гудут. И, видать, близко. Я слушала, слушала, а потом к тебе мотнулась. Как бы их заманить в наш колхоз?
– Где ж это гудит? – насмешливо спросил Тихон Ильич. – Не в твоем ли животе?
– Ах ты, ирод старый! Ты на что ж это намекаешь? – расходилась Соломниха. – Я о тракторах говорю, а тебе живот мой увижается.
Соломниха стянула с Осадчего одеяло. В одном белье он вышел из хаты, стал у плетня и прислушался. Небо светлело, и со степи доносилось неровное гудение тракторов.
– Наверно, Чикильдина сжалилась и прислала трактора, – проговорила Соломниха.
– Ошибаетесь, тетка Соломниха, – сказал Осадчий. – Скорей всего, это проделки Крошечкиной. Чует мое сердце, добралась эта вражина до Черкесской балки.
Тихон Ильич наскоро оделся и побежал в конюшню. Коня седлать не стал, а подвел его к крыльцу, грузно, всей грудью повалился коню на спину и от двора поехал рысью. Уже рассвело, когда он выехал в поле. После дождя по обочинам дороги свежими гривками зеленела трава; конь нагибался, тянул поводья, а Осадчий, отчетливо слыша тяжелый рокот тракторов, думал: «А может, это и не Крошечкина. Где ж она так быстро раздобыла трактора?»
Сомнение рассеялось, как только он поднялся на пригорок и увидел Черкесскую балку, танк, идущий прямо на него, два трактора и несчетное количество борон и сеялок. Черное поле было залито ярким светом только что выглянувшего из-за бугра солнца, и пахота зарябила свежими дисковыми следами. Увидел Осадчий и табор, и ползущий по земле дым от костров, и идущих к нему Крошечкину и Краснобрыжева. Снял с мокрой головы картуз и тяжело вздохнул. «Сама идет, встречает…» – гневно подумал он. Когда Крошечкина подошла к нему, он хотел встретить ее крикливой руганью, но ему вдруг стало так больно на сердце, что он только покосился на свою соседку и тихо сказал:
– Что ж это такое творится, Прасковья Алексеевна? Агрессия?
– Господь с тобой, Тихон Ильич, – скрывая улыбку, ответила Крошечкина. – Какая ж это агрессия? Это же севба. Разве не видишь?
– Я вижу, дорогая соседка, не севбу, – Осадчий задергал поводьями, ударил картузом коня по гриве и закричал хриповатым голосом: – Не севбу я тут вижу, а позор на мою голову! Перед Чикильдиной выслужничаешь? Карьеру себе пробиваешь? Хочешь из хутора в район продвинуться? Так знай, Парасько, эту безобразию я так не оставлю. Я сам к твоей сестре поскачу. До суда дойду!
Тихон Ильич осадил коня, как бы готовясь взять препятствие, разгорячил его на месте и поскакал по дороге, ведущей в район.
– И до чего же горячая голова! – сказал Краснобрыжев. – Так и знай, подымет бучу в районе.
– Пускай подымает, – ответила Крошечкина. – Я у него по-хорошему просила. Земля – золото, а пустует. А теперь тут будет расти фондовый ячмень.
Возле Крошечкиной Тихон Ильич нарочно гарцевал на коне, стегал плетью, гикал и для вида поскакал в галоп. А как только спустился за пригорок, бросил поводья, сунул плеть в карман и стал обдумывать, как же ему начать разговор с Чикильдиной. Размышлял он усердно. «Скажу ей по-простому, по-нашенскому, – думал он. – Так, мол, и так, товарищ Чикильдина, нет мне ни житья, ни покою от Крошечкиной. Обиду наносит на каждом шагу, и не словом, а прямо действием. То своих агитаторов прислала, а теперь казенную землю захватила. И все это через почему? Через потому, что сидит она под твоим крылышком…»
От этих мыслей Тихон Ильич даже в сладостной дремоте закрыл глаза. И ему виделся знакомый кабинет. Чикильдина сидит за столом и внимательно слушает Тихона Ильича. «Эх, Тихон Ильич, – говорит она, – до слез резанула меня твоя жалоба. Подумать только, что ж это такое получается? Садовские бабы взяли верх, хозяйствуют, как только им вздумается». Тихон Ильич улыбнулся в бороду. «Истинно так, Ольга Алексеевна, истинно. Ловко они нас подседлали. Прямо беда!» А Чикильдина будто и говорит: «Ну ничего, Тихон Ильич, мы эту Крошечкину одернем. Выскочка какая!» – «Истинно, Ольга Алексеевна, прямо обижает, насмехается…»
Так, оставив коня в покое, Тихон Ильич рассуждал сам с собой, пока не увидел под горой Родниковую Рощу, мост через Кубань, два ряда тополей, идущих от моста к площади. А въехав на вымощенную булыжником площадь, Тихон Ильич загрустил. Возле кирпичного здания райисполкома привязал коня и, входя в коридор, подумал: «Не буду жаловаться, скажу, чтоб освободила. Нет моих сил. Не гожусь я в одну упряжку с Крошечкиной…»
Дверь в кабинет была приоткрыта. Тихон Ильич потоптался у порога и, набравшись смелости, вошел. Чикильдина была не одна. За столом сидел мужчина с морщинистым и худым, гладко выбритым лицом. Он то снимал, то надевал очки на вдавленную седловину переносицы. Этого человека Тихон Ильич не знал и, быстро осмотрев его, подумал: «Видать, из края, приезжий. Вот я прямо при нем и начну выводить Крошечкину на чистую воду». Другой посетитель был заведующий райзо Головко, толстый украинец с длиннющими белесыми усами. Это ему Тихон Ильич перед войной сдавал дела земельного отдела и, прощаясь, наказывал: «Ты Иван Иванович, более всего бойся наших баб. Мы люди местные, все их повадки знаем, и то они на нас верхи ездят, а ты родом из Украины». Головко стоял у окна и, рисуя на вспотевшем стекле кружочки, задумчиво смотрел на площадь. «Этот будет за мою руку, как-никак, а мы все-таки друзья», – думал Осадчий.
– А, Тихон Ильич! – сказала Чикильдина, по привычке поправляя пальцами спадавшие на лоб волосы. – Ты какими судьбами?
– Да вот… тут… есть одна каверзная дела.
– Каверз я не уважаю, – с чуть заметной улыбкой на красивом лице сказала Чикильдина. – Ну ничего, посиди, я скоро освобожусь.
Тихон Ильич, не отрывая руки от груди, сел на диван. «Можно и посидеть, – думал он. – Хорошая женщина Чикильдина, завсегда приятное обхождение и все такое…»
– Савва Петрович, – обратилась Чикильдина к собеседнику. – Я думаю вам понятно. Опыт Скозубцевой надо сделать достоянием каждой бригады. Это и удобно, и просто, а главное, доступно всякой женщине-матери.
– Понять-то понимаю, но согласиться не могу. – Савва Петрович пожевал губами, снял очки и тихонько постучал ими о стол. – Не понимаю, что вы, Ольга Алексеевна, нашли хорошего в этих примитивных рядняных палатках. Ведь это же антинаучно. Не верите мне как заведующему райздравом, так поверьте как старому и опытному врачу. У меня есть труд, одобренный в Москве, специально о колхозных детских учреждениях.
– Не спорю, не спорю, – согласилась Чикильдина. – Но мы сейчас не можем построить образцовые детские ясли. Речь идет о временной мере. Надо приютить детей в поле, освободить руки матерям. А то, что сделали сами женщины в бригаде Скозубцевой, как раз то, что нам нужно. Так что садитесь и напишите письмо на имя председателей колхозов. Это надо сделать срочно, сегодня.
– Но ведь мною написан проект решения, который и был принят на исполкоме. – Савва Петрович закрыл глаза и плотно сжал губы. – Я думаю, что там все достаточно ясно.
– О нашем решении, как это ни странно, матери ничего не знают и, видимо, знать не хотят, а делают то, что подсказывает им житейская мудрость. – Чикильдина встала, и Тихон Ильич, не сводящий с нее глаз, заметил на ее щеках красные пятна. – Мне стыдно даже подумать об этом решении. Что мы там рекомендовали? Комнату с такой то кубатурой, железные кроватки, поставленные на метр одна от другой, высокие окна. Где все это взять? А сеять надо, весна, весна не ищет. Вот кончится война будут и кубатура, и железные кроватки, а сейчас пишите письмо, применяйте опыт бригады Скозубцевой. А если не сумеете – поезжайте сами, запишите всё с ее слов. Только давайте меньше дискутировать.
– Попробую. – Савва Петрович встал, пряча очки в футляр. – Попытаем счастья.
– Да, кстати, – сказала Чикильдина, – зайдите в редакцию. В бригаду выезжал работник газеты. У него, видимо, есть подробная запись.
Савва Петрович раскланялся и вышел.
– Я без дискуссий, – сказал Головко, разглаживая седеющие усы. – Дискусовать не о чем. Сев заваливаем, вот и вся недолга.
– Это как же так «заваливаем»? Еще не сеяли, а уже провалили?
«Зараз будет вздрючка, – думал Тихон Ильич. – Хорошо, что я вовремя ушел с этой проклятущей должности. Кто-то не сеет, лодыря гоняет, а ты перед партией ответствуй».
– Какая-то творится неразбериха, – начал Головко. – Там, где мы планировали низкие нормы, учитывая тягло и прочее, там и эти нормы не выполняются, а где мы спланировали максимум, нормы перекрыты вдвое. Неровно идет район. А это грозит срывом.
– Где, конкретно, перекрыли наши нормы?
– Да хоть бы взять колхозы Садового? По Совету, в среднем, как сообщила Крошечкина…
Дальше Тихон Ильич ничего не услышал. При упоминании имени Крошечкиной у него почему-то потемнело в глазах, появился какой-то нудный звон в ушах. «И этот Крошечкину хвалит, – подумал Тихон Ильич. – Да ты посиди с ней рядом. Нет, лучше не буду жаловаться. Черт с ней, пускай карьерует. Докарьеруется».








