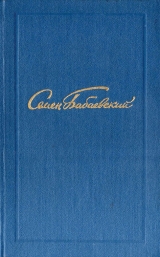
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 1"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
– И не молодая, и не старая, а женщина боевая. Председатель хуторского Совета.
– А-а…
II
За станицей взору открывалась равнина, вдоль и поперек исписанная дорогами. Чикильдина потеплее закуталась в бурку, и вспомнилось ей, как, бывало, еще в молодости вот такой же ранней весной любила она выходить на курган, одиноко стоявший на развилке двух дорог. Становилась лицом к солнцу, щурила глаза. Как же безбрежно широка и как же волнующе красива кубанская степь весной! Пригревало солнце, бежали во все стороны голубые волны весеннего марева, похожие на бескрайние отары овец, идущих попасом. Она любовалась вдруг выросшими вдали скирдами сена – они точно колыхались на волнах; то ее взгляд привлекали высоченные и как бы дрожащие бригадные станы, строения такой же причудливой формы, точно смотришь на них в кривое зеркало. Куда ни глянь – простор и простор под чистым небом. Море, да и только! И разлилось оно так, что трудно узнать, где ему начало и где конец. На сотни верст тянутся сенокосы, темнеют по серой траве прошлогодние стога, черные и загрубелые, насквозь просверленные мышиными норками. Повсюду белеет сухой ковыль, клонит ветер к земле непокорные шелковистые метелки, а под теплой полостью сопревших за зиму трав уже тянутся к свету игольчатые росточки молодого пырея. Черным крылом разметнулась зяблевая пахота, и летают над ней сизо-черные, почти невидимые около земли вороны, а островки рыжего застаревшего снега то там, то здесь прижимаются в страхе к теплой и уже парующей земле.
– Зинуша, а какой дорогой мы поедем? Проедем ли мы по берегу во «Вторую пятилетку»? Там дорога танками разбита. Может, сразу завернем в Яман-Джалгу?
– Я так думаю, тетя Оля, что мы проедем и по разбитой дороге, – ответила Зина, не поворачивая головы. – Можно сперва поехать во «Вторую пятилетку», а потом взять курс на Яман-Джалгу. А можно завернуть мимо Грушки, а от нее через Черкесскую балку на Яман-Джалгу. Как хотите.
– Поезжай мимо Грушки. Еще раз посмотрим пепелище.
– Тетя Оля, а вы казачка? – вдруг без всякой причины спросила Зина. – Казачка? А?
– Что это пришло тебе в голову? – удивилась Чикильдина, прикрывая лицо буркой. – И почему тебя это интересует?
– Да так… без особого интереса. Скажите – казачка?
– Какая из меня теперь казачка, – неохотно ответила Чикильдина. – Женщина, как и все.
– Это-то я знаю, – перебила Зина. – А если от рождения?
– Если от рождения то, конечно, казачка. В Садовых хуторах, где я родилась, живут мои родители – старики уже. Там и младшая моя сестра Прасковья. Отец рассказывал, Чикильдины появились на Кубани с незапамятных времен.
– Тетя Оля, вы знаете, я родилась на Волге, там у нас казаков нету. – Зина волновалась, лицо ее разрумянилось. Правда это, будто у казаков есть такой обычай, чтобы девушку силой, не по любви отдавать замуж и чтобы она потом всю жизнь жила с ненавистным мужем?
– Вот оно, оказывается, что тебя беспокоит. – Чикильдина посмотрела на своего шофера. – Кто тебе об этом говорил? Или в каких книгах вычитала? В старину, верно, всего бывало. Только это не обычай.
– А вы, тетя Оля, по любви выходили замуж?
Чикильдина не ответила, не хотела, чтобы Зина хоть что-нибудь знала о ее первом замужестве. В памяти воскресли давным-давно угасшие воспоминания. Без согласия отца и матери она вышла замуж за Федора Костылева, немолодого красивого мужчину. Жил он в Армавире, часто приезжал в Садовые хутора заготовлять живую птицу. Ольга так полюбила его, что и дня не могла прожить одна. Но вот прошло две недели, а Костылев не появлялся в Садовых и ничего не писал. Улучив момент, когда отец и мать ушли вечером к соседям, а сестры были на гулянке, Ольга оседлала отцовского коня и по метели ускакала в Армавир. Как слепленная из снега кукла вошла она в чужую квартиру, ничего не видя, кроме его любимого лица. Костылев обнял ее. «Казачка! Степная моя радость!» – говорил он, целуя ее холодные и мокрые от снега глаза.
Все, что случилось тогда, теперь кажется ей и смешным и обидным. Не прошло и месяца, как Костылев простился с молодой женой и уехал по каким-то своим делам в Сибирь. Говорил, что покидает ее ненадолго, но так и не вернулся. Два года Ольга ждала его, живя у родных и проводя в слезах ночи. Так и не дождавшись Костылева, Ольга уехала в Краснодар, к дяде Андрею Игнатьевичу Чикильдину. Андрей Игнатьевич помог племяннице поступить на курсы секретарей сельских Советов. В парке на танцах Ольга познакомилась с военным, Алексеем Кравцовым, удивительно веселым парнем, умевшим легко и красиво танцевать. Она вышла замуж за Кравцова, но счастья и в этом замужестве не было. Полк, в котором служил Кравцов, уехал на Дальний Восток, и Ольга снова вернулась в Садовые хутора – не замужняя и не вдова. Сперва она работала секретарем в хуторском Совете, затем ее взяли в Родниковорощинский райисполком инструктором. Там она вступила в партию. Потом – война, и письма от Алексея стали приходить с адресом полевой почты.
– Зинуша, что это пришло тебе в голову спрашивать о моем замужестве? – после долгого молчания сказала Чикильдина. – Или сама замуж собираешься?
– Нет, тетя Оля, замуж я не собираюсь. – Зина не успела притормозить, газик вскочил в выбоину, и его затрясло, как в лихорадке. – Вот дорога, так дорога… Я хотела поведать вам одну свою тайну. Я, конечно, не казачка, у меня и фамилия русская – Русакова, а влюбился в меня один казак. Это было на курсах шоферов, еще до войны. Звать его Жора. Он из хутора Низки. Жора – это по-нежному, а по паспорту он Егор Большаков, И я вам, как матери, сознаюсь: хотел Жора на мне жениться. Муж и жена шоферы – это, говорит, очень даже хорошо. А я тогда была чересчур молодая и не захотела даже слушать. А Жора и говорит: не захочешь по согласию – силой возьму в жены. У казаков, говорит, есть такой обычай. И давай мне про тот обычай голову заморочивать. А я ему говорю, что я не казачка и никаких таких дурацких обычаев не знаю и насильно твоей не буду.
– А что же он?
– Говорит, что меня свяжут. А я ему говорю, что буду кусаться.
– И чем же дело кончилось?
– Хохочет, а меня тоже смех разбирает, – Зина тяжело вздохнула. – Так мы ни до чего и не договорились. Теперь Жора на фронте, письма, конечно, пишет. Про тот обычай в одном письме вспомнил. Карточку тоже прислал. Сидит за рулем, такой гордый!
– Ну, а ты что ж ему написала? – участливо спросила Чикильдина.
– Еще ничего определенного. – Зина откинула голову и тихонько засмеялась. – Нет, тетя Оля, это я вам говорю неправду. Мне совестно. Я уже написала ему, только боюсь…
– Чего? Обычая?
– Нет. Боюсь, что не так написала. Сердито написала.
Чикильдина не знала, что писал Зине Егор Большаков и какой был послан ему ответ. Она кивнула головой и сказала, что письмо парню на фронт надо было послать ласковое. Зина согласилась и пообещала завтра послать другое письмо. А Чикильдина, кутаясь в бурку, вспомнила недавнее послание от офицера Матюхина. Она познакомилась с ним случайно в Краснодаре еще в прошлом году весной. В многолюдном коридоре к ней подошел капитан в казачьей форме, с двумя орденами и с забинтованной, лежавшей на ремне рукой. Это был худощавый чернолицый мужчина лет тридцати, с резким разлетом смолисто-черных бровей.
– Уважаемая, – сказал он, – не вы, случаем, будете заведующая лекционным бюро?
– Обознались.
– Прошу прощения, – сказал он с подчеркнутой вежливостью.
Они познакомились. Улыбаясь и приподымая стежки бровей, Матюхин рассказывал о том, как он лежал в госпитале и как служил в казачьем полку, из госпиталя его вызвали в райком, предложили поехать в станицы и рассказать женщинам, как воюют их мужья.
– Да беда – оратор из меня никудышный, – сознался он, улыбаясь и в упор глядя на Чикильдину. – Ну ничего, как-нибудь поговорим. Пока рука окончательно заживет – поеду беседовать с женами наших конников. Да вот никак не могу поймать неуловимого начальника.
– Я тоже его поджидаю, – сказала Чикильдина. – Вы приезжайте к нам. В станицу Родниковая Роща. Как бы обрадовались наши казачки. Они бы вас на руках носили.
Чикильдина смутилась и покраснела. Матюхин пообещал непременно приехать, но не приехал. Началась эвакуация, и Чикильдина в хлопотах и заботах, какие свалились на нее в те дни, забыла об этой случайной встрече. Совсем же недавно она получила письмо, ласковое, согретое душевной теплотой. Со свойственной мужчинам прямотой Матюхин говорил, что он полюбил Чикильдину и что непременно приедет в Родниковую Рощу. «Вот дурной, и напишет же такое», – подумала Чикильдина. Вспомнила об Алексее. От мужа второй год не было известий. Скомкала письмо в кулаке и бросила его в печь.
От воспоминаний, набежавших нестройной чередой, душно стало под буркой. Чикильдина приоткрыла угол, холодный ветер коснулся ее горячих щек. «Почему ж я не написала ласкового ответа? – подумала Чикильдина. – Надо было все-таки написать».
Зина вела машину молча, глядя на кочковатую дорогу и думая о чем-то своем.
III
В стороне от дороги чернело пепелище, тянулись к небу мрачные, давно остывшие дымари да торчали обугленные деревья, – то, что осталось от хутора Грушка. Горела Грушка в зимнюю, остуженную ветром ночь. Выползали из-под соломенных крыш кровяные струйки и, гонимые ветром, быстро разрастались в огромный дымящийся клубок огня. Точно багряно-красный заслон, подымалось пламя к небу, режущим глаза светом озаряя притихшую степь. Вокруг пожарища маячила цепь солдат, жарко отсвечивали на огне стальные каски и плоские, как ножи, штыки. Из глубины пожара долетали то воющий скрежет раскаленной жести, то грохот падающих стропил, то бешеный рев скота.
Давно погас огонь, остыла и земля под пеплом, а в сознании казаков Грушка была все таким же уютным степным хуторком, каким издавна знали его на Кубани. Никто не проезжал мимо Грушки. Всякий путник сворачивал на узкую, обсаженную тополями дорогу, задерживался у въезда в хутор, смотрел на остатки обугленных стен и дымарей, отвешивал поклон и отходил, уронив на грудь голову.
Чикильдина остановилась у съеденного огнем дерева, думая о погорельцах. Двадцать восемь семей переселились в Яман-Джалгу. Чикильдина ехала к ним, чтобы повидаться и решить: строить ли Грушку на пепелище или же подыскать новое место? Ольга Алексеевна и раньше бывала в Грушке. Были ей хорошо знакомы и ровная тенистая улица с небольшой площадью и школой и бригадный двор с амбарами и конюшней, и укрытые в садах домики хуторян. Ничего этого теперь не было. Улица завалена золой и обломками самана, камнями. Сады сожжены, иные деревья повалены ветром, иные, с обгоревшими ветками и с полуистлевшими стволами, еще кое-как стояли. Снег растаял, пригревало солнце, но никаких признаков жизни на этом месте еще не было. Весна, казалось, побаивалась сюда заходить. Верхний слой золы покрылся коркой, похожей на залитое мазутом стекло. Чикильдина попробовала его ногой. Корка раскололась, на ботинок полилась чернильная жижа. «Нет, нет, – думала она. – Надо расчистить и перепахать, а хутор будем строить на новом месте». И она всю дорогу мысленно составляла планы будущей стройки, думая о том, где бы достать леса, железа, кирпича, цемента.
На закате солнца приехали в Яман-Джалгу. Старинная станица растянулась по берегу Кубани. От моста улица вела к площади; на левой стороне, рядом с магазином – здание станичного Совета. На крылечке стоял сельисполнитель, или, как здесь их называют, тыждневой, – женщина лет сорока, остроносая и некрасивая, в куцей шубчонке и в валенках, носы которых полозьями торчали вверх.
– Осадчий в Совете? – спросила Чикильдина, подымаясь по ступенькам.
Женщина неторопливо и с достоинством вытерла рукавом нос, который тотчас же покраснел.
– Это ты про Тихона Ильича пытаешь? – спросила она, все еще вытирая нос о шерсть, торчащую из рукава. – А их тут нету. Они с бабами воюют.
– Вот так новость! С какими же это бабами он воюет?
– Да с какими ж? Все с теми ж и воюет, какие семена собирают.
– Ну и пусть себе собирают, – сказала Чикильдина, не понимая, о чем же говорит сельисполнитель. – Чего с ними воевать?
– Так они ж чужие.
– Кто чужие? Семена, что ли?
– Ой, господи, какая же ты непонятливая! – женщина засмеялась. – Не семена, а, говорю, бабы. Бабы чужие. Садовские.
– А-а! Теперь поняла. Значит, бабы из Садовых хуторов.
– Объявилась какая-сь Крошечкина, так от нее Тихону Ильичу покою нету. Он ей…
– Постой, постой, – перебила Чикильдина. – Так что ж они тут делают?
– Что делают? – женщина снова побеспокоила нос. – По домам ходят и семена выпрашивают. Как цыганки.
– А как тебя звать? – решив переменить разговор, спросила Чикильдина.
– Меня? Ефросинья Федотовна Гусакова.
– Вот что, Ефросинья Федотовна. – Чикильдина не смогла сдержать улыбки, глядя на маленькое, покрытое веснушками лицо Гусаковой, на ее острый носик, ставший уже белым, как редька. – Разыщи-ка Новикову Василису. А если встретишь Осадчего, ему тоже скажи, что зовет председатель райисполкома.
– Это которую ж Новикову? Погорелую?
– Да, да. Только зови побыстрее.
Ефросинья побежала по улице, хлопая валенками, а Чикильдина села на низенькие перила и задумалась. Солнце скрылось за горы, косые его лучи, отражаясь в голубом чистом небе, слабо освещали Яман-Джалгу. Над площадью, над крышами домов лежала дымчатая пелена. Мимо церкви, направляясь к станичному Совету, шел Тихон Ильич Осадчий. Увидев знакомый ему автомобиль, Осадчий заспешил, похрамывая на одну ногу. В полушубке и в желтой кепке из козлиной смушки с облезлой шерстью старик важно подходил к крыльцу, стараясь не показать своей хромоты. Поздоровался с Чикильдиной за руку, снял кепку и, поглаживая плешивую голову, сказал:
– Ольга Алексеевна! Да ты прямо как ангел-спаситель! Только я подумал о тебе, а ты уже тут как тут. Только малость опоздала. Уже мои злодеи уехали.
– А что случилось?
– С жалобой к тебе на садовских баб. – Осадчий гладил бороду. – Нет мне от них покою и мирной жизни.
– Пожаловаться еще успеешь. Лучше расскажи, как идет сбор семян.
– Да какие ж тут к чертовой бабушке семена! – вдруг обозлился Осадчий. – Это ж не работа, а насмешка над моей личностью.
– Какая насмешка? Чего ты так распетушился?
– А того, что заела меня твоя сестра Крошечкина. Вот чего я кричу! Ольга Алексеевна, и где она взялась на мою голову! – Осадчий нечаянно стал на больную ногу и заохал, сгибая колено. – С брички пихнула, чуть ногу не сломил… Ах ты, горе!
– Да в чем же дело, Тихон Ильич? – участливо спросила Чикильдина. – Ты что ж, дрался с Крошечкиной, что ли?
– О! Была охота руки марать. Только я так скажу, хоть она тебе и родная сестричка: ежели этот черт в юбке будет и в дальнейшем лезть в мою территорию, как все одно какой агрессор, то я, как советская власть, не даю тебе никакой гарантии. Ты погляди, что она учудила! Пригнала в мою станицу три воза и штук двадцать своих казачек и давай семена собирать, как все одно у себя дома. Да что ей для этого дела Садовых хуторов мало? Агитаторши в юбках распустили свои языки, на всю станицу закричали, что, дескать, мы не мы, соблюдаем новую политику и засеваем в фонд Красной Армии. А как же я? Я тут власть, меня тут люди избирали или эту Крошечку, чтоб ей черт в бок?!
– Все это, конечно, верно. – Чикильдина чуть заметно сдвинула брови. – Ну, а много семян собрали садовские агитаторши?
– Ты смеешься, – сердился Осадчий. – Тебе-то ничего, а у меня эта Крошечкина поперек горла стоит. Мы, дескать, инициативные, мы такие да вон какие. Зубы нашим бабам заговаривают, будто они сеют пятьсот гектаров для фронта, а я знаю – брешут. И говорят-то они нашим казачкам не о гектарах, а о мужьях. Хитрые! Знают, где у баб слабая струнка. Теперь же знаешь, какие наши солдатки: скажи ласковое слово о муженьке, так она последнее зерно отдаст. А тут еще Крошечкина думает так: раз я, дескать, баба, а в районе моя сестра и тоже… извиняюсь, женщина, то на нее и жаловаться некуда. А я этого дела так не оставлю! – совсем уже разошелся старик. – Я не оставлю! Если ты не укротишь эту Крошечку, то я пойду к самому товарищу Волкову. В край поеду, а своего добьюсь.
– Ты, Тихон Ильич, одну Крошечкину видишь. Она заслонила тебе весь свет. Не ее надо ругать, а себя. С Крошечкиной я поговорю, и не беспокойся, Тихон Ильич, если она виновата, ее мы тоже накажем. И не посмотрю, что она мне сестра. Но что делать с тобой? – Чикильдина развела руками.
– Уже не гожусь, – угрюмо сказал Осадчий. – Умниц стало много.
– Крошечкина дело свое делает, ну, как это говорят, с искоркой.
– Так, значит, я уже потухший? – с горькой улыбкой на лице сказал Осадчий. – До войны горел, а теперь потух?
– Если ты хочешь знать, потухший ты или не потухший, я женщина прямая, и скажу: не потух, но тот огонек, который был у тебя до войны, теперь не светит и не греет. И нечего на Крошечкину пенять. – Чикильдина увидела показавшуюся из-за угла Василису Новикову с тремя детьми, с трудом поспешавшими за ее быстрыми шагами. – А вот и Новикова!
– А все ж таки ты запрети Крошечкиной хозяйничать в моей станице, а то я ей ноги переломаю, – стоял на своем Осадчий. – То ей семена в Яман-Джалге понадобились, а потом скажет: давай и печать.
– Ну опять ты за свое, – со вздохом проговорила Чикильдина, улыбаясь Новиковой. – Тихон Ильич, вдвоем мы ни до чего не договоримся. Собирай-ка на вечер депутатов. Сделаешь отчет. Там мы обо всем и поговорим. – Чикильдина обратилась к Новиковой: – Васюта, милая, да ты как наседка с выводком. А детишки как подросли! Прямо не узнать!
– Беда с этим выводком, – сказала Василиса мягким голосом. – Такой хвост – всюду за мной. Куда я, туда и они. Ах вы, голубчики мои маленькие!
Новикова и Чикильдина – в прошлом подружки. Жили они на Садовых хуторах. В ту зиму, когда Ольга ускакала на коне в Армавир, Василиса вышла замуж за Никиту Новикова из хутора Грушки. Подруги расстались надолго. Жизнь их пошла по разным дорогам. Молодую красивую невестку в доме Новиковых любили, называли ее Васютой. Дети у нее рождались почти каждый год. Работая в Родниковой Роще, Чикильдина навещала свою подругу, и они, вспоминая девичество, тайно в душе завидовали друг другу. Ольге нравилось, как Васюта возилась с детьми, укладывала их спать, как она целовала их, наклоняясь над кроватками. «Вот оно, наше бабье счастье», – думала Ольга. А Василиса, бывало, провожала за ворота подругу, смотрела, как Ольга садилась в машину на обитое кожей сиденье, и говорила:
– Счастливая ты, Оля… На виду у людей живешь. А я вожусь с детишками да с пеленками.
И теперь, встретившись на яман-джалгинской улице, бездетная Чикильдина с глубоко скрытой женской завистью смотрела на свою подружку, на ее детей.
– Васюта, да тебя и горе не старит? – сказала она весело. И до войны цвела, и в войну цветешь.
– Оленька, милая, я еще не так бы расцвела, да вот дети меня сушат. У меня ж их четверо. Варя подросла, дома, на хозяйстве, а эта тройка постоянно со мной.
– Славные они у тебя.
– Только чересчур сопливые. – Румяное лицо Василисы, озаренное радостью, стало еще миловиднее. – Просто ходу мне не дают. Так за юбкой и бегают. Варюша – девочка смышленая, а эти – как бурьян. Посмотри, у этого хлопчика щечки надутые, глазенки как у сыча, это мой младшенький Мишутка. Перед самой войной родился. А это Сережа. Глазенки у него ласковые, как у отца. А это Оля, твое имя носит – может, будет такой же счастливой. По губкам видно – девочка с характером. – Василиса тихонько засмеялась, обняла детей, прижимая их головки к коленям. – Ах вы, мои птички сизокрылые.
Она целовала детей в щеки, в глаза, в губы с такой ненасытной жадностью, что ее материнское чувство сразу передалось Чикильдиной.
– Сердце болит. Что-то нету писем от Никиты. – Чтобы не расплакаться, Василиса снова занялась детьми. – А ну, горобчики, бегите домой, там вас Варя ждет. А мы с тетей будем заседание делать.
Дети послушно взялись за руки и убежали.
– Какие мальцы, а все понимают, – глядя вслед детям, сказала Василиса. – Как только скажешь им, что я иду на заседание, так сразу и уходят домой. Все понимают…
– Да, тяжело тебе, Васюта, – говорила дорогой Чикильдина. – Тут дети обременяют, а тут общее горе… По дороге я заезжала в Грушку. Лежит зола. Хочу с тобой посоветоваться. Может, в новом месте построим Грушку? Думали вы об этом?
– Не я одна думала. И во сне видится нам наша Грушка. Сестры твои прямо затосковали. Тесно и трудно жить на квартирах. И самим горе, и людей стесняем.
– Что поделывает моя сестренка Таисия? – спросила Чикильдина.
– Все так же. Больше молчит. Сядет над книжкой – не оторвешь, как глухая. Или уткнет голову в подушку и плачет. Слово ласковое скажешь ей – обругает. А то вдруг рассмеется. Странная женщина.
– По мужу, бедняжка, убивается.
– Ты бы ей какую работу нашла, в работе горе забывается, – советовала Василиса. – Женщина она грамотная.
– Говорила я с ней. Не желает. – Чикильдина тяжело вздохнула. – Гордая она или дурная – не пойму. К отцу и матери не поехала, ко мне не заглянула. Вбила себе в голову, что ей надо ехать в Баку к подруге.








