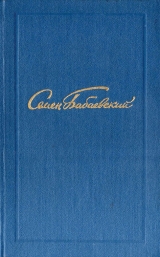
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 1"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
Евсей Нарыжный поехал не в район, как это все предполагали, а к Афанасию Головачеву – председателю соседнего колхоза, с которым издавна находился в приятельских отношениях.
– Да, Евсей, заварил ты кашу на свою голову! – проговорил Афанасий, выслушав торопливый и сбивчивый рассказ друга. – Дело это подсудное. С чем, с чем, а с хлебом шутки шутить нельзя. Ты не маленький и должен был это знать.
– Да я и знаю, но я же без всякого умысла, – сказал Нарыжный, и чертики в его глазах насторожились, не зная, прятаться или пускаться в пляску.
– С умыслом или без такового – это все едино, – рассудительно отвечал Афанасий. – Прокурор об этом тебя спрашивать не станет, а спросит как раз о другом. Есть факт укрытия хлеба? Есть. Так об чем же разговор?
– Но укрытие укрытию рознь, – не подымая головы, проговорил Нарыжный. – Я ж не кулак какой-нибудь, который злостно хоронил пшеницу в землю.
– А какая в том, Евсей, разница – кулак запрятал хлеб или же председатель колхоза? – Афанасий задумался. – Тут различия, как я полагаю, нету: и то и другое против закона.
– Что же мне делать? – Нарыжный поднял голову.
– Поезжай в район. Только ни к кому не заявляйся, а иди к Федору Лукичу Хохлакову.
– Так он же зараз власти не имеет?
– Ну, тогда иди к прокурору, тот власть имеет, – с усмешкой сказал Афанасий. – Иди, как я тебе говорю, к Федору Лукичу и обо всем ему чистосердечно признайся. – Афанасий вынул кисет. – Попроси заступиться. Он хоть зараз и ведает мельницей, а вес в районе по-прежнему имеет.
Нарыжный заночевал у друга и только к обеду вернулся в «Светлый путь». Он не удивился тому, что председателем была избрана Глаша Несмашная.
«У-у, ябеда, дождалась моего горя!» – думал Нарыжный, но в глаза Глаше смотрел добродушно.
Он передал ей печать, которая хранилась в железном сундуке, наглухо прибитом к полу. Дня три не выходил из дому, а когда узнал, что в колхоз приехал следователь, никому ничего не сказал и пешком отправился в район.
Остановился Нарыжный у двоюродного брата, работавшего весовщиком в «Заготзерне». С вечера побрился в парикмахерской и рано утром пошел к Хохлакову в дом.
В этот день Федор Лукич собирался побывать у Кондратьева и поэтому не ушел на мельницу. Когда Нарыжный робко приоткрыл дверь и сказал: «Хозяева дома?» – Федор Лукич, только что умывшись, в галифе и в сапогах, но еще в одной нательной рубашке, просматривал вчерашние газеты.
– А, Евсей Гордеич! – крикнул он. – Заходи, заходи! Давно, давно бы тебе пора проведать старика!
– Как твое здоровье, Федор Лукич? – пожимая руку, заискивающе спросил Нарыжный.
– Да что ж здоровье? Старый конь еще стучит копытами! – И Федор Лукич улыбнулся своей мягкой и приятной улыбкой. – Помирать еще не собираюсь.
– Ну и слава богу! – Нарыжный сел на стул. – А как поживаешь, Федор Лукич? Как новая служба?
– Работы я не боюсь, а вот в жизни оборачивается все как-то не так, не по-моему.
– Порядку нету? – спросил Нарыжный, и в глазах его показались веселые искорки.
– Не в том дело. – Федор Лукич отложил газеты. – Газеты к критике нас призывают, а в районе такое повелось, что чуть кого критикнешь, так на тебя сразу чертом смотрят.
– Истинно, истинно.
– Ну, Гордеич, рассказывай, как там у тебя в «Светлом пути».
– С жалобой к тебе, Федор Лукич.
– Что такое?
– Отрешили меня от председательства, – понурив голову, с дрожью в голосе проговорил Нарыжный.
– Вот это новость! Кто?
– Тутаринов.
– Так, так. – Федор Лукич погладил ладонью свою стриженую голову. – Значит, уже второй попался ему на зубы? А за что?
– Да без всяких причин, – все с той же дрожью в голосе отвечал Нарыжный. – Меня отстранил, а Глашу назначил.
– Кто такая эта Глаша?
– Несмашная, наша колхозница. Ябеда до ужасти.
– Так, так. Но все-таки за что же он тебя снял? Ведь была же какая-то причина?
– Федор Лукич, дело было так. – Нарыжный поднял голову, и в глазах его тревожно забегали чертики. – Тебе, как старому нашему руководителю, хочется пожаловаться. Так же дальше работать нельзя.
И Нарыжный по давно обдуманному плану изложил историю о запрятанном зерне так, как будто по недосмотру весовщика и кладовщика было засыпано в семенной фонд лишних сто двадцать центнеров озимой пшеницы. Затем все семенное зерно было заново перевешено и найденные излишки временно, под расписку, розданы колхозникам. (При этом Нарыжный вынул из кармана смятый лист бумаги с фамилиями и подписями.)
– Тут вся каша и заварилась, – заключил Нарыжный.
– Но хлеб сдали государству? – спросил Хохлаков.
– В ту же ночь.
– Так чего ж еще нужно было Тутаринову?
– А кто ж его знает? Прилетел на машине. По всему видно, личность моя ему не понравилась. – Нарыжный весь сжался, лицо его потемнело и постарело. – Работал, работал, старался, ночи недосыпал. Помнишь, Федор Лукич, как мы в войну? Последнее зерно везли. А теперь – не гожусь?
– За то, что мы в войну самоотверженно трудились, нам спасибо говорили бойцы. – Федор Лукич тяжело поднялся и, не глядя на Нарыжного, зло сказал: – Сколько я тебя, старого черта, учил – не шути с государством, а ты таким же дураком и остался. Я тебя берег, ценил, а Тутаринов из тебя знаешь что сделает. Весовщик виноват! По недосмотру! Знаю я тебя, и мне тут нечего чертовщину плести!
– Пособи, выручи, Федор Лукич, – взмолился Нарыжный, и в глазах его Хохлаков увидел слезы. – Десять же лет в руководстве.
– Некрасивая история, – как бы про себя сказал Хохлаков. – Но я похлопочу.
В кабинете у Кондратьева сидели вызванные на бюро Семен Гончаренко и Иван Родионов. Гремя палкой, Хохлаков, не взглянув на посетителей, прошел к столу и подал Кондратьеву руку.
– Здорово, Николай Петрович. У меня к тебе дело.
– Присаживайся. Вот кончу с товарищами, – сказал Кондратьев и обратился к Семену и Родионову: – Меня не уверяйте. Но на бюро вы должны сказать точно: будет готов канал к апрелю?
– Безусловно, – уверенно заявил Семен.
– Какие у вас расчеты? – спросил Кондратьев, и взгляд его внимательных глаз остановился на Родионове.
– Рассчитываем по людям, – ответил Родионов, тронув пальцем кончик уса. – Мы на канале всего вторую неделю, а ты бы посмотрел, что там такое происходит! Выйдешь на гору, а перед тобой весь берег усыпан народом – копошатся истинно как муравьи! Трасса растянулась на полтора километра. Красиво!
– А кроме всего прочего, – добавил Семен, – у нас есть точный, по дням, план выемки грунта. Если мы все это выполним, – а мы выполним, – то вода пойдет по новому руслу еще раньше апреля.
– Ну и отлично! – сказал Кондратьев. – Я рад, что у вас такое настроение. Значит, готовьтесь к бюро. А ты, Родионов, как парторг строительства, дополнительно скажешь о коммунистах.
Семен и Родионов ушли.
– На пороге появился управделами.
– Из Усть-Невинской приехал Еременко, – сказал он. – Вы его, кажется, вызывали?
– Давно приехал? Давай его сюда. – Кондратьев устало посмотрел на Хохлакова: – Федор, придется тебе еще подождать.
Вялой и неверной походкой вошел Еременко – парторг и временный председатель колхоза имени Ворошилова. Расслабленно, как больной, он приблизился к столу и, точно боясь свалиться, сжал сильными руками спинку стула.
– Садись, Еременко, – сухо пригласил Кондратьев. – Что такой болезненный?
– Прибыл по вашему вызову, – тихо проговорил Еременко, присаживаясь.
– Это я знаю. А без вызова и нос боишься показать?
– Все я признаю, – с волнением заговорил Еременко, – но у нас там такое, вы же знаете. Я все признаю, но глубокая ревизия. Приходится мне за чужие грехи расхлебываться. Артамашов кружил направо и налево, авторитет себе наживал, а я теперь отвечай.
– Твоих там грехов тоже немало.
– Клянусь вам, товарищ Кондратьев, я ничего лишнего из кладовой не брал. – Еременко поднялся, взглянув на Хохлакова, и снова сел. – Это Артамашов – и по запискам и так, по-всякому.
– Дело, дорогой мой, не только в кладовой, – дружеским тоном заговорил Кондратьев. – Садись поближе и послушай, что я тебе скажу. Так вот. Клятва твоя ни к чему. Ты – партийный руководитель, и с тебя мы спросим за все, что делалось в колхозе. А ты как думал? Ты все сваливаешь на Артамашова и клянешься, что ни в чем не виноват. А вина твоя в том, что ты, как коммунист, не видел, что делалось вокруг тебя.
– Это я все признаю, – заговорил Еременко, не подымая головы, но чувствуя на себе взгляд Кондратьева. – Все я признаю, но как же можно было парторгу за всем уследить? Тут и политмассовая работа, и беседы по бригадам, и собрания. А сколько у нас хозяйственных отраслей! И чтобы во всем разобраться, надо сразу быть и агрономом, и зоотехником, и бухгалтером, и знать там разный учет по кладовой, по фермам. Куда ни сунься – и все надо знать.
– Вот именно – все надо знать. Ты в армии служил?
– Немного. Еще до войны.
– А знаешь ли ты, что такое в Советской Армии общевойсковой командир?
Еременко, не понимая, почему его об этом спрашивают, молчал.
– Так я тебе скажу, – продолжал Кондратьев. – Это такой командир, который отлично знает все рода войск – их оружие, тактику, взаимодействие в бою. Вот таким и должен быть партийный руководитель в колхозе. Ты даешь политическое направление людям всех отраслей колхозного производства, ты их учишь, как надо жить и работать. А если это так, то уж само собой понятно, что ты обязан, подобно общевойсковому командиру, знать все рода оружия и одинаково разбираться и в политическом воспитании людей, и в агротехнике, и в животноводстве, и в учете труда. А как же иначе? Иначе нельзя.
– Да, я это признаю.
– Мало признавать. – Кондратьев раскрыл записную книжку. – Когда будут готовы акты ревизионной комиссии?
– К тому понедельнику, раньше никак нельзя.
– Обсудите их на открытом партийном собрании. Доклад сделаешь сам. – Кондратьев с минуту что-то записывал. – Как ты думаешь, кого можно рекомендовать председателем колхоза?
– Подошел бы Атаманов.
– А коневодство? Что, если остановиться на Никите Мальцеве? – Кондратьев сощурил глаза, как бы к чему-то прислушиваясь. – Как по-твоему?
– Молодой еще.
– А дельный?
– Это у него есть. Малый башковитый.
– Вот его и будем рекомендовать общему собранию. А то, что он еще молодой, бояться нечего. Люди быстро подрастают. Правильно я говорю, Федор Лукич? – Хохлаков неохотно кивнул, а Кондратьев поднялся и сказал: – Оставайся на бюро. Послушаешь отчет о строительстве канала. Когда вернешься домой, поговори с колхозниками о Мальцеве и готовьте собрание. От нас там будет Тутаринов.
– А как же со мной? – с грустью спросил Еременко.
– Пока будешь работать. Да не забудь, пришли ко мне Мальцева.
Еременко встал и такой же вялой, неверной походкой направился к двери. Кондратьев заметил в его глазах грустную тоску, подошел к окну, протер платком стекло и стал смотреть. У коновязи, в двадцати шагах от дома, дремала гнедая лошадь под седлом. Еременко отвязал повод, повернувшись лицом к окну, и Кондратьев снова увидел его печальные глаза.
«Нет, не годится, надо заменить», – подумал он и еще долго смотрел в окно, пока Еременко не увел на поводу коня.
А день стоял теплый, моросил мелкий дождь, на веточках акации тускло белели капельки. Станица была пуста, люди редко проходили по улице. Тишина плыла над мокрыми крышами, и площадь с молодыми голыми деревьями казалась просторной и неуютной. От райкома через площадь шли, о чем-то разговаривая, Родионов и Семен – один в бурке, снизу забрызганной, другой в поношенной шинели, оба низкорослые, коренастые.
– И что за народ эти фронтовики! – подойдя к окну, сказал Хохлаков. – Все мне в них нравится, всем они молодцы ребята, а вот одну особенность я никак не могу разгадать.
– Что ж это за особенность, если не секрет? – спросил Кондратьев, садясь за стол.
– Излишнее самомнение и чрезмерное хвастовство. – Хохлаков сел против Кондратьева и положил на край стола свою суковатую палку. – Поговори с ними о чем угодно, и они в один голос: «Мы все сможем. Нам все нипочем! К чему это высокомерие, я никак не могу уразуметь.
– Ты имеешь в виду Родионова и Гончаренко?
– Да. Но и не только их.
– По-моему, тут и понимать нечего, – сказал Кондратьев. – Они гордятся и собой, и своим делом, и, я бы сказал, своей настойчивостью. С возвращением фронтовиков новая струя влилась в наш народ, и этому только надо радоваться, а не гадать.
– По-твоему, выходит так, – перебил Хохлаков, – во время войны мы жили здесь так-сяк, а кончилась война, пришли фронтовики – и мы зажили по-новому?
– Да, по-новому, и это должно было случиться. Простой пример – урожай. Мы не можем довольствоваться урожаем военного времени. Или укрепление колхозов? В войну у нас просто не было возможности по-настоящему заняться этим делом. Или строительство гидростанции в такой небывало короткий срок? Да что говорить, когда ты сам хорошо знаешь! – Желая перевести разговор на другую тему, Кондратьев спросил: – Ну, что там у тебя ко мне?
– Хохлаков поднес к глазам палку и стал ее рассматривать, очевидно собираясь с мыслями.
– Николай Петрович, – начал он, продолжая рассматривать палку, – у меня разговор о Тутаринове.
– Обидел?
– Меня лично он ничем не обидел, и разговаривать о себе я бы не пришел. – Хохлаков подумал, повертел палку. – Ты вот что мне скажи: кто дозволил ему самочинствовать и диктаторствовать в районе?
– Интересно, – спокойно возразил Кондратьев, – ты, очевидно, увидел «диктаторство» Тутаринова в том, что он предложил многим руководящим товарищам вернуть в колхозы незаконно взятых коров? Так пойми, Федор, был бы у нас Тутаринов или его не было бы, а директива партии и правительства была бы выполнена.
– Не об этом речь.
– А о чем же?
– О том, что Тутаринов превышает данную ему власть, – вот в чем горе. – Хохлаков потрогал пальцами родинку на своей губе. – Николай Петрович, я уважаю Сергея: ведь наш же, казак. Но по праву старших товарищей мы обязаны призвать к порядку молодого, еще не опытного работника.
– В чем же дело?
– Я прошу меня выслушать сейчас или на бюро.
– Хорошо, говори.
Кондратьев облокотился на стол и приготовился слушать.
– Да, я понимаю, – начал Хохлаков, снова положив палку на стол, – о Тутаринове куда приятнее, конечно, говорить похвальные слова, нежели изрекать горькую критику. Но я вынужден это делать. – Хохлаков тяжело вздохнул. – Скажи, кто ему позволил учинять погром в усть-невинском колхозе имени Ворошилова и отстранять от работы председателя колхоза без ведома и согласия общего собрания? Ведь это же неприкрытое нарушение основ колхозной демократии! Кто ему позволил нарушать устав артели? Ведь он приехал в колхоз и стал там распоряжаться так, как в своей танковой роте! Но ведь это же не танковая рота, а колхоз! Он увидел в Артамашове своего врага. А кто такой Алексей Степанович Артамашов? Ты, Николай Петрович, приехал в наш район только на несколько месяцев раньше Тутаринова. А ведь я – то проработал с Артамашовым бок о бок всю войну и знаю его как человека волевого, энергичного. Это был лучший председатель во всем Рощенском районе, и если у него сейчас обнаружены какие-то ошибки, так ведь тот не ошибается, кто ничего не делает. Да и нельзя же забывать его прошлые заслуги. Нельзя рубить сплеча, как это делает Тутаринов. Прежде нам надо детально разобраться, что это за ошибки, найти конкретных виновников, а потом уже принимать то или иное решение. И если виноват Артамашов, то не в меньшей мере виноват и Еременко, и бригадиры, и бухгалтерия. Ревизионная комиссия еще не закончила работу, и какие будут результаты – еще неизвестно. Возможно, вся эта шумиха и выеденного яйца не стоит, а Тутаринов уже снял человека с работы, – ему, видишь ли ты, некогда, он привык водить танк на десятой скорости, и ему нет дела до того, есть ли у нас райком партии. Он решает судьбу руководителя колхоза самолично, приказом… Что это, скажи мне, как не диктаторство!
– И это все? – спросил Кондратьев, сидя за столом с закрытыми глазами.
– Нет, не все. – Хохлаков встал, вытер платком голову и лоб, оперся руками о стол. – Есть и совсем свежие факты. Тебе, наверно, известно, что Тутаринов в одну ночь сместил все правление «Светлого пути» и назначил новое, по своему выбору. Председателя колхоза Нарыжного, проработавшего там бессменно много лет, он снял и тут же назначил… Ты не улыбайся! Да, именно назначил какую-то Глашу. Если Тутаринов так и дальше пойдет хозяйничать в районе и мы его вовремя не остановим, то я уверен, что к весне все наши старые кадры будут разогнаны. Николай Петрович, пусть он строит гидростанцию, – в этом ничего плохого я не вижу, – но чего он лезет во все щели? Тебе же известно, что он грозился снять директора Усть-Невинской МТС. Да кто же ему давал такие полномочия? А присмотрись к его личной жизни! От избытка славы у юноши окончательно закружилась голова. С девушками он долго не церемонится. В той же Усть-Невинской он обесчестил какую-то не то доярку, не то возницу фермы, а потом бросил ее под тем предлогом, что, дескать, она простая девушка. Об этом позорном факте говорит вся станица. И если мы, как старшие…
– Все! – строго сказал Кондратьев и откинулся на спинку стула. – Отвечу коротко, ибо не вижу причин для пространного разговора. Во-первых, на бюро об этом говорить нет нужды.
– Потворствуешь? – Хохлаков тяжело поднялся и отошел к окну.
– Нет, защищаю по праву старшего. Во-вторых, Артамашова, твоего хваленого председателя, Тутаринов отстранил от работы по решению общего собрания членов колхоза. Собрание и назначило глубокую ревизию, и, когда она будет закончена, мы привлечем Артамашова к партийной ответственности за разбазаривание колхозной собственности. Чтобы другим неповадно было! В-третьих, тебе известно, что «Светлый путь» – единственный в районе колхоз, который не рассчитался по хлебу с государством. Нарыжный приезжал в район и у тебя же в кабинете плакал, что у него нет хлеба. И ты ему верил. А оказалось, что Нарыжный спрятал от государства сто двадцать центнеров пшеницы. Тутаринов распустил это правление как неспособное руководить – и правильно сделал. Но мало распустить: я поручил прокурору привлечь Нарыжного к суду. Да будет тебе известно, что новый состав правления не назначался, как это ты заявил, а избирался на общем собрании. Там же был избран председатель – и не какая-нибудь там Глаша, а известная колхозница Глаша Несмашная – кандидатура вполне подходящая. И последнее: придуманное тобой диктаторство Тутаринова есть сущая чепуха!
– Я не придумал, – отозвался Хохлаков, глядя в окно, – об этом говорят факты!
– Какие ж это факты? К чему эти громкие слова? Ты никак не хочешь понять того, что Тутаринов как раз и отличается от некоторых районных работников, не буду называть фамилии, именно тем, что смело вмешивается в жизнь колхозов и быстро решает важные и злободневные вопросы. И когда ты сказал, что Тутаринов якобы нарушает колхозный устав и основы колхозной демократии, я думал о том, что ты ничего не понимал и не понимаешь в колхозном строительстве.
– Спасибо. Дожил! – буркнул Хохлаков.
– Да, не понимаешь, ибо там, где партия помогает колхозу и колхозникам, где мы защищаем их интересы, там ни устав, ни демократия не будут нарушены – об этом ты можешь не беспокоиться. А вот то, что столько лет во главе колхозов стояли воры и мошенники и ты их покрывал, – вот это и есть, если хочешь знать, грубое нарушение колхозного устава. Зря, ни к чему ты затеял со мной этот разговор. Что же касается личной жизни Тутаринова, тут я, признаюсь, ничего не знаю. Моя вина. Но мне не верится, чтобы все было так, как ты рассказал.
– Вот и он сам! – сказал Хохлаков, увидев подъезжающий к райкому «газик». – Легок на помине! Вот ты у него и расспроси, что там было у них с возницей.
Сергей влетел в кабинет с холодным ветром, бросил на диван влажную, негнущуюся бурку.
– Николай Петрович! – крикнул он, не замечая Хохлакова, стоявшего у окна. – Ты бы посмотрел, что делается в моей станице!
– Ну, садись, рассказывай, – сказал Кондратьев.
– Тесно в Усть-Невинской! – Глаза у Тутаринова заблестели. – Туда съехался весь район. Народу – как на фронте! Брички, автомашины, волы, лошади, шум, гам. В войну мне довелось не раз видеть, как народ трудился на постройке противотанковых укреплений, но такого подъема, как в Усть-Невинской, я еще не знал. Теперь можно с уверенностью сказать, что к весне, когда пойдут вешние воды и заиграет Кубань, Усть-Невинская ГЭС запылает огнями. Вот это будет праздник!








