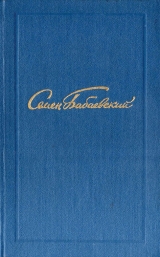
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 1"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
IX
На следующий день Крошечкина поехала к Осадчему. Отец оседлал ей «Венгера» и вошел в хату. Дочка стояла перед зеркалом в сапогах, в мужниных шароварах, расточенных в шагу, и в длиннополой рубашке, немного узкой на груди. Старик усмехнулся в усы, молчал. Крошечкина, не видя отца, подпоясывалась тонким кавказским ремешком, на животе у нее болтался старенький отцовский кинжал. Примерила кубанку, посмотрела в зеркало и рассмеялась.
– На какого кляпа ты наряжаешься в казака? – спросил отец. – Или людей вздумала пугать, дочка?
– Для солидности, батя.
Вспомнил отец, как его Паша наряжалась в казачью форму, когда они пасли табуны. Ради шутки она иногда делала это, уже будучи замужем. Но тогда она была похожа на высокого, стройного казака. Теперь же была просто смешна: мужчина не мужчина, а на бабу не похожа. Это понимала Крошечкина, и если бы она ехала не к Осадчему, с кем ей придется говорить как равная с равным, она и не подумала бы надевать брюки и кубанку, а тем более вешать кинжал. Но Осадчий – это все знали – недолюбливал женщин, а особенно Крошечкину, и на ее просьбу может ответить отказом, да еще и нагрубить. Поэтому к Осадчему, как рассудила Крошечкина, лучше всего ехать именно в таком причудливом убранстве.
Стоя перед зеркалом и прилаживая кубанку – закрученная узлом коса сбивала ее на лоб, – Крошечкина думала: «А ничего, вид подходящий».
Нахлестывая о голенище плеткой, Крошечкина твердыми шагами вышла из хаты. «Венгер» поджидал ее у ворот. В седле, счастливо улыбаясь, сидел сынишка Игнат, большеголовый мальчик лет семи.
– О! Уже вцепился, репях! Кто тебя подсадил? Наверно, дедушка?
– А я, мамо, сам подсадился.
– Шустрый! – Крошечкина взяла сына на руки, вытерла у него под носом и поставила на землю. Села в седло и сказала:
– Беги, сынок, на огород к бабушке.
Игнат не ушел. Он стоял, прислонившись к воротам. Удаляющаяся на коне мать плыла в мутной воде и вскоре совсем исчезла – так сильно текли у мальчика слезы.
Под упоительным весенним солнцем степь цвела и молодела. Точно ходил по ней невидимый маляр и все красил и красил. То он клал зеленый мазок на пригорке, то разливал по низине чуть приметные розовые тона, то окрашивал бугор в темно-зеленый цвет. Эта торопливая работа весеннего маляра радовала Крошечкину. Вчера она проезжала мимо кургана. Весь он был черный, сухие былинки на нем зябко дрожали на ветру. Теперь же курган покрылся робкой зеленью. Только на самой его вершине еще лежала пожухлая прошлогодняя трава, и на ней, по-зимнему нахохлившись, одиноко сидел орел. Увидев всадника, орел взмахнул крыльями и поплыл низко-низко. Мимо пронеслась тень, и Крошечкина долго следила за полетом птицы. Она загрустила. Почему-то заныло, запекло в груди. Может быть, орел воскресил в памяти то далекое время, когда она вот так же покачивалась в седле, направляясь следом за табуном. Или весна своим свежим дыханием напоминала ей то недавнее время, когда она с мужем ехала в степь и там, в таборе, жили они все лето. Боль со слезами подступила к горлу. «Явилась и еще одна весна и еще с большим старанием умыла землю, принарядила, приукрасила всякий кустик, каждый бугорок, – думала Крошечкина. – Пышнее прежнего зацвели сады, а Саввы все нет и нет, и кто ж его знает, когда он вернется…»
Мысли ее обратились к мужу, и ей стало и больно и стыдно… «Хорошая ж я после этого жена. Как же трудно жить…» Она задумалась, дав свободу коню, который еле-еле переступал ногами, нагибался, выискивая свежую траву. Вспоминая свою жизнь с мужем, она представила себе Савву таким, каким он был перед войной, степенным, с пепельно-русыми усами. И тут куда-то пропал и «Венгер», и вся степь. Она едет с мужем на возу. Загорается раннее утро. Лучи золотят небо, но над землей солнца еще нет. Степь покрыта слабой тенью и оттого кажется необыкновенно зеленой. Быки давно свернули с дороги и идут по колено в траве, а Савва растянулся на возу, положив голову жене на колени. Высоко-высоко в небе, как точечки на желтой папиросной бумаге, застыли жаворонки. Лучи коснулись их дрожащих крыльев. «Ишь, стервецы, точно на шнурочке привязаны, – говорит Савва, устало жмуря глаза и пряча в усах улыбку. – И до чего ж люблю эту птицу».
– Привязчивые, – сказала Прасковья, разглаживая жесткий чуб мужа. – Вот привяжутся к одному месту и сверлят небо, и сверлят.
– Эти птички, Паша, хорошую примету имеют, – рассудительно пояснил Савва. – Ежели они кружатся над твоей головой – жди, будет тебе в жизни счастье. Кто ж их знает, может, они висят над нами через то, что ты затяжелела и что скоро будет у нас сын или дочка?
Очнулась от дум, нарочно приостановила коня и посмотрела на небо – высокое и синее-синее. Над головой и даже поблизости жаворонков не было, а ей так хотелось, чтобы они были. «Видно, мимо прошло мое счастье, – с тоской подумала она. – Может, его отнял Краснобрыжев? Какая ж я дура несусветная: польстилась на его бороду, пропади ты пропадом. Вернется Савва – совесть меня загрызет. Безвольная и я, как та Сорока…» Жаворонки, как назло, не появлялись, не чернели точечками в небе. «Да разве ж над дорогой они летают? – утешала себя Крошечкина. – Поеду-ка я напрямик через степь».
Конь погрузал в рыхлую почву. Озимые хлеба еще не поднялись от земли, но уже закустились и хорошо скрывали лошадиное копыто. По зеленому массиву, то в одном, то в другом его конце, гусиными стаями белели платки, кофточки – колхозницы пропалывали озимые. Изредка какая-нибудь женщина нарушала строй согнутых спин, выпрямляла онемевшую поясницу, вскидывала кверху руки и снова припадала к земле, догоняя своих товарок.
Подбадривая плеткой коня, Крошечкина перевела взгляд на пахотные поля. По ним уже обозначались черные полоски – свежая пахота поблескивала на солнце, а сотни гектаров вокруг ждали плуга и были серые, как вымоченное полотно. Вблизи дорог расположились, точно чумацкие стоянки, бригадные таборы, дымились костры, белели то рядняные шатры, то бочки с водой.
По пути Крошечкина заехала в бригаду Дуняшки Скозубцевой. Бригадирши не было – выехала в хутор за новыми лемехами. Недалеко от возов рядняными шатрами раскинулись детские ясли. В тени, в окружении детей, сидела моложавая старуха. По загону двигались, удаляясь от табора, три плуга, запряженные девятью парами коров. Коровы шли дружно, уже привыкнув к борозде. «Ничего ходят молошницы», – подумала Крошечкина.
– Здоровэньки булы, бабуся, – сказала она, остановившись возле шатров. – Что это у вас – походные ясли?
– А я и сама не знаю, – ответила нянька, – чи, може, ясли, чи, може, корыта.
– А это чей такой сопливый? – Крошечкина указала плеткой на мальчика, мастерившего что-то совочком.
– Скозубцов Андрюшка, – старуха вздохнула. – И где они у него берутся. Так и текут, и текут. Говорят, это он ума набирается. Видно, умный будет мальчуган.
Напившись воды, Крошечкина повернула на вспаханное поле в сторону кургана. И опять степь всюду густо пестрела людьми. И сколько Крошечкина ни встречала пахарей, сеяльщиков, редко где попадался мужчина или парень-подросток. Всюду работали женщины. И то, что были они торопливы в походке, с обветренными, землисто-черными лицами, и то, что у каждой была поддернута выше колен юбка и наскоро закручена коса, уже слипшаяся от пыли, и то, что одежда на них была будничная и издали одна женщина не отличалась от другой, – все говорило, что в эти дни они забыли обо всем. «Некогда, бедняжкам, за собой посмотреть», – думала Крошечкина.
Конь выскочил на пригорок. Внизу лежала Яман-Джалга, утопающая в цветении садов.
X
Тихон Ильич увидел Крошечкину, когда она рысью ехала через площадь. Стоя у окна, он наблюдал, как всадница подъехала к станичному Совету и, придерживая рукой кубанку, легко спрыгнула на землю, привязала к столбу коня, ослабила подпруги. «Баба-баба, а казачье дело знает», – одобрительно подумал Осадчий. Управившись с конем, Крошечкина одернула полы сорочки, бренча наконечниками пояса, затем вынула из кармана зеркальце и, заглядывая в него, стала поправлять под шапкой волосы. «Ишь чепурится, – Тихон Ильич даже улыбнулся и по привычке погладил плешь на голове. – Эх, что тут ни говори, а баба есть баба и ею будет, хоть ты разодень ее в самое дорогое обмундирование», – подумал Тихон Ильич, не зная, как ему поступить при встрече такого неожиданного гостя. То ли выйти в коридор и тем показать, что ее приездом он очень доволен, то ли сидеть в кабинете, делая вид необыкновенной занятости. В последнюю минуту, когда Крошечкина стучала каблуками по коридору, Осадчий сказал:
– Пойду встречать. А гремит сапожищами, как солдат.
И тут же вышел.
Тихон Ильич любезно подал соседке руку и, приглашая в кабинет, сам открывал дверь, говоря и улыбаясь.
– Соседушка, – сказал он, поглаживая усы и бороду. – Да какой попутный ветер занес тебя в мою станицу? Вот не ждал! Прошу ко мне в апартаменты.
– Какое у вас, Тихон Ильич, культурное обхождение, – в свою очередь любезно сказала Крошечкина, переступая порог. – Прямо по-городскому. Мне даже как-то совестно.
– А чего ж совеститься?
Тихон Ильич предложил гостье стул, а сам сел на свое место и, посматривая на бравый вид соседки, сказал:
– Казакуешь, Прасковья Алексеевна? Это что ж, мужнина одежа?
– Приходится, Тихон Ильич, и казаковать. – Крошечкина насмешливо новела широкими бровями. – Нарочно приехала к тебе не бабой, а казаком, чтоб нам с тобой во всем сравняться.
– Да мы и так же на равных должностях, – вполне серьезно сказал Осадчий.
– Должности-то у нас равны, это верно, да только дошел до меня слух, – Крошечкина сильнее надвинула на лоб кубанку, – слух дошел, Тихон Ильич, что ты на меня большое зло возымел.
Тихон Ильич от этих слов даже встал. Лицо его побагровело, заболело колено, и он вспомнил, как упал с воза, на котором стояла и смеялась Крошечкина. Он хотел было выйти из-за стола, но тотчас раздумал и, не зная, что сказать, начал рыться в ящике с бумагами. Видя его замешательство, Крошечкина улыбнулась и сказала:
– И будто ты ждал меня в гости, чтоб заключить мировую.
– Сказать, чтоб я тебя очень ждал – этого не было, – проговорил Осадчий, роясь в ящике, как бы разыскивая очень нужный ему документ, – но все же желал с тобой повидаться, чтобы поговорить и разом все наши споры кончить.
– Вот я и приехала, – Крошечкина придвинула к столу стул. – Поговорим, побеседуем. Расскажи, Тихон Ильич, как у вас начался сев?
– Помаленьку сеем. А что?
– Я ехала вашей степью и что-то людей не приметила.
– Да ты что, ревизовать меня приехала? Ах, Прасковья Алексеевна, какая же ты все-таки проныра. Людей моих не заприметила?! – Осадчий хотел засмеяться, но из этого ничего не вышло. – Ты ж ехала по левому берегу, а у меня яровые посевы все за Черкесской балкой.
– Казачки тебя не обижают? – спросила Крошечкина, не зная, как ей начать разговор о земле.
– Покудова живем мирно. – Осадчий помолчал. – Правда, есть и у меня одна вертихвостка – Соломниха, будь она неладная. С тебя, Прасковья Алексеевна, берет пример.
– Это как же мне, Тихон Ильич, все это понимать? В хорошую сторону или в плохую?
– Понимай, как хочешь. А только скажу тебе, что Соломниха это такая бабочка, что завсегда лезет, куда ее не просят. И кричит: «Поглядите на Крошечкину!» Да она тебя в глаза еще не видала, а тоже орет. – Тихон Ильич захихикал от удовольствия. – А я вот гляжу на тебя и, убей меня бог, ничего такого не вижу, из-за чего можно крик подымать.
– Тихон Ильич, – спокойно заговорила Крошечкина, вставая, – это ты опять на что намекаешь? В чей огород каменюку бросаешь? Говори прямо, без обиняков.
– А на то самое и намекаю. – Тихон Ильич тоже встал. – Я давно хотел сказать тебе по душам: на своих хуторах властвуй, хоть там на голове ходи, а в мою территорию не вмешивайся. Добром тебя прошу – не лезь в мою станицу со своими порядками. Не послушаешься доброго слова – я пожалуюсь Чикильдиной. Твоя сестрица женщина умная, она нас рассудит.
– Что ж я тебе плохое сделала? Или легла поперек дороги и путь преградила?
– Посреди дороги ты не лежишь – этого еще не хватало! А зачем баб посылала? Зачем в позор вводила?
– В позор? – удивилась Крошечкина. – Да господь с тобой! Да я и не думала.
– Ты, может, и не думала, – перебил Осадчий, – а мне через твои действия в район показаться нельзя, «Крошечкина его обскакала!» И первая твоя сестрица кричит! Куда ж это годится! – Тихон Ильич долго смотрел в окно, а потом снова сел за стол. – Ты перед районом выслуживаешься, в чужую станицу лезешь, а того не видишь, что твои погорельцы живут у меня, в жилье нуждаются.
– Тихон Ильич, – спокойно, но твердо сказала Крошечкина. – Ты погорельцами мне не выговаривай. О них мы не забыли.
Наступило длительное молчание. Обоим казалось, что говорить уже не о чем. Крошечкина поглядывала в окно на «Венгера» и не знала, что же ей делать: начинать разговор о земле или уехать? По насупленным бровям Тихона Ильича, по его суровому лицу Крошечкина видела, что разговор о земельном участке будет безуспешным. «А все-таки так я от него не уеду, – думала Крошечкина. – Дура я, надо было прямо начать с дела».
Тихон Ильич делал вид, что ему теперь безразлично, сидит перед ним Крошечкина или уехала, он уже все ей сказал и теперь углубился в чтение той важной бумаги, которую он наконец нашел в столе. Но так как Крошечкина уезжать не собиралась, Тихон Ильич нет-нет да и посматривал на нее. «И за каким бесом она ко мне пожаловала? – думал он. – Не иначе, опять что-нибудь придумала». Он решительно поднялся и, нарочно желая показать, что больше разговаривать не намерен, стал собирать в матерчатый портфель бумаги, засовывая их поспешно, как бы боясь куда-то опоздать.
– Тихон Ильич, – ласково, как только умеют говорить женщины, сказала Крошечкина. – Торопишься куда-нибудь?
– А как же не торопиться? – не отрываясь от дела, сказал Осадчий, думая о том, что хорошо бы сейчас сходить к Анастасии и попить чаю с медом. – Как же не торопиться? Время такое.
– Эх, Тихон Ильич, – горестно сказала Крошечкина, – веришь, как мне хочется жить с тобой в мире да согласии.
Тихон Ильич насторожился, но голову не поднял.
– Давно бы так, – буркнул он, думая об Анастасии. – А что ж тебе мешает?
– Боюсь, не уважишь мне одну просьбу и через это рассоримся мы навеки.
– Смотря по тому, какая это будет просьба, – Тихон Ильич отложил в сторону портфель и сел, желая выслушать просьбу. – Говори, что там ты придумала?
– Дай слово, что ты уважишь, тогда скажу.
– Да что ж это за дипломатия? Ты сперва сообщи свою просьбу. Может, ты такое загнешь… Я ж тебя знаю. – Тихон Ильич даже чуточку засмеялся. – Дело известное, у баб разные бывают просьбы. Может, я по старости лет неспособен…
– Тихон Ильич, дурачиться не надо, – строго сказала Крошечкина. – Я шутить не умею. В Черкесской балке у тебя есть стансоветский участок земли. Говори: есть?
– Имеется. А что ж такого? Земля эта не секретная.
– Сколько там гектаров?
– Пятьдесят пять. А на что тебе эти данные?
– Отдай эту землю мне. На один сезон.
Тут Тихон Ильич быстро встал, потянул к себе дрожащей рукой портфель и растерянно посмотрел на гостью.
– Как же мне понимать твои слова? – сказал он, сжимая под мышкой портфель, как будто именно в нем лежал сейчас земельный участок. – Что ж это игрушка? Взял из кармана и отдал. Ты прямо шутница, – и он с трудом засмеялся.
– А я говорю взаправду. Отдай землю, не жадничай. Пятый год она у тебя пустует. Не будь, Тихон Ильич, как та собака, что лежала на сене.
– Ты меня собакой не оскорбляй! – вспыхнул Тихон Ильич. – Я тебе не в собаки гожусь, а в отцы.
– Пустует же золотая земля!
Тихон Ильич увидел спокойное, улыбающееся лицо Крошечкиной и тоже, стараясь не волноваться, сказал:
– А знаешь, сколько мы в прошлом году накосили там травы? А какая трава!
– И в этом году намерен косить траву? – допрашивала Крошечкина.
– И намерен! – закричал Осадчий. – А твое тут какое дело? Что ты мне указуешь?
Крошечкина сдвинула рукой кубанку на узел косы и зло посмотрела на Осадчего.
– Я тебе не указую! – сказала она громко. – А скажу прямо: на этой земле сенокоса больше не будет. Мы засеем там ячмень для Красной Армии.
– Кто ж это «мы»? – на лице у Тихона Ильича выступили синие прожилки.
– Казачки – вот кто!
– Ах ты, едят его мухи с комарами, какие нашлись смельчаки!
Тихон Ильич хотел было засмеяться, чтобы этим придать вес своим словам, но увидел горящие гневом большие глаза Крошечкиной, сильнее прижал портфель и захромал к двери. Распахнув дверь, он сказал:
– Прасковья Алексеевна, прошу: вот бог, а вот порог. Уходи, пока я еще в своем чувстве. Не доводи меня до потери сознания, бо я дюже злой!
– А я и не собираюсь у тебя оставаться, – сказала Крошечкина, с достоинством выходя из кабинета и на ходу поправляя пояс. – На шута ты мне нужен. А землю мы засеем. Помяни мое слово.
Крошечкина хлопнула дверью и, громко стуча каблуками, сошла вниз. Пока Тихон Ильич нахрамывая выбежал на крыльцо, Крошечкина уже вскочила на коня и уехала. Осадчий с тоской провожал удаляющуюся соседку и ругался: «Моим зерном и будет засевать мою землю. Ах ты, горе, а не баба! Да еще грозится. И кто ж грозится? Баба в штанах. Кинжаляку нацепила. Тьфу на тебя!»
Он видел, как Крошечкина сняла кубанку, чуть наклонившись вперед, погнала коня в галоп, и коса ее, до этого слабо закрученная, распустилась и укрыла всю спину. «Тьфу ты, – плевался Осадчий, – карикатура на коне. А землю засеет, ей-богу, засеет. Надо скакать в район с жалобой. Вот задала задачу».
Тихон Ильич еще долго стоял на крыльце и рассуждал вслух, а Крошечкина, думая о желанном участке земли, тем временем выехала за станицу, спустилась к реке и напоила коня. После такого разговора она хорошо знала, что Осадчий непременно пожалуется в район, а пока там будут разбирать его жалобу, времени пройдет немало и ячмень сеять будет поздно. По ее расчетам, ячмень надо посеять через неделю. Этому как нельзя лучше благоприятствовала и погода. На западе собирались грозовые тучи. Иссиня-черной грядой они двигались прямо на Черкесскую балку, и по запаху теплого, идущего навстречу тучам ветра Крошечкина почувствовала, что к вечеру выпадет дождь. «Вот бы успеть вспахать, да прямо в дождь и посеять», – думала она, пустив коня на рысь. Но в голову лезли другие мысли: «А если в районе начнут разбирать жалобу? Разве взять это дело танковой атакой?» – Она вспомнила Ирину Коломийцеву, танк и рассмеялась.
– Возьмем! В два дня сделаем.
Погоняя коня, Крошечкина думала о том, сколько надо борон и сеялок, чтобы вслед за тракторами в один день засеять пятьдесят пять гектаров. По ее расчету, требовалось не менее сорока пяти борон и сорока сеялок. Прикинув в уме, сколько потребуется взять сеялок и борон с каждого колхоза, она решила теперь же ехать в бригады, разыскать там председателей и обо всем договориться.
Краснобрыжев, выслушав ее, пообещал на рассвете быть в Черкесской балке с восемью сеялками. Настенька Давыдова, поля которой были по соседству с Черкесской балкой, сказала, что выедет всем колхозом. Не могла Крошечкина разыскать Герасима Ильяшенкова (он выехал в район) и решила заехать к Дуняше Скозубцевой.
Бригада только что расположилась на обед. Дети выскочили из шатров и разбежались каждый к своей матери. Дуняша держала Андрейку на руках, когда невдалеке от нее показался всадник, блестя чеканкой серебра на кинжале. Крошечкина подъезжала к стану, и Дуняша, узнав ее, пошла навстречу.
– Дуняша, – сказала Крошечкина, не слезая с коня. – Никак не могу разыскать Герасима. Хочу тебе наказ сделать: как приедешь домой, передай Ильяшенкову, чтоб завтра на рассвете прислал в Черкесскую балку десять борон и восемь сеялок.
– Коров или быков запрягать?
– Можно и коров, можно и быков. Только ты не забудь сказать.
По дороге зашлепали крупные капли. Вспыхивала серым дымком пыль, точно ее клевали пули. Крошечкина пришпорила коня и ускакала навстречу грозе.
XI
Давно пришла весна, а Таисия так и не могла решить, что ей делать и как дальше жить. Уехать ли в Баку и начать там, как писала подруга, «веселую жизнь молодой вдовы», или же послушаться сестры и остаться в Садовом. Жизнь в большом городе, среди незнакомых ей людей, рисовалась в расплывчатых, неясных тонах и то манила к себе, то отталкивала. Хотелось хоть на время забыться, уйти от горестных мыслей о муже. Письма подруги пугали ее своим слишком игривым топом, и Таисия боялась, что не сумеет быть «веселой вдовой». Но и жизнь в Садовом не радовала ее. «Ну, допустим, поеду я в Садовый, буду заведовать клубом, – думала она, сидя на кровати. – А потом что?»
Не одну ночь после разговора с сестрой Ольгой Таисия провела без сна, все думая о том, куда же ей склонить свою голову. И только вчера, проснувшись поздно, решила готовиться к отъезду. Встала с постели, когда в доме давно никого не было. Умывалась неохотно. Небрежно, кое-как причесала волосы. Открыла окно в палисадник. Повеяло запахом молодой травы и свежестью вскопанной земли. По влажной, глубоко взрытой лопатой почве ходили куры, старательно выискивая червей. Кусты сирени лезли в окно, на еще голых ветках обозначились розовые кисти цветов. «Зацветет сирень, закроет все это окно, а меня здесь уже не будет». Таисия прикоснулась губами к влажным и липким бутонам, и сердце ее сжалось от боли. Она отошла от окна, вынула из-под кровати запыленную корзину.
Перед тем как ехать к сестрам, сложила она в эту корзину кое-какие наряды и с той поры, вот уже скоро два года, не прикасалась к ним. «Ну вот теперь пригодятся и платья, и шляпы, и чулки», – думала она, открывая замок. Подняла крышку и долго стояла, не решаясь ни к чему притронуться рукой.
В комнату вошла Секлетия. Юбка на ней была по бокам поддернута так высоко, что крепкие ее ноги оголились выше колен. Кофточка без рукавов. Голые, толстые руки были испачканы свежей землей.
– Встала наша барыня? – спросила она с упреком. – Есть хочешь?
– Что-то нет аппетита.
– Да где ж ему взяться? Спишь до обеда. – Секлетия сокрушенно покачала головой. – Ох, сестра, сестра, отвыкай от сна, а то плохо тебе будет. Ты не какая-нибудь панночка. От одной мы матери.
– Я знаю. – Таисия захлопнула крышку корзины. – А еще что скажешь?
– И чего ты сердишься! Что ты – одна в таком горе, что ли? Разве один твой Андрей погиб, а остальных и пули не берут? Да мой Афанасий тоже не пишет. Так что же мне теперь – сидеть и плакать? – Секлетия стерла пальцем землю ниже локтя и грустно посмотрела на сестру. – Ты знаешь, я тебе не чужая тетка, а родная сестра, и скажу прямо: забывай свою интеллигузию да берись за дело. Вот оно сразу и полегчает. Я так понимаю, что работа есть лучшее лекарство от сердечной болезни. Пойдем со мной на огород. Будем лук сажать. Пороешься в земле, погнешь спину, вот и аппетит придет. А вечером, как приложишь подушку к щеке, так и заснешь, даже не услышишь, как и ночь пройдет.
– Спасибо за совет, – равнодушно проговорила Таисия, снова открыв корзину и склонившись над ней. – Только я уже завтра уеду в Баку и прошу не печалиться обо мне.
– Ну, как знаешь, – Секлетия тяжело вздохнула. – Ты не маленькая.
Секлетия с укором посмотрела на сестру и вышла. А Таисия вынула из корзины платье и прикинула к себе. Шелк был смят, и от него несло слежавшимся запахом нафталина. Таисия любила это платье небесного цвета. Когда она надевала его, оно точно воспламенялось на ярком дневном свете. Таисия нарочно подошла к окну, растянула шелк на груди, но он уже не блестел, как прежде, и это ее огорчило. «Все стареет», – подумала она и взяла из корзины платье кремовое, внизу узкое, с большим вырезом на шее. Она примерила и это платье, но и оно показалось ей и тусклым и не модным. Платье было брошено на лавку. Таисия склонилась на подушку и заплакала.
Отворилась дверь, и в комнату на цыпочках вошла Аксюша – внучка деда Корнея. Таисия вволю наплакалась, ощущала горячей щекой мокрую подушку. Слышала, как кто-то открыл дверь, но вставать ей не хотелось. А девушка остановилась у порога и только развела руками. Ее испугала открытая корзина и разбросанные по комнате платья. Осторожно, как бы боясь оступиться, Аксюша подошла к кровати.
– Тетя Тая, – сказала она шепотом, – что это у вас тут было?
Таисия не ответила.
– А меня послала к вам тетя Секлетия, – уже громко сказала Аксюша. – Велела передать, если будете есть, так чтобы взяли в погребе молоко. Хотите, я сама сбегаю?
– Нет, молока мне не надо, – проговорила Таисия, не подымая головы.
– Тогда я уйду на огород.
– Погоди, Аксюша. – Таисия встала и обняла девушку. – Не уходи. Помоги мне хоть ты. Ведь ты такая веселая. Скажи, уезжать мне или оставаться у вас? Только говори, что думаешь.
– Что я думаю?
– Вот-вот, что думаешь. – Таисия оживилась, и губы ее болезненно улыбнулись.
– Уезжайте.
– Почему же? – удивилась Таисия и покраснела. – А я думала, что ты тоже скажешь, чтобы я не ехала.
– А зачем вам оставаться? – лицо Аксюши сделалось строгим. – Вы хоть и родились в Садовом, а уже отвыкли от здешней жизни. А жизнь у нас, сами видите, какая. Трудная. Работы много. Красота быстро портится.
– Ну вот ты и работаешь, и красивая?
– Так то ж я! Мне работа не страшна. Привыкла. У меня и покойная мама была еще красивее меня, и она тоже никакой работы не боялась. А вот вам… – Аксюша не договорила и застенчиво опустила глаза.
– Только поэтому мне надо уезжать?
– Еще и по-другому, – не подымая головы, проговорила Аксюша. – Вы такая скучная. Всё книжки читаете. Значит, вам надо уезжать и искать себе место.
– Научи, Аксюша, как же мне жить? Давай посидим, поговорим.
– Сидеть мне некогда, надо грядки делать, – сказала Аксюша и все-таки села, прикрывая коротенькой юбкой колени. – Чему ж я вас научу? Интересно!
– Ну хоть что-нибудь посоветуй, – просила Таисия. – Ты такая умница.
– А вы часто плачете?
– Иногда.
– А вы не плачьте, – серьезно сказала Аксюша. – Плакать не будете, вот и повеселеете.
– Горе большое, – задумчиво проговорила Таисия.
– А мы вчера весь вечер танцевали. – Аксюша прижалась к уху Таисии и зашептала: – А еще я вам открою тайну. Никому не говорите! Скоро будет у нас настоящее веселье.
– Какое же это будет веселье? – участливо заговорила Таисия. – Новый хутор будете строить?
– Нет, что вы! Хутор – это само собой. Хутор построим еще не скоро. Только вы никому не скажете?
– Что ты, милая, конечно, не скажу.
– Тогда я вам сознаюсь. Скоро будет свадьба, – лицо девушки сияло той девичьей пристыженной радостью, которую Таисия хорошо знала. – Вы, может, слыхали про Володьку Склярова, бригадира молодежной бригады? Так вот он и есть мой жених. Обещал свататься на этой неделе. Только это еще секрет.
– Я понимаю. – Таисия задумалась и тяжело вздохнула. – Вы уже небось давно любите друг друга?
– Давно. Уже с месяц. – Серые глаза Аксюши смеялись. – Тетя Тая, не уезжайте! Побудьте у меня на свадьбе, тогда и уедете.
– Не знаю; может, и останусь. – Таисия участливо посмотрела на румяное, красивое лицо Аксюши. – Счастливые. А сколько ему лет?
– А я и не знаю. – Аксюшу рассмешил этот вопрос. – Володя, наверное, старше меня, а только в армию его еще не берут. Военный билет он получил давно. – Она снова рассмеялась. – Я ему говорила: отслужишься, война кончится, тогда и поженимся, а он настаивает на своем. «Тогда, говорит, поздно будет. На войне меня, говорит, могут убить. Я, говорит, отчаянный». Вот он какой!
– Аксюша, милая, – Таисия обняла девушку. – Подожди, не выходи замуж. Не дай бог, останешься, вот как я… Это так тяжело.
– Так его не убьют. Это он меня только пугает. – Аксюша смутилась. – И если б я его не любила! А то я уже дала согласие.
– Ну хорошо, хорошо, – торопливо заговорила Таисия. – Я только так сказала. А подвенечное платье у тебя есть?
– Нету, – тихо проговорила Аксюша, посмотрев на свою старенькую юбку. – Все, что мама купила мне до войны, сгорело, когда немцы жгли наш хутор. Так все одно мы венчаться не будем. Только зарегистрируемся.
– Без красивого платья нельзя. – Таисия подошла к корзине и долго смотрела на свои наряды, как на что-то чужое и ненужное. – Возьми мое. – Она поднесла к оторопевшей Аксюше кремовое платье. – Для невесты самый хороший цвет. Да бери! Чего ты так испугалась? Возьми, ты в нем будешь как игрушка.
– Как же это? А вам? – Аксюша спрятала руки за спину, как бы боясь, чтобы они сами не потянулись к платью.
– У меня есть другие. Видишь, в корзине, – спокойно сказала Таисия, а в голову лезли мысли: «Зачем мне теперь эти наряды? Я поеду в Садовый…»
– Да это такое платье… Оно городское. – Аксюша встала и отошла к дверям. – В нем будет совестно.
– Ничего не совестно. И еще возьми. – Таисия нагнулась над корзиной. – Вот это серенькое. И еще чулки. Туфли тоже возьми. – Она достала со дна корзины флакон духов. – Вот и духи. Для невесты и жениха. «Красная Москва», муж еще до войны из Москвы привез.
Таисия прижала флакон к глазам, и Аксюша увидела между ее пальцами слезы. Ни к чему не притронувшись, девушка выбежала из комнаты. Потом она вернулась, но не одна, а с дедом Корнеем. Таисия все еще стояла посреди комнаты, прижав флакон к мокрым глазам. Непонимающе глядя на старика, она через силу улыбнулась и сказала:
– Дедушка, у вас не выучка, а дикая коза. Я ей вот это даю, а она не берет.
– Стыдливая девчушка, – заговорил старик. – Да у нас и грошей нема. Такое не по нашему карману.
– Зачем деньги? Это подарок!
Дед Корней задумчиво погладил бороду, пристально посмотрел на платье и рассудительно сказал:
– Ежели в подарок, то мы с благодарностью примем. Возьми, Аксюша, да поблагодари тетю.
Аксюша бережно взяла платье, туфли, чулки, прижала все это к груди, и серые ее глаза вдруг наполнились слезами. Она хотела что-то сказать, но застыдилась своих слез и выбежала из хаты.
– Ишь ты, попрыгунья, – сказал ей вслед дед Корней. – И впрямь коза! А глазенки всплакнули. Видать, мать вспомнила. А ты теперь как же? – обратился старик к Таисии. – Останешься с нами или уезжаешь?
– Еду в Садовый работать культурницей, – сказала Таисия так просто, как будто такое решение было принято ею давным-давно. – Крошечкину знаете? Мою сестру?
– А как же! Знаю. Видать не видал, а слыхать слыхал. Говорят, геройская баба!
– Вот я к ней и еду.
И Таисия решила пойти к сестре Ольге. Оделась попроще. Попросила у Антонины ее широкополую кофту, повязалась ее большим, вязанным из шерсти платком. Посмотрела в зеркало и улыбнулась. На нее смотрела гордая баба с надутыми щеками. «Вот я и казачка, – подумала она, поправляя под платком волосы. – Боюсь, что Ольга меня не узнает…»








