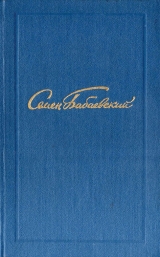
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 1"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
VI
Близился рассвет. Настенька решила позоревать в дороге, на мешках, и разбудила Акулину, спавшую на возу. Под влажной от дождя полостью, куда забралась Акулина, было тепло.
– Настенька, и где ты так долго пропадала? – зевая, спросила Акулина. – Ждала, ждала.
– За женихами бегала.
Такой ответ озадачил Акулину. Сбросив с себя тяжелую полость, она опустила голые до колен ноги на дышло и заговорщически спросила:
– И как? Споймала хоть паршивенького женишка?
– Неудача. Был там один подходящий, по фамилии Осадчий, так он чересчур в Крошечкину влюблен. Жить, говорит, без нее не могу.
– Да ну?!
– Вот тебе и ну! Давай быстрее собираться, попоим быков и поедем.
Возле ярма валялись объедья. Услышав голоса возниц, быки неохотно поднялись, потягивались, сопели шумно, точно где-то поблизости работали кузнечные меха. Акулина взяла с воза ведро, принесла из колодца воды. Быки пили лениво, со свистом и чмоканьем втягивая воду сквозь сжатые губы. «Шею, шею, ну шею, – ласково говорила Акулина, поддерживая на коленке ярмо и хватая рукой теплый бычий рог. – Ну, ну, не балуй – шею! Не хочется в ярмо? Ну, а ты, клещеногий? Иди, иди – не хмурься…» Быки, как бы понимая Акулину, покорно нагнули шеи с затвердевшими холками, разом звякнули занозы, и воз тронулся.
На востоке небо светлело. Робко занималась заря. Рядом с дорогой, на жухлой, прошлогодней траве, блестела роса. Воз покачивало. Настенька лежала на мешках, смотрела на меркнувшие звезды, на белое, с розовыми отливами небо и уснула. Проснулась, когда воз остановился возле хуторского Совета. На крыльцо, обращенное к улице, вышла Крошечкина, без платка, в накинутой на плечи старенькой шинельке. Солнце слепило ей глаза.
– Наконец-то явились, пропащие! – сердито сказала она, прикрывая ладонью глаза. – Где пропадали? Вас не за семенами посылать, а за смертью – вволю можно нажиться!
– Быки приморились, – сказала Настенька, сойдя с воза. – Пришлось заночевать в Яман-Джалге.
Быстрыми, твердыми шагами Крошечкина подошла к возу, сдернула на землю полость.
– Что привезли? – Заслезившиеся от солнца ее большие серые глаза от удовольствия сожмурились. – Вижу, вижу – ячмень. Добре, девчата.
– Шесть мешков. Есть и кукуруза.
– За ячмень спасибо. – Прасковья развязала один мешок и набрала горсть семян. – Какой же это сорт? А? Шестигранка! Хороший ячменек. Значит, завтра начнем сеять.
– А не рано? – усомнилась Акулина. – Еще земля сырая.
– Эх ты, хлеборобка! А знаешь, что умные люди говорят: сей ячмень в грязь – будешь князь.
– Паша, – заговорила Настенька, подходя к Крошечкиной. – На тебя председатель Яман-джалгинского Совета зуб точит.
– А! Тихон Ильич! Пусть точит. Я еще хочу приарендовать у него земли гектаров тридцать под ячмень. У него в Черкесской балке второй год пустует такая землица, что если посеять там ячмень…
– Не согласится Осадчий, – сказала Настенька.
– А ты почем знаешь? Говорила с ним?
– На собрании у них была. Досталось тебе от Осадчего.
– Как ты туда попала?
– С твоей сестрой.
– С Ольгой? – удивилась Крошечкина. – Вот так сестра! Мимо пролетела и не заглянула. Хоть бы к отцу с матерью заехала. Крошечкина задумалась, мрачно сдвинув брови. – Яман-джалгинские бабы меня ругали?
– Не слыхала.
– С бабами нам ссориться грешно. – Крошечкина облегченно вздохнула. – Вот что, агитаторши, за зерно вам спасибо. Сгружайте его в амбары, а я съезжу к Афанасию Краснобрыжеву. Посмотрю, как его колхоз готовится к севу. Сводки присылает хорошие, да только сводкам я что-то не верю.
– Паша, милая, – Настенька обняла Крошечкину и зашептала на ухо, волнуясь и краснея, – может быть, тебя любовная сводка интересует?
– Тю! Малохольная дура! – обиделась Крошечкина и тоже покраснела. – Да ежели я захочу найти себе казака, так не беспокойся, я к нему не поеду. Сам ко мне пожалует. О Краснобрыжеве я и не подумала. У него там своих ухажерок полон хутор.
– На чем поедешь? – спросила Настенька серьезным тоном. – Запрячь тебе линейку?
– Не надо. Попрошу «Венгера» у отца. На коне быстрее.
От Садового вверх по Кубани извивалась проселочная дорога. Крошечкина подбадривала ногой «Венгера», покачиваясь в седле. Перед ней лежала речная пойма, курчавился пепельно-сизый кустарник. За Кубанью – серое, с клочками уцелевшего снега взгорье.
Много лет тому назад Алексей Чикильдин, высокий и сухой казак, пас здесь конские табуны. Дочь его Паша подросла, бросила школу и попросилась, чтобы отец взял ее с собой к табунам. Чикильдин обрадовался желанию дочери – может, хоть эта будет ему помощницей. Сын Кондрат служил в армии, Ольга уехала в Краснодар. Секлетия и Антонина вышли замуж и уехали к мужьям на хутор Грушка. На Таисию отец не надеялся – эта непременно улетит, как только подрастет и оперится. Вся надежда отца на Пашу. Девочка рослая, большеголовая, с такими же крупными, как у отца, глазами и с ухватками задиристого мальчугана. Она сразу полюбила пастушечью жизнь, горы и безлюдье, топот конских копыт, проливные дожди с раскатами грома. Отец не ошибся в своих ожиданиях. Паша свободно ездила на коне, пуская его в галоп по горной, опасной дороге, умела варить суп, строить шалаш и, что особенно порадовало отца, научилась петь те же протяжные, грустные песни, которые любил напевать и он.
Шли год за годом. Однажды летом отец с дочерью перегоняли табун и попали в проливной дождь. До нитки промокшее Пашино платье обтягивало ее стройное тело. Вблизи леса облюбовали стоянку. Паша слезла с коня. Отец подошел к ней и удивился – дочь сравнялась с ним ростом. Чикильдин сооружал шалаш, подсчитывал года, и сколько он ни прикидывал в уме, Паше выходило семнадцать лет. Когда шалаш был готов и накрыт хворостом и брезентом, Паша вошла в него и сказала: «Батя, вы не заходите, я буду переодеваться». Отец улыбнулся в усы – не заметил, оказывается, табунщик, как его дочь стала взрослой. «Пора бросать это бродяжничество по горам да прибиваться к людям, – решил Чикильдин. – Дочка уже невеста, надо и о ней подумать».
В тот год в Садовом был организован колхоз, и Чикильдин стал в нем конюхом. Паша работала дояркой, подружилась с девушками, ходила с ними на вечеринки, чувствуя себя среди них, как взрослый среди детей. Физически сильная, она не боялась хуторских парней, и за это ее еще больше уважали подруги. Если парень обижал какую девушку, Паша заступалась за нее, и нередко дело кончалось дракой. Как-то на вечеринке к ней подошел Савва Крошечкин, красивый, чубатый парубок, зимой и летом носившим кубанку с красным верхом.
– Чикильдина, – усмехаясь, сказал он, – давай силой померяемся!
– На кулачки хочешь? – сдерживая улыбку, спросила Паша.
– Нет, не на кулачки, а на силки. Вот так. – Савва взял ее за руки выше локтей.
Паша рванулась, но Савва сжал ее руки своими крепкими пальцами, точно клещами.
– Пусти, Савва, – сказала она, чувствуя не злость и не обиду к этому смеющемуся парню, а какую-то еще незнакомую ей, пугающую радость. – Пусти, ну что ты, Савва!
В тот вечер Савва проводил Пашу домой, а осенью во двор Чикильдиных пришли сваты. Подруги уговаривали не выходить замуж за Крошечкина. Советовали выйти за Ивана Богатырева, который до этого два раза присылал сватов и оба раза получал отказ. «Разве ж к твоей фигуре подходит эта фамилия? – шептали на ухо подружки. – Девушка ты что надо, рослая, сильная, а тебя будут называть Крошечка? Как насмешка. Выходи за Богатырева – и фамилия красивая, и он парень славный…»
Паша не послушалась подруг.
VII
Под горой показались строения. Старой, потемневшей от времени черепичной крышей виднелся квадратный, как улей, дом колхозного правления. К самому дому примыкал запущенный и еще голый сад.
Крошечкина привязала к яблоне коня и поднялась по каменным ступенькам. На пороге ее встретила излишне располневшая, невысокого роста казачка с ведром и мокрой тряпкой в руках, с остроносым, напомаженным лицом. На узком лбу, украшенном рыжими завитушками, появились морщинки, приподнялись брови – нет, это были, конечно, не брови, а старательно выщипанные и окрашенные угольком тончайшие ниточки. Уголек стерся, и на теле остались лишь сизые следы. «Перестаралась бабочка насчет красоты», – осуждающе подумала Крошечкина.
– Где Афанасий Кузьмич? – спросила она.
– Это ты про Краснобрыжева пытаешь? А на что он тебе понадобился?
– Так вот и понадобился. Дело есть.
– Какое ж такое дело?
– А такое, какое оно есть. Тебе-то зачем знать?
– А ты кто такая будешь? – казачка поставила ведро. – Не любовница его?
– Ах, вот о чем твоя печаль. Не бойся. Я Крошечкина Прасковья.
– Вот ты какая! А у нас такое говорят о тебе… А меня звать Даша. Дарья Сорока.
– Что ж тут обо мне говорят, Даша?
– Будто ты на мужика похожа… и ходишь в шароварах.
– Глупости говорят. – Крошечкина тронула плеткой ведро. – Так где ж будет Краснобрыжев?
– Не скажу. – Даша улыбнулась, поправила завитки на лбу. – Не велено говорить.
– Что он тебе – муж, что так ретиво его оберегаешь?
– Афанасий Кузьмич попросили меня, – Даша засмеялась притворно-веселым смехом. – К нему ж разные бабы шаблаются – беда! – Ее веселое настроение вдруг сменилось грустью. – Я тут уборщица и посыльная. Работа, сама знаешь, бесприбыльная, не то, что в поле, а все ж таки каждый день вижу его и мне легче живется.
– Полюбила или дурачишься? – со свойственной ей прямотой спросила Крошечкина.
– Забротал он мое сердце, – наклонив голову, тихо сказала Даша. – Только ты ему не говори, а то он рассерчает и сошлет меня в полевую бригаду.
– Вот ты через это и дура! – Крошечкина хлестнула плетью. – Любишь, а сказать ему боишься. Спала с ним?
– Ой, что ты! – Даша счастливо улыбнулась. – Только мечтаю. Я ж люблю его одним сердцем, тайно.
– И опять ты дура! Где ж твоя бабская гордость? И это… брови повыдергивала, испаскудила себя тоже ради него?
– Они у меня от природы такие. Я их только малость подровняла. – Даша оживилась, глазенки ее заблестели. – И, знаешь, через эти брови Афанасий Кузьмич нет-нет да и взглянет на меня. Так, знаешь, ласково, и бороду погладит и улыбнется. А раньше и не улыбался!
– Эх, горе, горе нам, бабам, – вздохнула Крошечкина. – Видно, какие мы есть от природы полоумные, такие уже и помрем!
– И ты влюбилась? – доверительно спросила Даша.
– Еще бог миловал! Пока еще голова не закружилась.
– Закружится, – уверенно сказала Даша. – Видно, характер у тебя крепкий.
– И рада б влюбиться, да только меня мужчины боятся. А куда ж ты все-таки запрятала Краснобрыжева?
– Тебе открою тайну. – Даша подвела Крошечкину к окну. – Видишь, стоит хатенка? Афанасий Кузьмич там семена проверяет. С утра закрылся и сидит. Я уж к нему ходила, стучала, – не пускает.
На окнах и на лавках жарко натопленной хатенки стояли ящики с черноземом. Одни были покрыты кустистой зеленью, другие – игольчатыми росточками. Краснобрыжев наклонялся над ящиком, разрывал сырую землю и осматривал тончайшие ниточки корешков. Это был худощавый мужчина лет сорока, с умными темными глазами и смолисто-черной, без единого седого волоса небольшой бородой. Он был без пиджака, рубашка расстегнута, серые широкие штаны вобраны в голенища сапог. Когда он, вытирая руки о тряпку, подошел к следующему ящику, в дверь постучали. «Афанасий, открой! Это я – Крошечкина!» Услышав знакомый голос, Краснобрыжев пошел открывать дверь, чуть прихрамывая, – еще в детстве упал с воза и повредил ступню. Из-за хромоты в молодости от него отказалась невеста, и это его так огорчило, что он больше не решался свататься.
– Прасковья Алексеевна! – весело сказал он, пропуская Крошечкину в дверь. – Паша! Дорогая! Рад, очень рад!
– Рад ты или огорчен, а только добраться к тебе невозможно, – с упреком сказала Крошечкина.
– Это почему ж?
– Бабы у тебя чересчур бдительные. Боится, как бы какой коварный враг не проник к тебе в сердце.
– Прасковья Алексеевна, не бери грех на душу, – пряча в бороде улыбку, сказал Краснобрыжев. – Зачем же лишнее наговаривать на наших баб? Может, какая из них и поглядывает на мою бороду, так бог с ней, с этой красоткой. Не хочу перед ее мужем грешить.
– Ах, поглядите вы на него, какой праведник объявился на земле! – Крошечкина сорвала росток ячменя, положила его на ладонь и села на лавку. – Ну, Афанасий, шутки шутить нечего. Сядь рядом, смотри мне в глаза и говори: надоела я тебе? Говори правду, я в обморок падать не буду, а знать правду хочу. Ну?
– Паша, милая, что за допрос?
– Не хитри, Афанасий, не прикидывайся дурачком. Меня не проведешь.
– Да я и не подумал обманывать или хитрить.
– А что это за кралю с выдерганными бровками приютил возле себя? Ну, чего голову опустил?
– Это ты про Дарью Сороку?
– А хоть бы и про нее? Афанасий, не крути ус, не усмехайся.
– Ревнуешь, Паша? – Осторожно положил руку на плечо Крошечкиной, заглянул ей в глаза. – Побаливает сердечко?
– Что я тебе, каменная? – Она смотрела на него, а в глазах ее показались слезы. – Убери руку!
– Ну не серчай, Паша. Дарья Сорока – это же уборщица и рассыльная при правлении. Несчастная женщина. Вижу, чепурится, прихорашивается, сажей брови мажет, щеки красит. Смотреть тошно!
– А ты знаешь, для кого эта твоя «несчастная» все это проделывает? А я скажу! Для тебя.
– Ну я же не могу ей запретить?
– Можешь! – твердо сказала Крошечкина. – Не держи возле себя, а отправь ее в поле. Женщина при здоровье, от жиру бесится, а ты ее в рассыльных держишь. Что, или мальца нету на эти побегушки?
– Да я как-то об этом не подумал.
– А подумал ты о том, что она тебя любит, как кошка?
– Думал и догадываюсь, – робко отвечал Краснобрыжев, – да только я – то тут при чем? Пусть любит себе на здоровье. Мне-то какое дело до этого?
– А такое твое дело, что не держи возле себя эту Сороку в юбке. Ох, не зли меня, Афанасий, не зли, не делан из меня черта. – Крошечкина нагнулась к ящику и ладонью погладила упругие, как щетка, ростки ячменя. – Мучитель бородатый, и где ты взялся на мою погибель. – Не переставая гладить зеленую щетку, она чуть слышно спросила: – Когда ж приедешь в Садовый?
Ответить Краснобрыжев не успел. Скрипнула дверь, и на пороге бледная, взволнованная появилась Дарья Сорока.
– Ну и как всхожесть? – увидев Сороку, строгим, деловитым тоном спросила Крошечкина. – Есть надежда?
– Как видишь, – в тон ей ответил Краснобрыжев. – Зерно такое, что только брось его в землю, так оно в три дня покроет пашню зеленой шубкой.
– Верно, всходы хорошие. – Крошечкина искоса поглядывала на Сороку. – А как люди? Сколько выедет плугов и сеялок?
– Хвалиться не буду, лучше пойдем на хозяйственный двор – сама посмотришь. Думаю, что сеять будем не хуже, чем до войны.
– Афанасий Кузьмич, вас по телефону разыскивала Чикильдина, – плачущим голосом сказала Сорока. – Просила, чтобы вы ей, Афанасий Кузьмич, вечерком позвонили в Родниковую Рощу.
– Ладно, ладно, иди, Дарья. Могла бы и после сказать.
Бригадный двор – посреди хутора. Брички выстроились в ряд, одни нагружены плугами, боронами, другие – бочками с водой. Шесть сеялок сцеплены одна за другую новыми, чисто оструганными дышлами. У надворных корыт стояли быки, лошади. Старик шорник чинил хомуты, паренек с огненным нечесаным чубом лежал под сеялкой и привинчивал гайки. Молодая женщина несла на плечах, как бусы, железную цепь.
– Афанасий Кузьмич! – крикнула она, увидев Краснобрыжева. – Посмотрите, какие я раздобыла монисты! Пять пар можно цугом запрягать.
– Добро, добро, Аксюша, – ответил Краснобрыжев. – Где ж ты такую нужную вещь отыскала?
– На огороде у Кисляковых! В траве лежала.
– Ты ее пока спрячь. Нет, не на воз, а отнеси в кладовую. Да скажи кладовщику, чтобы заприходовал по книге.
В сторонке – амбары, тучи голодных воробьев и глухой шелест триера. Женщины очищали ячмень. Готовое к посеву зерно насыпали в мешки.
– Кузьмич, мешки можно на воз складывать? – спросила долговязая женщина с плоской грудью, держа в зубах шпагатовую веревку.
– Кладите, на зорьке поедем в поле, – сказал Краснобрыжев и захромал к бричкам.
Деловито кивнув головой, долговязая собрала в узел края доверху набитого зерном мешка и умело, быстро, одной рукой обхватила узел веревочкой и завязала. С улыбкой на усталом щербатом лице посмотрела на Крошечкину и сказала:
– Прасковья Алексеевна, ты води, води нашего преда, да только, смотри, юбку ему не показывай.
– А что, разве жалко? – смеясь и краснея, спросила Крошечкина.
– Жалостев, конечно, мало, а невыгодно.
– Один же он у нас, такой бородач!
– Держим на развод!
– Ой, бабы, бабы, какие же вы стали языкатые. – Краснобрыжев покачал головой. – Послушаешь вас…
– Кузьмич, а ты уже испугался? – заговорила моложавая казачка с белыми зубами. – Это ж только одни слова, а действия тут никакого нету.
Редко встречая такую готовность к выезду в поле, Крошечкина радовалась и тому, что колхозницы весело шутят за работой, и тому, что девушка отыскала на огороде нужную на пахоте цепь. «Все ж таки, как там ни говори, – думала она, – а мужчина сильнее бабы…» Похвалу же эту Краснобрыжеву она не высказала. После осмотра хозяйства, когда Крошечкина вела на поводу своего коня, а Краснобрыжев шел рядом и спрашивал, что она скажет о подготовке бригад к севу, она сухо ответила:
– В общем неплохо, но хвалить тебя рано. Посмотрим, как будете сеять. У нас есть такие бабы-председатели, хоть бы та же Настенька Давыдова, что тебе трудновато будет за ними угнаться.
– Так я же хромой, – шутил Краснобрыжев, – как же мне за ними угнаться?
У крайней от выгона хаты остановились. Краснобрыжев, комкая в кулаке бороду, сказал:
– Паша, стемнеет – приеду. Только как же мы будем жить дальше?
– А что?
– Любовь наша тайная и, как я вижу, недолговечная. Кончится война, приедет Савва. Что тогда?
– Тогда и будем думать.
– Бросишь меня?
– А как же? Брошу…
Крошечкина тихонько смеялась, и Краснобрыжев не мог понять, шутила ли она или говорила правду.
– Не обижайся, Афанасий, – сказала она, подтягивая подпругу. – Пользуйся нашей добротой, пока мы без мужей. А придут мужья…
– Вот и я об этом часто думаю. Жениться мне, Паша, надо.
– Какую ж тебе подобрать женушку? – управившись с седлом, спросила Крошечкина.
– Вот такую, как ты.
– Выбрось эту дурь из головы. – Крошечкина поймала ногой стремя и легко села в седло. – Ну приезжай вечерком!
И ускакала. Всю дорогу ехала рысью, думая то о Дарье Сороке, то о той казачке с белыми зубами, которая, как ей показалось, доверчиво и ласково посмотрела на Краснобрыжева. Проезжая по берегу Кубани, приостановила коня, ехала шагом. «Недолговечная любовь, – вспомнила слова Краснобрыжева. – Вернется Савва, что тогда? А разве моя дурная голова знает, что тогда будет? Тебе, Афанасий, ничего не будет, а вот мне достанется. Узнает Савва – пропадай моя головушка…»
VIII
Март выдался ненастный и сырой. До двадцатых чисел не было ни одного погожего дня. Косматилось тучами небо, с утра и до ночи то моросил холодный, с ветром дождь, то кружил лапчатый, тающий на земле снег. И только в конце месяца потеплело. Очистилось небо, щедро светило солнце, и степь сразу ожила, помолодела. В какие-то два-три дня красочно зазеленела озимь, потянулась к теплу трава, густо запестрели подснежники. По неезженым дорогам потянулись плуги, сеялки, загремели брички, груженные зерном, боронами, бочонками с водой. Оставив домашние хлопоты, люди перебрались в поле с детьми, с постелями и чугунами. Крошечкина загнала «Венгера», птицей летая по степи. В какую бригаду она ни приезжала, всюду пахота, боронование шли медленно. Особенно ее огорчала бригада Дуняшки Скозубцевой, в которой было поставлено в борозду двадцать шесть коров. Запряженные цугом по три пары, они устало брели по борозде, и плуг еле-еле двигался. В обед плугаторши останавливали свои упряжки, брали ведра и тут же на борозде начинали доить коров.
– Дуняша! – кричала Крошечкина, привстав на стремени. – И на какого дьявола вы их еще и доите? Хватит с них и плуга!
За неделю до того, как наступили погожие дни, тракторная бригада Ирины Коломийцевой уже была в поле. Два колесных трактора тянули вагончик на низеньких колесах. Он раскачивался, глухо гремела железная крыша, и потрескивала дощатая обшивка. В раскрытые двери летели напевные звуки двухрядки. Страдающий женский голос подпевал:
Ой, хмарыться-туманыться,
Та нызько хмары ходют…
Другой голос, еще более высокий и жалостливый, подхватывал:
Ой, чи до тэбэ, мой миленок,
Та письма нэ доходют…
Новые шипы тракторов старательно конопатили землю, оставляя зубчатый след. Плуги, прицепленные один к другому, точно нанизанные на шнур раки, длинным хвостом волочились за вагоном.
Танк, или «командирская машина», далеко отстал от колесных тракторов. Управляющую танком Коломийцеву задержал Григорий Цыганков. Механик вернулся из района в тот момент, когда танк с наскоро закрашенным крестом уже выползал со двора. К нему была прицеплена воловья арба с коротким дышлом и с высоченными драбинами. На арбе теснились железные бочки с горючим, бочки со смазочным маслом, кадки с желтым, под цвет топленого масла, тавотом. На бочках, подостлав солому, сидели две казачки, сонно жмурясь и грустно поглядывая на Цыганкова. Ирина, в стареньком комбинезоне, похожая на летчицу, повязывалась платком и рассеянно слушала наказ механика.
– Гриша, ты как докладчик, – сказала Ирина. – И говоришь, и говоришь, а мне и без слов все понятно. Ну, поеду я не в Сторожевую, а в Садовый – это раз. Еще что? Только короче, не тяни за душу!
– Короче нельзя. Запомни, что ты едешь в Садовый, а там такие бабы под водительством Крошечкиной, такие бабы…
– Знаю, знаю и не боюсь, – сердилась Ирина. – Еще что?
– А еще то, что они легко могут тебя сагитировать, чтоб ты запахала землю в Черкесской балке, каковая земля принадлежит Яман-Джалге. – Болезненное лицо Цыганкова сделалось строгим и совсем бледным. – На совещании Чикильдина приказала не пахать землю в Черкесской балке.
– Все, что ль? Ой, и долго!
– Нет, не все, – продолжал Цыганков. – Скажи Крошечкиной словами ее сестры Ольги Алексеевны, чтобы для танка выделила крепкую землю.
– Ну я поехала!
Ирина взобралась на броню. Григорий скупо улыбнулся, видя, как Ирина опустила ноги в люк.
– Трудновато тебе нырять в ту дырку, – сказал Григорий. – Комплекция мешает.
Подали голос и скучавшие на возу трактористки.
– Без Степана растолстела!
– Застрадалась, бедняжка!
– Да, малость тесновата дырочка, – согласилась Ирина.
Она опустилась в люк, уселась на пружинистое сиденье и включила мотор. Две выхлопные трубы обдали черным дымом арбу, и танк, рокоча и вздрагивая, направился из станицы. В смотровую щель сочился ветерок. За станицей Ирина напала на зубчатый след. Танк набирал скорость, раскачивался, точно лодка на встречной волне. Ирина не заметила, как под гусеницы, вспениваясь брызгами, ушла широкая лужа. Ирина дала полный газ. Танк накренился вперед, грязная вода под ним расступилась. Глубоко врезаясь в промокшую почву, гусеницы с трудом выбрались из воды. Только тут Ирина вспомнила о трактористках. Заглушила мотор, выглянула из люка и ахнула. Воз стоял посреди калюжины с оторванным дышлом. До смерти перепуганные трактористки были забрызганы грязью. Марьяна размазывала по лицу грязь и не знала, плакать или смеяться.
– Ой, мамочки, что ж я с вами наделала! – крикнула Ирина.
– Будь оно проклято, это стальное страшилище, – упавшим голосом сказала Марья. – Думала, что вместе с возом взлетим до неба.
– Ирина, разве ж так ездят, – упрекала другая трактористка. – Или ты в бой летела? Чуть арбу не разорвала, и нас могла поубивать в этой луже!
– Подружки, милые, сейчас я вас выручу из беды.
С помощью троса вытянули воз и вблизи Садового нагнали колесные тракторы с вагоном и плугами. По хутору Ирина ехала впереди на малых скоростях. Со дворов выходили женщины, они махали косынками, гурьбой бежали ребятишки, бросая под гусеницы картузы и шапки.
– Погляди, вот скачет немецкая танка!
– Тю-лю-лю!
– Доскакалась!
– Здόрово ей вязы свернули!
– На полных скоростях тикала с Кубани!
– И не утикла!
Возле хуторского Совета собрался народ. На крылечке колыхался старенький флаг. Крошечкина велела казачкам поставить на середине улицы стол, накрыть его скатертью и положить хлеб и соль. Люди запрудили всю улицу, когда танк медленно приблизился к столу. Умолк мотор. Ирина выглянула из люка.
– Бабы! – крикнула она. – Это что за преграда?
– Противотанковая оборона!
– Дальше ходу нету!
– Тогда придется нам занимать круговую оборону. – Ирина проворно выбралась на броню. – Эй, дивчата, а ну ко мне!
К Ирине подошел Алексей Афанасьевич Чикильдин. На руках у него рушник с петухами на концах. Бережно, на ладонях, Алексей Афанасьевич нес перевязанную рушником буханку, на которой стояла деревянная солонка. Наступило молчание.
– Дочки и внучки, – сказал Чикильдин. – Принимайте из рук самого старого этот хлеб и соль. Пусть же будет вам так легко пахать нашу землю, как мне хлеб-соль держать.
– Спасибо, дедушка, – принимая хлеб, сказала Ирина. – Зачем же нам такая почесть? Или мы какие воины-герои?
– Хоть и не воины, а люди для нас дюже пригожие.
Ирина отдала хлеб Марьяне и подошла к Крошечкиной.
– Ну, хозяйка, где мы будем пахать? – спросила она.
– Отойдем в сторонку.
Они подошли к плетню.
– Землю мы вам отвели хорошую – тут за Садовым. Два клина. – Крошечкина положила руку Ирине на плечо. – Послушай, подружка, что я тебе скажу. Кроме тех двух клинов у нас есть особо неотложная пахота, и хорошо б послать туда этот трактор с дулом.
– Это что ж за неотложная пахота?
– Шестьдесят гектаров под ячмень. Мы их засеваем для фронта сверх всякого плана. Кто знает, – Крошечкина улыбнулась, – может, и твой муженек покормит тем зерном своего коня?
– Моему Степану ячмень не нужен, – сухо ответила Ирина, догадываясь, к чему клонится этот разговор. – Мой муж артиллерист.
– Ну это ничего, что он артиллерист, – продолжала Крошечкина. – Многие казаки воюют, конечно, не на конях, это я понимаю, а все ж таки ячмень для войска нужен. Как думаешь, нужен?
– Прасковья, а ты как наш механик. Говори короче. Что тебе надо?
– Вспахать в одну ночь шестьдесят гектаров. Сможешь, сестричка?
– Почему в одну ночь? А днем?
– Днем нельзя. Эта земля яман-джалгинцев. Ее надо пахать ночью.
– Воруешь?
– Зачем же воровать? – Крошечкина с упреком посмотрела на бригадиршу. – Верно, земля принадлежит Яман-джалгинскому Совету. Но она ж пятый год лежит без дела, вся бурьяном поросла. Вот бы ее танком и поднять? Ну, согласна?
– Нет, не согласна.
– Да ты что? Почему ж такой отказ?
– Вспахать бы можно, дело это стоящее, – рассудительно заговорила Ирина. – Но твоя сестра не велит.
– Ольга?
– Она.
– Так при чем же тут моя сестра? – Крошечкина развела руками. – Ты яман-джалгинского преда знаешь? Не знаешь? Есть там такой приятный старик Осадчий Тихон Ильич. Так вот этот Тихон Ильич отдает нам свою землю. Ему не под силу, а мы подымем. Я поеду к нему завтра, и мы все это уладим без моей сестры. Да и Ольга Алексеевна нас поддержит.
– Ну, если так, – согласилась Ирина, – тогда за нами дело не станет.
– Ну вот, подружка, мы и столковались.
– Только за одну ночь такой клин не возьмем.
Через час за Садовым, недалеко от дороги, раскинулся бригадный лагерь. Танк с двумя многокорпусными плугами сделал почин. Лемеха вошли в еще сырую землю. По блеклой стерне потянулась свежая борозда. Перевернутая земля неярко поблескивала, черные ее кушаки все расширялись и расширялись.








